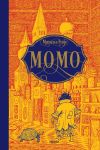Текст книги "Продолжение времени"

Автор книги: Владимир Солоухин
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Вот фрагменты из его итальянских дневников.
«Стою около Леонардо и Микеланджело. Боже мой! Боже мой! Великие, помогите!!! Неужели у меня нет этого пламени? Тогда не стоят жить».
«Я начинаю чувствовать Леонардо… Мне в картине надо сделать так, чтобы на некоторые головы упала тень, голова частично затенена».
«Караваджо. „Ослепление Савла“. Ритм пятен – рук, ног, ног лошади и сама лошадь: белое, светло-серо-желтое и черное. Надо ставить большие проблемы в живописи. Проблемы самой живописи. Надо от безразличия, тупости и пошлости вздернуться до экстаза!!!»
«Веронезе. Помни кроваво-красный плащ, помни, как упали тени на фон ниши, помни свет на нише…»
«Помни, как глядел на него издали, он высился над толпой и был прорисован сильнее толпы».
«Помни Веронезе – „Дарий с дочерьми и Александр“. Помни самого Александра в розовом и рядом рыцарь. Какие позы! Какой аристократизм! Какое благородство!»
«Рембрандт. „Философ“. Помни свет, упадший, и тень и фигура философа, свет – космос. Мысль. Тень. Боже, какое величие!»
«Помни трагическую прорисовку „Раба“ Микеланджело. Картину надо так же прорисовать»,
«Помни… живописную проблему поставить во весь рост. Живопись должна быть плотная. Помни локальность тонов в „Похоронах“. Белый. Черный. Красный»,
«Помни синий тон Христа, вверху сзади белый готический трон. Величаво-торжественно. Помни!» «Брут» Микеланджело. Великая вещь! Так помни, как он освещен, как у него рисуется рот, помни в одном месте, как совсем смазывается (мягко), помни!.. Поворот шеи… Трактовка плаща!»
«Тело Христа серо-зеленого тона, драпировка белая. Высокий трагизм… все серо-темное с жуткими бликами тела Христа, розово-красных драпировок и белого… У меня центр картины с Холмогоровым и Трифоном должен быть такого же пафоса и напряжения».
«Палаццо Дожей. Тинторетто. „Пьета“. Драпировка – занавес. Тени темно-серые, света светлые» выцветающей марены. Трагический тон. Помни этот тон. Торжественность. Вот как надо трактовать». «На светло-розовом знамени – силуэты зеленовато-серые, темные, воинов… Этот эффект надо применить где-то в картине».
«Душа его (Микеланджело) велика и грандиозна, дальше его великих концепций надо смотреть хребты Гималаев».
«Великие мужи Флоренции! Высоко вы подняли знамя человеческого духа. Вам – носителям высоких идеалов… клятва наша „в искусстве дивном победить или умереть!“
«Сердце наполняется желанием следовать за Вами. Если жить, то мой клич: „На ваши высоты!“
«…выставка живописи современных художников, которые теперь что-то значат здесь, в Париже. Как это убого! Потом были в Сахане (в Гранд-Пале). Не море, а целый океан пошлости. Здесь об искусстве говорить нельзя, а только о разных градусах этой пошлости. Вся эта пошлая дрянь никакого отношения к искусству не имеет. Слышите ли вы меня, Великие? Кричу вам, зову вас. Помогите, помогите, помогите!!»
Когда думаешь, как и сколько учился Корин, как готовил он себя к дальнейшему пути, складывается впечатление, что подготовки этой хватило бы на несколько художнических жизней.
Правда, и замысел, который к этому времени созрел в нем и под знаком которого прошла вся творческая жизнь Павла Дмитриевича, был велик и серьезен.
Михаил Васильевич Нестеров так говорил о Корине и его замысле Ивану Петровичу Павлову. Ведь он, Нестеров, писал портрет Павлова в Колтушах (знаменитый теперь портрет, где Павлов держит на столе сжатые кулаки), ну, а во время сеансов двум старым русским интеллигентам было о чем поговорить:
«До сих пор наши художники давали лишь эпизоды революции, а ее эпопеи не дал никто. Никто не обобщил этих эпизодов, не отобрал в одно целое, в главное, как сделал большой художник Делакруа, взяв темой французскую революцию, или, перенесясь за две-полторы тысячи лет назад в иную эпоху, иную революцию, совершенную Христом, его евангельским учением, сделал великий художник Возрождения в своей „Тайной вечере“ или наш Александр Иванов в „Явлении Христа народу“.
Вот это-то обобщение под силу лишь большому таланту, каким я считаю Павла Корина»[5]5
Этот и все последующие фрагменты цитируются по монографии Алексея Михайлова «Павел Корин». М., 1965.
[Закрыть]. Уже сам этот коринский замысел в те годы надо считать дерзостью, если не подвигом, недаром Корин восклицал: «Великие, помогите», и «Победить или умереть», и «На ваши высоты!», и опять: «Помогите, помогите, помогите!»
Обстановка в первой половине и середине двадцатых годов сложилась следующая.
Корин живет и работает на Арбате, на чердаке многоэтажного дома. Фанатически учится, как мы говорили, и пишет второстепенные вещи вплоть до вывесок. Так что Соколов-Скаля, увидев однажды молодого художника, попенял ему:
– Корин, Корин, вы рисуете, как Микеланджелс, а занимаетесь вывесками.
Это надо понимать так, что внутренне, духовно Корин был уже готов к чему-то большему и даже, быть может, предчувствовал рождение в себе замысла, поэтому и не брался за большие, трудоемкие и серьезные вещи. Самой серьезной работой этого времени надо считать изображение собственной мастерской (акварель) под названием «В мастерской художника». И хотя эту акварель тогда же приобрела Третьяковская галерея, все-таки это пустячок. Поэты тоже, когда не пишется, начинают писать стихи о стихах и о том, что не пишется.
Но чердачная мастерская – это еще не вся обстановка. Мастерские художников очень часто бывают на чердаках. Обстановка вокруг чердака, вокруг арбатского дома и вокруг самого Арбата – вот на что важно взглянуть.
Это было время, когда на обломках предыдущего не родилось еще ничего нового. Молодое послереволюционное искусство еще не нашло себя. Господствовали левацкие загибы, группки и теченьица, разнообразные «ничевоки», футуристы, конструктивисты, МАППы, РАППы, много было гонора, самовосхваления, ниспровержений, злопыхательства, много было новоявленных гениев, не было только искусства.
«Профессорами художественных мастерских становились люди, именовавшие себя великими реформаторами, изобретателями невиданных форм, но не умевшие при всем том удовлетворительно нарисовать человеческую фигуру или художественно-правдиво передать живописные отношения, наблюдающиеся в действительности».
Это было время, когда требовали сбросить Пушкина «с корабля современности» и кричали: «Расстреливайте Растрелли!»
Та пошлость, которую Корин заклеймил в своих дневниках (смотри выше), разлилась тогда вширь и вдаль.
Это было время, когда для нового контингента ВХУТЕМАСа (бывшая Школа живописи и ваяния) на учебные холсты для всевозможных кубистических упражнений изрезали двенадцатиметровый шедевр Рериха «Град Китеж».
Корин однажды, идя мимо ВХУТЕМАСа, увидел, что все гипсовые копии с античных скульптур, на которых он сам так недавно учился рисовать, выброшены и свалены в кучу на дворе (тоже – с корабля современности. Да, оно и хорошо: если заниматься рисованием, то обнаружится, что рисовать никто из них не умеет и не хочет, но каждый сразу хочет стать великим художником), причем большинство копий превращено в обломки.
Наняв извозчика, вместе с братом Корин бережно подобрал что поцелее и увез к себе на чердак. Когда тащил Венеру, она едва не задавила его на повороте лестницы[6]6
*Эти гипсы и сейчас хранятся в мастерской Корина.
[Закрыть].
Мне однажды уже приходилось писать о таком понятии, как диктат среды («Письма из Русского музея»), когда формально художнику (поэту, писателю, музыканту) никто как будто не запрещает делать то или это, но когда он под влиянием окружающей атмосферы сам, добровольно будет делать то, что диктует ему сложившаяся обстановка,среда.
Так, на современном Западе, где господствуют авангардистские течения в живописи (и в музыке, разумеется, тоже), художнику-реалисту никто не запрещает выставить реалистическое произведение живописи, но он сам, быть может, не высунется с ним, чтобы не оказаться «белой вороной», не в ногу со временем, с эпохой.
Только на пути преодоления террора среды, будь то в эпоху Возрождения, будь то у нас в XIX веке и позже, рождались большие и великие художники (поэты, писатели, музыканты).
Повторим, что само рождение коринского замысла в те годы было дерзким, если не подвигом.
Рождение замысла в душе творческого человека подобно вспышке пламени, когда искра попадает в горючий материал. Накапливаются впечатления, чувства, возникает в душе определенное «горючее» состояние, потом – искра, и вспыхивает пламя замысла. Еще это можно сравнить с химическим опытом, который всем нам показывали в школе. Берем насыщенный (перенасыщенный) раствор какой-нибудь соли. Прозрачная жидкость. Однако она перенасыщена. Бросаем в жидкость крупинку вещества (той же соли), и тотчас начинается выпадение кристаллов. На глазах в бесцветной и пустой как будто бы жидкости формируется похожее на цветок строгостью и четкостью своей формы кристаллическое образование. Похоже на чудо.
Если это так, то самая первая вспышка замысла картины «Реквием» относится к 1925 году, а роль искры сыграли похороны патриарха Тихона в Донском монастыре. Но, значит, перенасыщена к этому времени была душа, сыта по горло.
Корин не уставал повторять (говорил и пишущему эти строки), что замысел его возник вдруг из музыки (из хорового пения), из панихиды (отсюда и «Реквием»), и будущая картина тоже мерещилась как музыка, воплощенная в краски на огромном холсте.
Несомненно также тут и влияние Александра Иванова с его «Явлением Христа народу». Боготворя этого художника, Корин перенял у него и основной метод работы: этюды, этюды и этюды. Смешно сейчас сказать кому-нибудь из современных художников, но даже свои чисто пейзажные картины «Палех» и «Моя родина» Корин предварил многочисленными этюдами: трав и цветов, кочки, поросшей мхом, ели, заката с облаками – всего более двадцати пейзажных этюдов, чтобы получился потом один пейзаж. Кстати сказать, как и у Иванова, этюды Корина часто являются самостоятельными произведениями живописи, вполне законченными (при его добросовестности) и прекрасными.
Ну, уж если прежде чем написать цветок или болотную кочку на картине, Корин делал сначала подготовительные этюды цветка и болотной кочки, то что говорить о монументальном, эпохальном, глубоко психологически обобщенном полотне с размещением на нем более полусотни людей?
Тут надо было Павлу Дмитриевичу решить одну важную тактическую задачу, и он ее блестяще решил. Писать предстояло духовенство, церковных людей, начиная от иерархов церкви, кончая простыми монахами, схимницами, дьяконами, нищими богомольцами. Согласятся ли они все позировать художнику, мало того что светскому, но еще и советскому? Только через четыре года после возникновения замысла Корин взялся за первый этюд к картине. Первой своей «жертвой» он избрал митрополита Трифона, крупнейшего представителя тогдашних церковных верхов, а главное – пользующегося огромным авторитетом у верующих. Не знаю, как уж удалось Корину подвигнуть митрополита на позирование, вероятно, не обошлось без Михаила Васильевича Нестерова, который, в свою очередь, безусловно пользовался авторитетом у церкви. Да и у самого Корина, пусть молодого художника, все же не было репутации ниспровержителя, воинствующего безбожника, футуриста, а было, напротив, иконописное прошлое. Так или иначе, митрополит Трифон позировал, и начало было положено. А потом другим, при уговаривании их, достаточно было показать написанного Трифона и добавить: «Митрополит согласился, значит, нужное дело, почему же вы не хотите?»
Схимницы, священники, иеромонахи после переговоров приходили в мастерскую Корина сами. Крестьянина с сыном Павел Дмитриевич увидел на Каменном (кажется) мосту и уговорил. Безногого нищего нашел на папертях и на чердак тащил на руках. Нищий жил в мастерской несколько дней, и приходилось потом выводить насекомых. Слепого нищего Корин тоже подобрал где-то на папертях.
Как художник Корин тогда известен не был. На художественных выставках не выставлялся, в разных там группировках или, скажем, творческих объединениях не состоял.
Между тем, по Москве, во всяком случае, в кругах, близких к искусству, пошли слухи, что некий молодой художник, некто Корин, в эпоху, когда идет борьба за советскую тему, за показ нового, рожденного Октябрьской революцией, когда художественные выставки называются «Труд, революция, быт», «Жизнь народов СССР», «Десять лет Красной Армии», что в это время некий молодой художник, некто Корин, сидит где-то на Арбате на чердаке и пишет митрополитов, иеромонахов, схимниц, протодьяконов, одним словом – попов, а в придачу к ним слепых и безногих нищих, подобранных на церковных папертях. Притом пишет какие-то необыкновенные этюды больших размеров, так что каждый этюд по живописным достоинствам, по психологической глубине, по проработке годится быть самостоятельной картиной.
Не знаю, какими личными качествами художника легче всего объяснить его дерзость. Требовалось и личное мужество, Оно несомненно было, но велика была и одержимость идеей замысла. Совершившийся в душе художника творческий акт требовал воплощения в красках, а искусство (настоящее искусство) всегда немножечко – самозабвение. Кроме того, настоящий художник, творец, всегда немножечко ребенок. Он смотрит на мир огромными, широко открытыми глазами, взглядом стихийно-мудрым в силу дарованного художнику таланта, но более того – взглядом восторженным и наивным. В отстаивании своих принципов настоящий художник может пойти на костер, на плаху – вовсе не потому, что он такой уж бесчувственный и прирожденный храбрец, но просто потому, что это для него наиболее естественная линия поведения. Он и не догадывается, что можно вести себя иначе. В творческой одержимости есть что-то от одержимости физиологической, когда ради одного свидания с любимой или любимым люди иногда рискуют не только положением, состоянием, но и жизнью.
Так или иначе, а слухи по Москве поползли. Уже и нарком Луначарский наведался в мастерскую на чердаке, чтобы лично удостовериться, что и как.
Неизвестно, какая атмосфера начала бы складываться вокруг молодого Корина и чем бы все это для него кончилось, но наступило 3 сентября 1931 года – день, который Павел Дмитриевич считал знаменательным, если не великим днем своей жизни.
В этот день утром ему сказали, что внизу на лестнице, на третьем этаже, остановился поднимающийся в мастерскую Максим Горький. Корин кубарем скатился вниз. Горького, воспользовавшись его остановкой от одышки, отговаривали идти выше. Здоровье дороже. Горький заколебался. Тут и появился сбежавший вниз Корин.
– Ну, если уж сам художник нас встречает, надо идти. Нехорошо возвращаться.
Горький долго глядел на расставленные этюды, оценивал, собирался с мыслями. Он понимал, что одна его фраза может сейчас решить судьбу не только этого замысла, но и художника вообще. Все ждали с замиранием приговора высшей инстанции, и больше всех Корин. Наконец Горький произнес:
– Вы – большой художник. Отлично. У вас есть что сказать людям. Вы находитесь накануне написания большой картины, обязательно напишите ее.
Судьбоносное событие произошло, судьбоносные слова были произнесены.
Дальше все началось как в сказке. Горький в то время собирался в Италию и вдруг пригласил Корина поехать с ним.
Поездка длилась семь месяцев. Из этой поездки Павел Дмитриевич привез множество альбомов с рисунками, дневники (выдержки из которых мы приводили) и большой портрет Алексея Максимовича, Горький сам предложил писать этот портрет, не из тщеславия, конечно, но – «будет Корину чем отчитаться за поездку».
Итальянская поездка обогатила коринский архив ста шестьюдесятью письмами к Прасковье Тихоновне. Все эти письма – об искусстве и представляют огромный интерес (кажется, скоро они будут изданы).
Между тем чудеса продолжались. Для картины нужен был холст шесть метров на восемь, а для холста соответствующее помещение. Горький сделал для Корина и то и другое. Холст, как уж нами упоминалось, был соткан с большими сложностями в Ленинграде по специальному заказу. Что касается мастерской, то Горький нашел и районе Усачевского рынка, в глухих дворах между многоэтажными домами, просторное техническое помещение (не то гараж, не то прачечную), которое и переоборудовали под мастерскую, а одновременно и под жилье. Когда Корин вошел в первую комнату этого дома, он восхитился ее размерами и стал благодарить Алексея Максимовича за щедрый подарок, не зная еще и не смея помыслить, что не только одна эта комната, но и весь дом отныне принадлежит ему.
С новой энергией Корин берется за работу. Этюды к картине множатся. Двухметрового и трехметрового размера. Они превращаются в целую галерею (всего их окажется тридцать шесть!) глубоких, трагических портретов.
Обычно в монографиях, в искусствоведческих книгах искусствоведы пытаются словами пересказать то, что изображено на описываемых ими картинах. Ну, например, так:
«…старуха схимница, стоящая в церкви. Она вся в черном. Клобук закрывает ей голову, на плечах накидка, платье под накидкой темное с зеленоватым оттенком… Из-под клобука выступает очерченное резкими линиями лицо серо-воскового, пергаментного тона, как будто высушенное и навсегда определившееся в своих формах, с крепко сжатыми губами большого рта. Глаза сохранили ясность взгляда. Схимница только что перекрестилась и стоит еще несколько наклонившись, пальцы правой руки, сложенные в трехперстие… Горящая свеча, прикрепленная к пальцу, это такая деталь, которую мог создать только художник, много наблюдавший… Она не боится, если капли горячего воска попадут ей на руку, как не побоялась бы в нужный момент взять пальцами горящий уголь…»
«…В его глазах не только исступленность, но и трагический ужас перед надвинувшейся катастрофой. Так смотрит только тот, кто видит впереди что-то для себя страшное и неотвратимое».
«Изображен священник в ризе с епитрахилью и в темной рясе… Лицо взято в три четверти, благодаря чему резко очерчена линия носа с небольшой горбинкой… Взгляд острый и суровый. В его фигуре, во всем облике чувствуется что-то мощное, первобытное. Он сидит как какой-то король на троне в трагедии Шекспира, Так мог сидеть, нетерпеливо сжимая посох, с гневным взором патриарх Никон, готовящийся возразить царю Алексею Михайловичу… Так мог держаться митрополит Московский, но не простой священник 20-х годов XX века». «…С открытыми в мучительной мольбе, стонущими устами, с пустыми, провалившимися глазницами, он медленно передвигается, выставив вперед дрожащие руки… Как прекрасно вылеплен высокий, благородный по своим формам лоб, острый нос, полуоткрытый рот с крупными редкими зубами… Сильно освещенный лоб, правая щека и левая глазная впадина оттеняются глубокими тенями в левой части лица… Как Лаокоон, сжатый вместе с сыновьями в гигантских змеиных кольцах, умирая в невыносимых страданиях, обращался с трагической мольбой о спасении к своим богам, так и слепой на исходе своей мучительной жизни…»
«Черное переходит в темно-зеленое под накидкой и в пепельно-зеленоватое с рыжими оттенками в фоне. Эти сдержанные и суровые краски… Образ вековой, характер, как будто вырубленный из одного куска камня, предстает перед нами в этом этюде».
Они, конечно, – искусствоведы и должны уметь рассказывать про живопись словами. К тому же почти всегда их текст сопровождает самое репродуцированную живопись, так что можно читать, глядя на то, о чем читаешь. Но и то нетрудно заметить, что искусствоведческое описание всегда делится на два типа. Первое – описание живописи как таковой (или рисунка). «Серо-зеленый тон, переходящий в темный…», «…резко очерченный подбородок, впадина на щеке, лицо в три четверти…», «…тревожные тона подчеркивают трагичность в трактовке этой фигуры».
На этом пути искусствоведу легче сохранить объективность, но труднее достигнуть практического результата. Действительно, разбирается же искусствовед в тонах и в их переходах из одного в другой. И ежели он не дальтоник, то он никогда светло-зеленый не назовет светло-розовым и даже светло-серым.
А практический результат в этой части описания живописи словами невелик потому, что сколько ни пиши о тонах и оттенках, все равно никакого полного представления о картине у читателя не составится, пока он ее не увидит сам. А если он ее уже увидел, то зачем ему втолковывать, что светло-зеленое переходит в светлосерое…
Описания второго типа касаются так называемой «литературной» стороны картины или этюда, того, о чем картина, они касаются сюжета, мысли как таковой (а не чисто живописной), идеи в конечном счете.
На этом пути практический результат достижим почти полностью, но зато больше субъективного в трактовке разбираемого произведения. Когда слепой нищий сравнивается с Лаокооном, это великолепно, убедительно, помогает лучше и глубже понять полотно. Однако не всегда и не обязательно трактовка искусствоведа совпадает с тем, что хотел сказать сам художник.
Обратимся, например, к описанию и трактовке самого первого коринского этюда, изображающего митрополита Трифона. Здесь, как и везде, мы найдем оба типа искусствоведческого описания предмета.
1. «Яркий красный тон одетого на митрополите саккоса в сочетании со сверкающим золотом креста, панагии и вышитых украшений, с мерцанием драгоценных камней звучит торжественно и празднично».
Тут ни убавить, ни прибавить. Но все же, чтобы торжественность и праздничность передалась зрителю и стала его достоянием, взволновала, картину все равно нужно увидеть. От описания красок волнения не произойдет.
2. «…Гневный, требовательный, не терпящий никакого инакомыслия и возражений фанатик, олицетворяющий воинствующую верхушку церкви…»
Тут, напротив, не надо ничего и смотреть, надо только поверить искусствоведу. Но зато, увидев, зритель, очень возможно, в разбираемом образе прочитает что-нибудь другое, совсем другое, трактует образ по-своему.
Возможен и такой искусствоведческий пассаж:
«Начиная работу над этюдом-портретом митрополита Трифона, художник относился к своей модели с определенном сочувствием. Он хотел изобразить его в момент душевного подъема, в момент экстаза. Но как художник-реалист Корин, независимо от своих субъективных расположений, отразил в образе Трифона объективную слабость церкви и ее руководителей в период, когда…»
Приводя эти примеры (а их можно выписывать страницами), я не хотел бы бросить тень на великолепную (лучшую пока что) монографию о Корине Алексея Михайлова. Просто я хочу сказать, что о живописи рассказывать неимоверно трудно, если вообще возможно. Либо все равно не передашь того, что на полотне (краски, тона, оттенки, общее воздействие живописи на человека), либо выскажешь лишь свое понимание, свою интерпретацию происходящего, чем не очень искушенного зрителя можно сбить с толку. Эти вечные в искусстве «что» и «как». Что сказано и как сказано. «Как» – не перескажешь, а «что» – подгонишь под свое понимание вещи. Надо к тому же согласиться с А. Михайловым (по существу, а не применительно к «Митрополиту Трифону» Корина), что иногда художник хотел сказать одно, а на деле у него получилось другое. Как ни доказывал потом Гоголь, что в «Мертвых душах» он хотел воспеть действительность, а не уязвить ее сатирическим пером, никто уж его не слушал. И «птица-тройка», конечно, ничего не спасала.
Из всего вышесказанного следует, что, говоря о живописи, не нужно навязывать зрителю овоей трактовки, своей точки зрения, своей версии. Как будто правильно. Но я тотчас же начну опровергать сам себя. Этюды Корина (все тридцать шесть) нельзя смотреть, нельзя понять всей их глубины (а вместе с тем величия Корина как художника), не зная некоторой тайны предполагавшейся картины. Нет, смотреть их, конечно, можно, и – вот она, великолепная живопись, тридцать шесть портретов, исполненных в рост, удивительных по своей глубине, по психологизму и по трагизму, что же еще тут можно увидеть? Ну, собрал бы Корин их всех на одном холсте, получился бы групповой портрет, стой перед ним и разглядывай – хочешь каждого по отдельности, хочешь (всех сразу. Корин оставил ведь нам эскиз будущей (предполагавшейся) картины, так что можно сначала наглядеться на эскиз, запомнить, как там расставлены все «действующие лица», а потом разглядывать по отдельности большие этюды.
По общепринятому мнению, картина должна была изображать выход из Успенского собора в Кремле всех изображенных людей. Но достаточно взглянуть на эскиз несостоявшейся картины, чтобы увидеть, что люди эти никуда не идут, они стоят. Но если они стоят, то почему спиной к алтарю и иксностасу, а лицом к выходу? Так в церкви никто никогда не стоит, разве что и правда перед выходом из нее. Это-то положение изображенных и наталкивает всех на самую ближайшую мысль – они выходят. Но они не выходят. Это видно и из сугубо статичного положения фигур, а главным образом– из той напряженности, которая у них на лицах. Дело в том, что они не выходят, а ждут. В этом и есть та маленькая тайна коринского замысла, которую непременно надо знать при разглядывании его этюдов. Да, все эти люди, олицетворяющие уходящую, побежденную Октябрем Россию, стоят в интерьере Успенского (главного в России) собора, спиной к алтарю, а лицом к входным дверям. Они стоят и ждут. За стенами собора, в Москве, в стране все уже произошло. Железный, беспощадный (к ним) ветер революции уже свистит, уже гуляет снаружи, над собором, над Кремлем, над всей Россией. Вот-вот двери распахнутся, и этот ветер, ветер революции, ворвется в собор и сдует, выдует всех, и останется пуст Успенский собор…
Теперь-то вот и надо смотреть на этюды: кто как ждет. В этом все дело. А ждут они все по-разному. Посмотрите теперь на безногого нищего, на митрополита Трифона, на крестьянина с сыном, на молодого монаха, на слепого, на схимницу, на молодого иеромонаха, на молодую монахиню, на иеромонаха (в этюде «иеромонах и епископ»), на всех на них, посмотрите, наконец, на этюд «Спас Яркое око», тоже приготовленный ведь для этого полотна (хоть он и не попал на эскиз картины, но все равно он выражает замысел), посмотрите на все с точки зрения «кто как ждет», и у вас в руках окажется ключ.
Только этим ключом можно открыть сокровищницу коринского искусства. Сразу наступает нечто вроде прозрения, каждый образ, созданный Кориным, становится стократ ярче, выразительнее, богаче, психологичнее, глубже, трагедийнее, обобщеннее, драгоценнее и просто точнее, до восторга перед мастерством и могуществом кисти Корина.
Тут совершенно прав автор монографии Алексей Михайлов, говоря о Павле Дмитриевиче: «Он поднимается к высоким художественным обобщениям, к несравненному мастерству в раскрытии психологии, внутреннего душевного состояния своих героев. Ему становятся доступными глубочайшие трагические постижения».
К 1937 году все эти этюды были закончены. Но положение художника осложнилось. К этому времени, как известно, умер Горький. Корин лишился сильного, авторитетного покровителя и защитника.
Учитывая всю сложность тех лет, можно понять Корина и его решение остановиться и прекратить работу над «Реквиемом».
С этого времени он пишет портреты современников: Михаила Васильевича Нестерова, актера Леонидова, Алексея Толстого, Надежды Алексеевны Пешковой, Сарьяна, Игумнова, маршала Жукова, Коненкова и многих-других…
Мы уже говорили, что Павел Дмитриевич приготовил себя на семь художнических жизней. Его выучка, его работоспособность оказались и правда удивительными, богатырскими. Он одновременно с созданием портретов современников реставрирует картины Дрезденской галереи, которая тогда находилась в Москве, он автор красочных мозаик в оформлении метро на станции «Комсомольская-кольцевая», а также витражей на станции «Новослободская». Он пишет триптих «Александр Невский», а затем триптих «Дмитрий Донской»…
Несомненно, усилий (и лет), потраченных на все это, хватило бы заполнить холст, приготовленный для «Реквиема», но холст продолжал оставаться чистым.
Между тем известность Корина как замечательного художника росла. И это, заметим, без главного, которое хранилось в мастерской, недоступное зрителю, без хотя бы единой персональной выставки. Только к семидесятилетию Павла Дмитриевича, в 1962 году, за пять лет до его смерти, тронулся лед.
В залах Академии живописи на Кропоткинской открывается его первая (и последняя) персональная выставка.
С тех пор прошло почти двадцать лет, но многие все же помнят, наверное, эту выставку и всю атмосферу вокруг нее. Ну да, это был триумф Корина, но были еще и дополнительные оттенки. Дело в том, что в соседних залах были выставлены картины нескольких художников, представленных в тот год на Ленинскую премию[7]7
П. Д. Корин тоже был представлен, но это было совпадение. Его выставка была персональной в связи с его семидесятилетием.
[Закрыть]. И вот получалось так, что зрители мельком взглядывали на остальные залы, а толпились, и спорили, и горячились, и восхищались исключительно в зале Корина. Устроителям выставки пришлось даже пойти на маленькую хитрость. У Павла Дмитриевича была открытая и всем доступная книга отзывов, а в остальных залах стояли закрытые урны (или почтовые ящики, если хотите), в которые можно было опускать свои отзывы.
Я сижу в тихом коринском доме. Пусто в этот утренний час. Прасковья Тихоновна где-то в других комнатах, ее не слышно, не видно. Я сижу за столом (в столовой), где сидел несколько раз и при хозяине. В кресле хозяина теперь фотопортрет Павла Дмитриевича, а перед ним на столе живые цветы. Громко тикают старинные часы, отрубая от времени мелкие секундочки, да иногда вдалеке, как сквозь воду, как трамвай на другом конце улицы, звонит телефон. Звонок слышно, а голоса Прасковьи Тихоновны – нет.
Я сижу и снова прочитываю книгу отзывов. В двух томах, я бы сказал, ибо в одной книге все отзывы тогда, двадцать лет назад, не уместились. Тишина коринского дома как бы взрывается. Я слышу гул, говор, шарканье ног, возбужденные голоса. Я погружаюсь в ту бурную, накаленную атмосферу.
Приглашаю читателей не читать, конечно, оба тома, но хотя бы полистать их вместе со мной. Когда еше представится такая возможность. Комментировать ничего не будем, равно как и обнародовать подписи. Во-первых, люди расписывались не для публикации, а во-вторых, большинство подписей действительно неразборчиво. Скажу только, что тут есть инженеры, художника. скульпторы, летчики, поэты, учителя, конструкторы, шахтеры, студенты, математики, химики, геологи, экономисты, медики, священники, вплоть до патриарха Алексия… Не говоря уж о том, что многие не указывали своих профессий.
* * *
«Эта выставка – настоящий праздник русской культуры»,
* * *
«Спасибо великому русскому художнику».
* * *
«Я вижу родство с лучшими традициями русской литературы, в частности с Достоевским».
* * *
«Вот где мощь человеческого духа, величие и красота его».
* * *
«Жаль, что эти картины не выставлялись до сих пор».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?