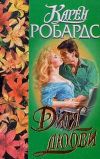Текст книги "Горькую чашу – до дна!"

Автор книги: Йоханнес Зиммель
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Йоханнес Марио Зиммель
Горькую чашу – до дна!
Боюсь, что вся поэзия немного лжива.
Паоло Леви. Путь темен
ПЕРВАЯ КАССЕТА
1
Я хорошо помню тот миг, когда я умер впервые. Потом я еще несколько раз умирал, но место и время того первого раза неизгладимы из моей памяти, она будет хранить их, пока я жив: Гамбург, 27 октября 1959 года.
В то утро над городом пронесся дикий шквал, и, вспоминая о нем, я вновь слышу, как ветер буйствует, завывает, стонет и ухает в заводских трубах, как он сотрясает черепичные и железные крыши, вывески, ставни, решетки и жалюзи. Этот ураган ворвался в путаницу моих сновидений, я услышал и ощутил его раньше, чем телефонный звонок вырвал меня из сна.
Телефонный аппарат стоял возле кровати. Я включил настольную лампу, так как оконные занавеси были задернуты. Голова трещала, вкус во рту был отвратительный, меня замутило, как только я сел. Рядом с телефоном я увидел сигареты, пепельницу, недопитый стакан теплого виски, трубочку снотворных таблеток, золотой крестик и мои наручные часы. Они показывали три минуты девятого.
Дверь в ванную комнату была открыта. Через матовое стекло за ванной в спальню проникал отвратительный свинцовый свет раннего утра и над кроватью смешивался с отвратительным слабым светом лампы.
Сняв трубку, я почувствовал запах виски, и к горлу подступила тошнота.
– Говорит коммутатор отеля. Доброе утро, мистер Джордан. Боюсь, я вас разбудила.
– Да.
– Очень жаль. Но я справилась у всех телефонисток. Вы не просили вас не беспокоить.
– Забыл.
Я еще не совсем проснулся и потому не мог составить связной фразы. Тут я почувствовал еще и запах окурков; немного виски пролилось в пепельницу, и окурки, впитав влагу, лопнули, побурели, пожелтели и даже почернели.
– Вам звонят из-за океана, из Калифорнии, Пасифик-Пэлисэйдс. Согласны ли вы оплатить разговор?
– Какой разговор?
– Вызов не оплачен. На проводе Шерли Бромфилд.
– Моя дочь?
– Нет. Мисс Шерли Бромфилд.
– Это моя дочь. Вернее, падчерица. Зачем я говорю это телефонистке? Пора наконец проснуться.
– Соедините.
– Значит, вы оплатите разговор?
– Ну конечно же!
– Не кладите трубку.
Я услышал щелчок, потом в трубке зашуршало и загудело, и я услышал обрывки слов и фраз, сумбурно носившихся над океаном с обоих континентов.
– Нью-Йорк… Центральная…
– Можете соединить с Пасифик-Пэлисэйдс? Добавочный Крествью пять-два-два-два-три. Гамбург согласен на разговор…
За дамастовыми шторами медового цвета, закрывавшими всю стену спальни, одна створка окна была распахнута. Я видел, как тяжелый шелк вздувался и трепетал, чувствовал ледяное дыхание бури и слышал, как она гремит, гудит и завывает снаружи. Сквозило. Вытяжка в ванной была открыта.
– Алло, Нью-Йорк, центральная…
– Сейчас, Гамбург, сейчас…
На ковре у кровати валялись помятые и скомканные газеты, немецкие и американские. На обложке одного журнала красовалось мое лицо. На мне была синяя спортивная рубашка с открытым воротом. Этот снимок сделал еще Джо Шварц, стендовый фотограф в Голливуде. На нем я выглядел тридцатилетним, на семь лет моложе, чем на самом деле. В моих коротко стриженных черных волосах попадалось уже много седых, но их закрасили, а морщинки вокруг голубых глаз отретушировали. Только здоровый цвет лица не был липой, он был настоящий. Я неделями загорал, прежде чем приехал в Европу. Узкое лицо, высокий лоб, сильный подбородок, прекрасные зубы (сплошь фарфоровые коронки). Улыбаясь, я демонстрировал на этом фото лихость, решительность и уверенность в себе. То есть черты характера, которых у меня никогда и в помине не было, тем паче теперь.
Двадцать лет спустя:
Питер Джордан, юная кинозвезда и незабываемый любимец Америки, вновь снимается в кино
Сквозняк шевелил валявшиеся на ковре газеты, они вздрагивали, дышали, как живые. Телефонистка по ту сторону океана заговорила:
– Гамбург, вы меня слышите? Даю Пасифик-Пэлисэйдс.
Опять раздался щелчок. И вот я услышал ее голос – так громко, так близко, так отчетливо, что я вздрогнул.
– Питер?
Казалось, она тут, рядом со мной, в комнате. Я заговорил по-английски:
– Шерли! Что-нибудь случилось?
– Да… – Ее тоненький детский голос дрожал, словно она едва удерживалась, чтобы не расплакаться.
– Что-нибудь с мамой?
– Нет. При чем тут мама?
– Как это – «при чем»? Ты откуда говоришь?
– Из дому. – Ей было девятнадцать, но голос звучал совсем по-детски. Отделенный от нее океаном и континентом, я слышал ее дыхание – судорожное, испуганное и учащенное.
– Шерли! Стон.
– Скажи мне сейчас же, что случилось!
И она сказала мне своим тоненьким голоском, который звучал совсем по-детски:
– Папит, у меня будет ребенок.
2
Папит.
Она назвала меня «Папит» – впервые за много лет. Ей было четыре года, когда мы с ней познакомились, и она возненавидела меня, словно я был тем самым исчадием ада, которым ее и других маленьких девочек стращал священник: только под страхом наказания можно было заставить ее назвать меня «дядя Питер» – да и то сквозь зубы и отвернувшись. В ту пору она все время грозила матери: «Мой папа умер, но я все равно буду его любить, только его одного! И если ты выйдешь замуж за этого дядю Питера, я тебе никогда не прощу!»
Когда мы поженились, ей было шесть, и после свадьбы она сказала мне голосом, глухим от ненависти: «Ты не мой папа. И я никогда не стану называть тебя папой, хоть убейте. Ради мамы буду называть тебя Папит, «Пит» от «Питер». К тринадцати годам ее ненависть не разгорелась, но все же тлела. Пожав плечами, она заявила: «Папит звучит как-то слишком по-детски». И впредь я стал для нее «Питером» – на целых шесть лет, вплоть до сегодняшнего дня.
Трубка выскользнула из моей мгновенно вспотевшей руки и шмякнулась на колени. Мембрана прохрипела:
– Папит… Ты меня понял?
Я схватил трубку обеими руками и вновь почувствовал запах виски и мокрых окурков. Кровать подо мной слегка закачалась.
– Шерли… Вдруг тебя кто-нибудь услышит?
– Никто меня не услышит.
– Где мама?
– В театре. С Бэйкерами. И еще – я ведь заказала разговор за твой счет. Чтобы она не обнаружила эту сумму на счете телефонной компании.
Кровать теперь раскачивалась заметнее, да и воздуха мне стало не хватать.
– Как это – «в театре»? Который теперь час, по-твоему?
– Начало двенадцатого.
– А где слуги?
– Я говорю из твоего бунгало. – (Мое бунгало стояло в стороне от главного дома, и там был свой телефон.) – Никто нас не подслушивает.
– А здесь, в отеле? На коммутаторе?
– Папит, ты меня понял? Я…
– Не произноси этого слова!
Боже правый. Что, если бы жена сейчас вернулась и стала искать дочь? Что, если кто-нибудь подслушивает под окном бунгало? Я выдавил:
– Не верю. Не может этого быть.
– Я была сегодня у врача.
– Врач ошибся.
– Я была у него дважды. Сегодня и две недели назад.
– Две недели назад я еще был дома. Почему ты тогда ничего мне не сказала?
– Я… Не хотела тебя волновать… – Детский голос задрожал. – Я думала, просто задержка… А ты так нервничал из-за фильма…
– Кто этот врач?
– Его адрес мне дала подруга. Он живет в Лос-Анджелесе. Я была очень осторожна. И ездила к нему только на такси. Он не знает моей настоящей фамилии.
– И что же он?
– Сделал две пробы. С мышами. И с пшеничными зернами.
– Ну и как?
– Все подтвердилось. Он совершенно уверен. Второй месяц. – Вдруг она сорвалась на крик: – Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Но я хочу его сохранить!
– Не кричи!
– Ты должен немедленно поговорить с мамой… Теперь надо кончать…
– Шерли, прекрати!
– …Я его не отдам! Скорее наложу на себя руки! Он – часть…
Чтобы заглушить ее голос, я заорал:
– Замолчи!
Она умолкла. Я слышал, как шумно она дышала.
– Ты что, совсем с ума сошла? Хочешь, чтобы разразился скандал?
Этот разговор был чистым самоубийством. Любая телефонистка с коммутатора, услышав последние фазы, могла сообразить, что к чему, и начать меня шантажировать. Я прохрипел в трубку:
– Прости, что я на тебя накричал.
Она всхлипнула.
– Не плачь.
Она зарыдала.
– Перестань плакать. Ну пожалуйста. Прошу тебя, перестань, Шерли!
Но она продолжала рыдать. Мне хотелось ее утешить, шепнуть нежные слова, осыпать ее уверениями в любви, но ничего этого я сделать не мог. Я вынужден был сохранять рассудок и благоразумие, если надеялся еще спасти нас обоих от этой лавины бед. Я вынужден заставить себя держаться с ней жестоко и грубо, не раскисать.
– Ты будешь делать только то, что я тебе скажу. Поняла?
– Но мама…
– Мама ничего не должна знать. Если она что-то заподозрит, мы пропали.
– Я больше не могу… Я не выдержу… Папит, я не могу глядеть ей в глаза… Не могу с ней говорить…
Я слышал голос Шерли, любимый ее голос: такой же чистый, такой же трогательный, каким он оставался в моей памяти после всех тех ночей и объятий, полных отчаяния и сознания вины, которыми сменилось опьянение первых встреч. Я был старше. Опытнее. Если я сейчас не совладаю с нервами, мы оба пропали. И я вновь заставил себя держаться с ней холодно, твердо и жестко.
– Мы говорим по телефону. И не имеем права рисковать. Положи трубку. Я тебе напишу. Сегодня же. И пошлю авиапочтой, экспресс. До востребования. Главпочтамт. Пасифик-Пэлисэйдс. Как всегда.
– И что же… Что же?
– Все будет в письме. В Лос-Анджелесе у меня есть друзья. Они помогут.
– Не хочу ничьей помощи!
– Ты сделаешь так, как я напишу. В нашей… в этой ситуации ты просто не можешь поступить иначе. Разве ты этого не понимаешь?
Молчание. Потом над пустынями, горами и лесами Нового Света, над темными глубинами океана до моего уха донесся шепот несчастного ребенка, и сердце мое болезненно сжалось:
– Я… понимаю…
– Вот и хорошо. – Холодным, безжалостным и холодным я был обязан оставаться, если хотел помочь нам обоим, если хотел оградить нас от гибели и грязи, скандала и позора.
– А можно мне… можно мне пойти к отцу Хорэсу?
Так звали ее священника. Мать воспитала Шерли верующей католичкой. И теперь она страдала от этого. С тех пор как между нами все началось, я не позволял ей исповедоваться. Она подчинилась, потому что любила меня, но я уверен, что мрачные пророчества и кары, предназначенные ее религией для таких грешников, как мы, преследовали ее и в тяжких, мучительных снах.
– Ни в коем случае! Ты не пойдешь к нему, слышишь?
– Но я должна! Я должна все сказать ему, Папит!
– Нет!
– Я буду проклята… Мне никогда не простится, если я не…
– Не хочу больше слышать об этом! Ни слова, понимаешь, ни единого слова об этом ты не скажешь ни одной живой душе!
Молчание.
– Повтори!
– Ни слова… Ни единого слова…
– Ни отцу Хорэсу, ни подруге, никому.
И голос, растерянный детский голос, запинаясь и захлебываясь слезами, прошептал мне в ухо:
– Сделаю все, как ты скажешь… Только так, как ты скажешь… Прости, что я причиняю тебе столько волнений…
Меня прошиб пот. А я-то? Я-то что ей причинил?
– Бедная моя девочка… – «Бедная моя девочка» – это-то мог сказать отец своей дочери, так или нет, коммутатор? – Ты должна теперь быть благоразумной… – Этого ведь мог отец потребовать от своей дочери, так или нет, любезные дамы на телефонных станциях в Гамбурге, в Пасифик-Пэлисэйдс и на центральной в Нью-Йорке?
– Папит, я тебя люблю!
I love you, сказала она. Это-то могла ведь сказать расстроенная дочь своему отцу? По-английски это звучало иначе, по-английски можно было это сказать.
– Надо кончать разговор.
– Я тебя люблю. У меня есть только ты. Я здесь совсем одна.
– Все будет хорошо.
– Не вешай трубку! Скажи мне тоже, что любишь, пожалуйста, скажи! – То вверх, то вниз ходуном ходила подо мной кровать.
– Спокойной ночи, Шерли!
– Скажи мне, прошу тебя! Мне тогда не будет так страшно!
Я сказал:
– I love you, Shirley. I love you with all my heart. По-английски это звучало иначе. По-английски отец мог сказать это своей дочери, любезные дамы в Пасифик-Пэлисэйдс, Нью-Йорке и Гамбурге. Я люблю тебя, Шерли, я люблю тебя всем сердцем, сказал я своей падчерице, которая ждала от меня ребенка.
3
Я был женат тринадцать лет. Жена была на десять лет меня старше – и, значит, уже не молода. Я изменил ей с ее дочерью: я, кому было вверено воспитание, образование, попечение и забота о дочери. Я собирался расстаться с женой, навсегда уйти от нее ради этой девочки, ее дочери, моей падчерицы.
Человек, совершающий такие поступки и имеющий такие желания, наверняка вызовет у окружающих отвращение и горечь. Если бы все это было романом, а не историей болезни, написанной главным образом для двух вполне конкретных людей, то замысел его можно было бы счесть весьма рискованным. Ибо считается, что герой романа должен вызывать симпатию. Читатели должны в него влюбиться. В такого, как я, не мог бы влюбиться ни один читатель (тем более – читательница, ведь каждая из них сама супруга, мать или молодая девушка). Я был бы, так сказать, антиподом обычного героя романа, антигероем.
Но я боюсь, что и те два человека, для которых пишется моя исповедь, по ходу чтения не раз в ужасе отвернутся от этих страниц. И поэтому прошу их подавить отвращение и дочитать все до конца. Я обещаю им мало-помалу пролить свет на первопричины происшедшей драмы, вскрыть глубокие корни той трагедии, обреченным актером которой я был. Может статься, тогда они смогут лучше меня понять. Я прошу понимания, а отнюдь не жалости. Итак, проявите терпение и подавите естественное отвращение, очень прошу.
После того как положил трубку на рычаг, я впал в какой-то транс, в какое-то призрачное спокойствие. Словно лунатик, медленно встал с кровати, вытащил из-под шелестящей груды газет шлепанцы, надел халат и раздвинул тяжелые занавеси.
Сквозь открытую створку окна на меня набросился ледяной ветер. Я увидел зеленовато-серую реку, голые черные деревья, улицы, поблескивающие лужами от прошедшего ночью дождя, оба Ломбардских моста, старый и новый. Людей на улицах было мало. Все они боролись с ураганным ветром, сутулясь и вбирая голову в плечи. С высоты седьмого этажа, на котором я находился, они казались такими же игрушечными и до смешного маленькими, как и редкие машины. На рябой от ветра реке покачивалось несколько белых пароходиков. Большинство их стояло на причалах у молов. Под мокрыми навесами пустынных пристаней сидело множество чаек, плотно прижавшись друг к другу.
По небу стремительно неслись черные, бурые, зеленые, грязно-серые тучи. Вдоль берегов реки Альстер горели все фонари, матовые шары тянулись длинными цепочками светящихся жемчужин.
Параграф 327, раздел IV «Уголовного кодекса штата Калифорния» гласит: «Тюремным заключением на срок не менее одного года карается лицо, склонившее к сожительству несовершеннолетнего (-юю), не достигшего (-ую) 21 года… вверенных его попечению, воспитанию, образованию и заботе…»
Раздел IV 327-го параграфа я знал наизусть. Пусть никто не думает, что я не жил в непрестанном страхе с той ночи, когда это случилось, пусть никто не предполагает, что я не сознавал всей тяжести преступления, которое я совершал – тогда и потом еще много-много раз. И все же – что значат этика, мораль и сознание вины по сравнению со страшнейшей из всех болезней, ужаснейшей из всех эпидемий и смертельнейшей из мук, которую мы в своей самонадеянности называли любовью?
Параграф 327, раздел IV «Уголовного кодекса штата Калифорния» гласит…
Не из одного лишь страха выучил я этот параграф наизусть. Было время, когда я хотел повиниться и понести наказание, хотел сам положить конец всему. Время это минуло. Теперь я был полон решимости защищать свою любовь, единственную настоящую любовь в моей жизни, которую, однако, никто не мог понять, никто не мог простить. Ради нее, ради того, чтобы ее сохранить и оградить, пустился я в авантюру, которую теперь мне предстояло выдержать здесь, в Гамбурге.
I love you, Shirley, I love you with all my heart.
Я закрыл створку окна, стекло которого дрожало и позвякивало, и прошел (голова кружилась все сильнее и сильнее) во вторую комнату своего номера, гостиную. Здесь я тоже отдернул занавеси на окнах. За огромными стеклами был балкон. На его полу, защищенная от ветра каменной балюстрадой, лежала мертвая чайка. Вероятно, она попыталась взлететь и была отброшена ветром на стену отеля, расшиблась и упала на балкон. Вокруг валялись сломанные перья, грудную клетку птицы расплющило, из нее вывалились окровавленные внутренности, и лишь голова осталась неповрежденной. Зоркие, хитрые глаза были открыты и глядели на меня подозрительно, словно и она знала текст того параграфа.
А что такое вообще параграф закона? Кто создает законы? Люди, чтобы защитить одних людей от других. Да только – что за люди сами законодатели? Разве могут они представить себе все обстоятельства, в которых оказываются люди? В том числе и самые гибельные, самые критические? Разве они, эти законодатели, пили из той чаши, из которой довелось испить мне?
Мертвые глаза чайки глядели на меня, как бы говоря: развратник, обманщик, подлец.
Я отвел глаза.
Обогнув письменный стол, я пошел к камину, на котором стояла фотография Шерли. Стол был завален. Я заметил кучки монет, стопки банкнотов, счета, большие листы калькуляции расходов по фильму и его сценарий, на титульном листе которого значилось:
Питер Джордан в фильме
«Вновь на экране»
Производство «Джокос»
Стены гостиной были обтянуты матовым шелком в темно-красную и золотую полоску. Изящная гнутая мебель в стиле барокко была обита тем же золотистым дамастом, которым были завешены окна. Пол покрывал темно-красный пушистый ковер, на котором лежал один-единственный продолговатый коврик ручной работы. На стенах висели хрустальные бра и старинные гравюры. Направляясь к давным-давно остывшему камину, я бросил на них взгляд: одна изображала осаду датчанами вольного ганзейского города Гамбурга в 1686 году, другая – Готхольда Эфраима Лессинга перед вновь открытым Немецким Национальным театром, третья – маршала Даву при обороне Гамбурга во время освободительных войн. Но вот я у камина, и фотография Шерли прямо у меня перед глазами.
Цветная фотография в серебряной рамке, на которой видно лишь ее лицо. Кожа у Шерли безупречная – она такая гладкая, такая юная! И загар у нее золотистого оттенка. Огненно-рыжие длинные волосы плотно обрамляют лицо и, перекинутые через правое плечо, свободно ниспадают широкой волной на грудь. Нос у нее узкий, а рот довольно крупный. И помада цикламенового цвета. Зеленые глаза Шерли, осененные сиреневыми веками, смотрят из-под густых черных бровей. Насколько голос ее звучал совсем по-детски, настолько взрослой выглядела она в свои девятнадцать лет. Девятнадцать лет!
Мне было тридцать семь, я был почти вдвое старше. То, что я сделал и что еще собираюсь сделать, наверное, было в глазах законодателей не только преступлением, но еще и чистым безумием. Приятельницы моей жены говорили о Шерли с восхищением, к которому примешивалась зависть:
– У тебя такая взрослая дочь – и такая еще невинная, неиспорченная.
– Я наблюдала за ней. Она никогда ни с кем не кокетничает. И вообще не интересуется мужчинами.
– Ты можешь считать себя счастливой матерью, Джоан. Моей Рамоне всего лишь пятнадцать. Не решаюсь вам рассказать, что она учиняет.
– Моя Мэри удрала из дому в семнадцать лет, ты ведь знаешь. Молодежь нынче испорченная, раннеспелая, дурная. Шерли кажется мне чудом. Тебе выпало редкое счастье, Джоан!
И жена моя обычно возражала что-то вроде:
– Если бы только она хоть чуточку лучше относилась к моему мужу. Но она все еще любит своего отца. И не может мне простить, что после его смерти я опять вышла замуж…
Перед фотографией Шерли я стоял, не двигаясь. И беззвучно говорил ей: «Этого ребенка ты не можешь себе позволить. Это последняя жертва, которую я вынужден потребовать от тебя. Скоро я буду свободен. Скоро все будут знать, что мы любим друг друга. Тогда у нас с тобой будет ребенок, дитя нашей любви, обещаю тебе. И мы будем счастливы, мы оба, ты и я».
– Нет, – вдруг услышал я ее голос. Тоненький голосок донесся до меня сквозь завывание бури, словно замогильный печальный вздох с края земли. Взволнованный и скованный этим волнением, которое все росло и росло, я отчетливо расслышал ее слова; она произнесла их в тот плавящийся от жары день в моем бунгало, лежа обнаженной в моих объятиях, испепеленная страстью и сознанием вины: – Никогда мы не будем счастливы, потому что не делаем ничего, чтобы покончить с грехом. Господь нас не простит.
– Господь! Господь! Неужто так необходимо все время Его поминать?
– Ты в Него не веришь, вот тебе и легко.
То была правда. Наверное, мне бы и вовсе худо пришлось, если бы я в Него верил – после всего, что я знал о жизни. Бедная девочка. Горечь захлестнула меня.
– Если двое действительно любят друг друга, Он им все простит, ты сама это сказала.
– Только если они покаются…
– Шерли!
– Господь нам не простит, ибо Он нас не любит, не может больше любить…
Как же теперь сложатся ее отношения с Богом? Я вновь услышал ее голос: «Папит, у меня будет ребенок…»
И этому ребенку нельзя даровать жизнь.
Едва слышно донеслись до меня те слова Шерли, которые я не дал ей сказать по телефону: «Это убийство. Если я это сделаю, я буду убийцей».
Убийца, страдающий от содеянного и верящий в Бога, – разве это не сердцевина христианского учения? Кто лучше знал, что такое грех, кто выносил большие муки совести, чем убийца – ревностный христианин? Разве Богу не следует именно его простить прежде других грешников?
Я не мог больше смотреть в глаза Шерли. Отвернувшись, я встретился взглядом с Джоан. Ее фотография тоже стояла на камине. Между ними высилась стопка писем на серебряной тарелочке. Фотографию жены я поставил на камин по необходимости. Визитерам наверняка показалось бы странным, если бы они увидели лишь снимок моей падчерицы. Отдел связи с прессой моей кинофирмы выдавал меня репортерам за счастливого отца семейства.
Сорок семь лет было Джоан. В прежней жизни я любил двух женщин: мою мать и Джоан. Обе они были старше меня. Психоаналитикам всегда было что сказать на этот счет.
У Джоан все еще была фигура молодой девушки. Она сделала подтяжку кожи на лице, и теперь она казалась упругой и гладкой – но только на лице; кроме того, я-то знал, что такой она стала в результате операции. И всегда вспоминал об этом, когда прикасался к коже Шерли.
Темные волосы Джоан плотно облегали ее голову, острые кончики прядей с боков налезали на щеки, а надо лбом волосы вздымались двумя мягкими волнами, словно корона. Некогда она была очень хороша собой, это и теперь еще было видно. Вероятно, она еще возбуждала в мужчинах желание – иногда во время вечеринок я замечал, какими взглядами они ее провожают. С фотографии ее лицо улыбалось мне. Я шагнул в сторону. Карие глаза последовали за мной. Раньше я никогда не сталкивался с этим явлением. Я сделал еще один шаг, и глаза жены, смеющиеся и доверчивые, вновь последовали за мной. Смеющиеся и доверчивые?
Неужели и впрямь доверчивые? Неужели моя жена ни о чем не подозревала? А что, если она давно уже обо всем знала и лишь ждала своего часа в жажде отомстить за боль, которую я ей причинил? Глаза Джоан смеялись. Уж не надо мной ли?
«Если бы только она хоть чуточку лучше относилась к моему мужу…»
«Такая невинная, неиспорченная…»
«Господь нас не любит. Как можем мы быть счастливы?»
Взгляд мой начал блуждать по комнате. Глаза Шерли. Глаза Джоан. Готхольд Эфраим Лессинг. Маршал Луи Николя Даву, герцог Ауэрштедтский и князь Эгмюльский. Хрустальные бра со свечами. Окна. Шерли. Джоан. Злые глаза той мертвой чайки. Вдруг все каруселью завертелось вокруг меня, и тут же невидимый огромный кулак ударил меня под ребра.
Без всякого предупреждения он нанес мне удар убийственной силы так стремительно, что я и вздохнуть не успел, и меня обдало одновременно палящим жаром и ледяным холодом. Удар был так страшен, что я, сложившись пополам, как перочинный нож, боком осел в кресло перед камином. И в мозгу моем билась одна-единственная мысль, все подавившая и ввергшая меня в панику, пронзившая насквозь и свалившая с ног. Я решил, нет, я точно знал: я умираю.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?