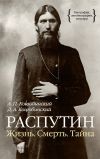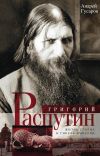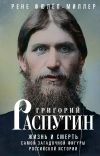Текст книги "Амальгама власти, или Откровения анти-Мессинга"

Автор книги: А. Веста
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Божий пес
Поздняя осень 1916 года,
Петроград
Часы на Петропавловской твердыне величаво и плавно пропели «Коль славен…», и двенадцатый полуночный удар рассыпался в морозной мгле валдайскими колокольцами. Фонари на Невском зашипели и погасли: военная экономия утвердила свои порядки. По широкому плацу Дворцовой раз и другой прошли караулы. Проскрипели поздние сани, и городовые, смахнув иней с мерлушковых воротников, оправились в круглосуточные заведения пропустить по стопочке сугревного, и только бессонный ангел на гранитном столпе одиноко вздымал свои золотые крылья в звездный зенит.
В зыбком лунном свете из-под арки Аничкова моста вынырнула легкая прозрачная тень, сродни бестелесным обитателям зыбких невских кладбищ. Ноги, обутые в заячьи коты, ступали легко, с носочка, и почти не оставляли следов на свежевыпавшей снежной парче. В правой руке полуночный странник держал батожок с резным верхом и при ходьбе словно щупал землю, прежде чем ступить, – давняя привычка ходока по топям и болотам. Он уверенно прошагал Литейный и повернул на Гороховую.
– Куда прешь? – прикрикнул замерзший филер, завернутый до глаз в стеганый шарф. – Кто такой, откуда?
– С Выгорецкого края, от тамошних старцев, Григория Ефимыча Новых видеть желаю, – смиренно ответил странник.
– И почто он тебе?
– Земляк он мой и сомолитвенник, семнадцать лет не виделись… Вот и гостинец ему несу – короб с молитвами и младенца-березоньку.
– Ты мне лясы-то не заговаривай, открой сидор!
Старичок послушно снял заплечную суму, филер сунул голову в берестяной пестерь, и его нос по-собачьи задергался.
– Чтобы его скрючило от твоих гостинцев, – пробурчал он и посмотрел наверх: в окнах верхнего, распутинского этажа полыхало оранжевое зарево и дребезжал расстроенный патефон.
У подъезда дежурили две пролетки, на случай, если «козлоплясу», как звали его в донесениях филеры, захочется ехать к цыганам…
Странник поднялся по черной неохраняемой лестнице, в темной передней снял полушубок, оправил рубаху и опояску с кистями, огладил длинные, густо примасленные волосы, но шапки не снял. Приготовившись таким образом, он толкнул дверь в гостиную.
– Земной поклон! – произнес он и приложил к сердцу маленькую, по-детски ровную ладошку.
В тот час у Распутина засиделись поздние гости: две барыни – сухощавая и «саечка», – там же сидел бледный, рано оплешивевший человек в простонародной, явно напоказ надетой сряде. К его плечу притулился юный кудреватый блондинчик с фарфоровым, как у куклы, личиком. В ту зиму в Питере был в моде русский стиль, и его шитая крестиком косоворотка, козловые сапожки и плисовые шаровары с напуском смотрелись щегольски.
Распутин радостно всплеснул руками:
– Земной поклон тебе, брат Селифан! – Он обнял странника за плечи, по-братски облобызал в уста, и дорогими духами повеяло от бороды и мягких, длинных, разобранных на пробор волос. – Сколько лет уже не виделись, не чаял тебя и узреть! – со слезами в голосе проговорил он. – Теперь не отпущу от себя… А ну-кась!
Распутин едва бровью повел, а дамы, как курицы, тотчас же слетели со своего насеста и стали торопливо прощаться.
Двое других гостей, наскоро дохлебав чай, тоже собрались уходить.
– Вот ведь видал? – бросил им вслед Распутин с нехорошей улыбкой. – Паренек-то этот, Сергей Осенин, василек с полей рязанских… Ликом светел, тонкоплеч и голосом усладен. Вирши слагает напевные, словно пастушья жалейка плачет. Давний знакомец мой Коля Клюев по салонам его водит, разным барыням показывает – до Мамы дойти хочет – и прочит его в мужицкие Спасы, во Христы народные! А силы-то настоящей в Сереженьке нет! Потому как на этом посту не гиацинтом пахучим надо сиять, не кимвалом сладкозвучным звенеть, а Божьим псом, святым кобелем брехать… Опять же, к похвале, как барышня, льнет… Говорили мне цари: Григорий, Григорий, ты – Христос, а я не возгордился, только хуже псом недостойным себя почитаю, раны их без устали зализываю и брешу на чужих! Потому и дрожат передо мной бесы пиджачные, и ненавидят, и трясутся…
Дамы внезапно вернулись, обе в лисьих капорах и бархатных шубах. Сухощавая метнулась к столу, схватила со стола стакан старца и жадно выдула остатки чая.
– Вот ведь настырная баба, – усмехнулся Распутин, – все норовит с той стороны лизнуть, где губа отпечаталась!
Упав на колени, барыни по очереди облобызали сапоги Распутина, да так, что на мехах и шелковых лентах остались следы черной ваксы.
– Зачем так сапоги густо мажешь, Григорий Ефимович? – с мягким укором спросил Селифан.
– А чтоб на всех хватило, – с темной усмешкой ответил Распутин, – чтобы уразумели, что есть чистота наружная, а есть душевное убеление.
– От больших городов чистота давно удалилась в пустыни, – заметил Селифан и, легонько вздохнув, снял шапку.
Распутин даже присел от удивления: на макушке у странника росло маленькое деревце с розово-золотистой корой.
– На Камени[1]1
Каменем или Камнем звались у староверов Уральские горы.
[Закрыть] с утеса свалился, головушку до кровушки размесил, там, должно быть, семечко в темечко и заронилось, – виновато улыбаясь, объяснил Селифан. – Там такие березы, что к любой щелке цепляются.
– Болеешь, поди? – горячо озаботился Распутин. – Так я тебя завтра лучшим докторам покажу, Крафту и Полянскому…
– Да ты, Григорий Ефимович, обо мне не печалуйся, меня земная мощь целит, и сие деревце мне не в тягость. По весне зазеленеет, по осени семена разбросает, и будет мне вроде дочки. Я ведь от юности – скопец…
– И то диво, нам маловерам во вразумление! – восхитился Распутин. – А я ведь чудеса разные ох как люблю! Девка бородатая у меня жила – тоже удивление! А вчера на Сенной увидал я архангельского сига ростом в сажень, в тот же час велел купить! Только удивлением одним сыт не будешь.
Распутин взял с фарфорового блюда холодного цыпленка и принялся грызть, громко, по-собачьи лязгая челюстями, сам – костлявый и нескладный, как есть кобель дворовый, с тяжелой и умной мордой, с маленькими, глубоко запавшими глазками, в которые смотреть бывает боязно и щекотно.
– Помолимся, брат, – кротко позвал его Селифан. – Вижу я, давно ты Богу истинному не молился.
Он коснулся сухонькими коленями пола и поднес ко лбу щепоть двоеперстия, точно целебное снадобье в горсти зажал, рядом с покорным вздохом опустился Распутин, но едва странник завел древние слова поморского распева, по этажу прокатился низкий утробный вой.
– Что, вроде как плачут? – удивился Селифанушка.
– Братишко мой тебе жалуется, – шепотом объяснил Распутин. – Только ты про это никому! Никшни! Ежели Бог тебе потайное открывает…
Долгий низкий стон снова пронесся по комнате.
– К добру ли, к худу? – тихо спросил Григорий.
– Да кто там у тебя?
– Все он, бесанька, – Распутин резким рывком поднял крышку рукомойника. – Вроде как никого нет, ан есть. Поселился, и ни крестом от него, ни пестом… Он, Он за меня и в кабаках пляшет, и слухи гнусные множит. От того и лилии-царевны, и Мама с Папой видеть меня отказываются… И знаю, что и Сам скучает, и Алешенька, кровинка малая, горемычная, тает как свечечка, чуть какой ветерок – она погаснуть норовит. Давеча, уже за полночь, я с цыганами гулял, – продолжил Распутин, – прислали от Царицы нарочного, полковника Ломана: у Алешеньки горлом кровь хлещет, доктора с ног сбились, не могут остановить. Оторвал я воротник от своей сорочки и говорю полковнику: приложи, братец, к горлышку Царевича – жив будет! Помогло, потому что сила моя простирается на всю мою натуру… Через меня Бог целит!
– Бог-то Бог. Да сам-то не будь плох!
– Ну садись, братик, к столу, нат-ка тебе балыка с ситничком, блинков с икоркой… да цимлянской водочкой запей… Да ты не пьешь, поди? Тогда чаю!
Сонная прислуга принесла жаркий самовар, и по горнице поплыли клубы пара. Распутин снял китайскую рубаху из крученой пряжи и остался в нательной сорочке, шитой серебром по голубому шелку, из тех, должно быть, что сама Государыня вышивала.
– Да вот же они твои сухарики-то черные, заветные, – спохватился Распутин, протягивая Селифану горсть ржаных корочек. – С них-то, с сухариков, все и пошло. Я на них, брат, даже моду в Питере завел, нынче черные сухарики, народной слезой присоленные, в салонах подают… и зовут распутинскими. Так я своей простотой им души жалю… Только им они вроде экспоната, а нам во спасение! Ты знаешь, каким дамам я тебя завтра представлю?! – обрадовался новой мысли Распутин. – Ты вот кого здесь в Питере знаешь? А хошь Царя узреть? Вот только пророчествовать не складись, они ведь привыкли, что только во мне – дух! А что говорю непонятно, так ведь это голос Земли! Я ведь не на словах, а духом действителен!
– Дух – то, что возникает между двух… – поправил его Селифан. – А слово есть обличение духа в словесную плоть…
– Верно говоришь! Вот и мое слово в Питере плотью становится, захочу – пестрого кобеля в губернаторы поставлю, захочу – самого зазудалого министра проведу из пешек в дамки! – В глазах Распутина пробежали и скрылись зеленые болотные огоньки, и снова глухо, недужно дохнул пленный голос. – А вчера солдатушкам раздавал пояски с моим образом, они от пуль и снарядов уберегают!
– Всех не убережешь, – вздохнул Селифанушка. – Как бы эта война тем блином не стала, который комом в горле становится!
– Когда Папа на войну решался, я в деревне был, – виновато признался Распутин. – Ни за что бы я кроволития не допустил! Я же на фронт хотел ехать, в передовые полки просился, написал бумагу Великому Князюшке Николаше.
– И что?
– А вот оно что!
Распутин пошарил на комоде, порыскал за зеркалом и достал мятую записку:
– «Приезжай, кобель, я тебя повешу!», – по складам прочитал он. – Это он мне, слышь ты, мужицкому царю, пишет! А ведь я, Григорий Ефимович Распутин-Новых, и есть истинный русский Царь, некоронованный, а все же Царь! И власть мне Русью Святой дарована! И на тайном Соборе я венчан, и сила моя – Ее сила, и мой дух – Ее дух! Через меня глаголит и дышит Огненный Разум народный.
В такие минуты восторга и боли старец против воли своей впадал в пророческий раж. Губы его побелели и тряслись, а глаза под навесами дремучих бровей налились нестерпимой синей слезой.
– Впереди у России кровь и мрак, но чую поступь того Царя, что придет за мной, ярмом железным пасти народы! – глухо проговорил он и умолк, кромсая сига большим серебряным ножом.
– Долго, долго продлится ночь души народной! – кивнул березкой Селифанушка. – Пора тебе, брат, в Солнцево селенье, там и бремя тяжкое с души сложишь, и покой обретешь. Зовет тебя Хозяйка, гостем желанным ждет…
– И то дело, – обрадовался Распутин. – Говорят мне добрые, любящие меня: «Возвращайся, Григорий, в Сибирь, туда, где родимая полосынька твоими ногтями взборонена, где на жениной могилке березка листвою шумит!» Вот ведь говорил я Папе: «Отчего в Сибирь не едешь, и железку уже проложили… Поезжай! Тем и Царство свое спасешь! Сибирь, – говорю, – пространна и обильна, а сибирский мужик волен и зажиточен. Он – твоя опора!» Только для благородных наша Сибирская сторона все равно что другая планида…
– Не поедет, повезут поневоле, – тихо обронил Селифанушка.
Кротко покачивая березовым стволиком, он принялся за еду, а хозяин самолично подкладывал ему то румяный расстегайчик, то пирога с визигой, да и себя не забывал.
– Привык я ночью у цыган сытно кушать, – признался Распутин, – но сегодня не поеду, уберег ты меня, Селифанушка, от греха…
Бронзовые часы с пухлыми ангелочками на крышке пробили третий час ночи.
– Вот ведь утро скоро, а мне утром в Соль с обозом, – заторопился Селиванушка. – Гостинцы я тебе привез: хлебы жизни от всех земель, а то ты все больше невским ветром да цыганской песней сыт.
– Ну доставай свои гостинцы, – вздохнул Распутин.
В мешке у странника оказалась розовая груша-дуля, свежая, точно только что сорванная, – хлыстовское причастие от кормщика вятского корабля, из тех, что признавали Распутина за своего Царя, несмотря на то что много лет он наружно ходил в «жестком Православии». Следом вынырнул ржаной каравай с крестообразной печатью с Понеги от Матери Сырой Земли, как называли старицу Фионию.
– А вот и просвира со святой Горы… – Селиванушка аккуратно выкладывал гостинцы на камчатую скатерть и называл дарителя. – А это от самой Хозяйки Енисейских гор.
Селифан достал флакончик фигурного стекла с притертой крышкой и, приоткрыв тугую пробку, легонько втянул тонкий смолистый запах:
– Вот оно, млеко земное, что у нас мощью зовется. Возьми для царских исцелений, а сие – для тебя одного!
Распутин, не веря своим глазам, вертел в ладонях крупный желтый лимон.
– В краю северных сияний выросло… попробуй… – лукаво улыбнулся Селифанушка.
– Больно кисл, – проронил Распутин. – Сажал я лимонное семечко на окне, сколько ни сажал – не растет. Вылущит второй листок и желтеет. Не пойму, в чем дело.
– Была бы благодать – умел бы отгадать, – заметил Селифан и продолжил серьезно и тихо: – Смертный корень в человеке – грех, был бы ты чист как стеклышко, вырастил бы зернышко, хоть лимонное, хоть горчичное…
– Так ты о вере моей судить пришел, – покачал головой Распутин. – А вера моя в делах!
– Так-то оно так, только слепы земные очи, во тьме кромешной бредем без посоха и без поводыря. Вот тебе и посошок под руку. – Он протянул старцу свою клюку и впрямь излаженную под рост Распутина. – Он тебя куда надо доведет.
Шевеля губами, Распутин прочел по зарубкам путь к Большому Камню, после по Всюганской равнине через Алтайское Беловодье и дальше вверх по Енисею до Солнцева селенья, выше были обозначены имена станков и пристаней, которые по перевалам и рукавам северных рек держали скрытники: знающий, да сочтет…
– Ну будь здоров, брат! Телом ты здрав, желаю тебе духом исцелиться…
Прощаясь, странник уже не поцеловал Распутина в уста, а земно поклонился ему.
– А Хозяйке скажи: будет Григорий Ефимович, непременно будет! Вот крепкий путь по рекам наладится – и приеду! – твердо обещал ему вслед Распутин.
Босый волк
В самой природе фейерверка уже таится предвестие гибели, и чем выше взлетают неверные светочи, чем ярче сияют, тем быстрее прогорают и меркнут, не успевая озарить даже собственную гибель.
В его молодой жизни это случилось впервые: о том, что его номер с хищниками исключен из новой программы, Аким Воронов узнал случайно. Какой-то авторитет в приемной комиссии заявил, что его волки мелковаты, а медведь-пенсионер годится разве что для тапочно-бандажных гастролей. Поговаривали, что белая рубаха с алыми славянскими вышивками смотрится чересчур вызывающе, а резные деревянные идолы вообще попахивают экстремизмом. Второе отделение будет «вытягивать» дрессировщик Ингибаров, вернувшийся из заграничного турне, а ему, Воронову, придется не просто сократить группу, а фактически уничтожить работу нескольких лет.
Конечно, можно уехать в провинцию и начать с нуля: зимой – крутить «утренники» в младших классах, садах и детских домах, а летом – глотать пыль в шапито. Но региональные и передвижные цирки закрываются один за другим, животные голодают, а ветеранов арены на заслуженном отдыхе списывают и усыпляют: нечем кормить молодых и работающих зверей. Ингибарову проще: за его спиной по-прежнему маячат большие деньги и родственные связи с влиятельной национальной диаспорой, по слухам владеющей третью московских капиталов, – а за плечом Акима – только его несомненный талант и дедовская наука.
Он был потомственным медвежьим вожаком, а тому, кто познал душу зверя, нет тайн и в человечьем сердце. Это внутреннее знание о звериной душе, о волчьем и медвежьем рае и о Богах – покровителях своего ремесла досталось ему от предков. Далекий пращур Акима, Аника Ворон, был сыт медвежьей пляской: водил медведя по ярмаркам, играл на сопели, и та скоморошья жалейка все еще рассыпалась жемчужной зернью в снах Акима.
Звери учили его бесконечной мудрости и терпению – и внезапному бешеному бунту, и он мечтал жить вот так же вольно и дико, слушая только голос своей крови и неумолчный набат сердца, но в мире бумажных законов, писанных кривдой, он был вынужден отступить и загнать свой гнев в клетку из ребер на самое дно алой пещеры и замкнуть его на тридевять замков. Но не таковы Вороновы, чтобы сдаться без боя…
После вечернего представления он наскоро простился со своими животными и, не заезжая домой, погнал машину по Владимирскому тракту. Часа через полтора впереди замелькали огни Киржача. Он остановил машину на темном пустом шоссе, вынул из багажника то немногое, что могло понадобиться ему в ближайшие час-полтора, и по едва приметной тропе пошел вглубь леса.
Эти гиблые болота между Киржачом и Петушками обходили стороной. Здесь, на укромном капище, несколько раз в году собиралась славянская языческая община «Коловрат». Здесь можно было не опасаться налета конной милиции или жалоб дачников на костры в лесу и подозрительные сборища.
Извилистый Киржач с севера огибал небольшую березовую рощу, южные подходы к капищу были укрыты буреломом и зарослями густого ольховника. Здесь жили молчаливые тени пращуров и стояли по кругу деревянные изваяния родных Богов.
Посредине лесной прогалины он сложил костер, и вскоре юный шумный огонь поднялся высоко, растопил снег и обнажил черную, парную землю. На круглый камень у ног женского идола он поставил чашу с красным вином, потом разделся до пояса, снял щегольские сапожки и ступил на капище босой. Грозовое электричество пробирало от ступней до макушки, и мышцы кололо злой, бодрой силой. Длинные соломенные пряди его волос ожили и заиграли на ветру; эта роскошная растительность снискала ему обожание поклонниц, но здесь, на капище, она дарила ему чувственное родство с ветром, с движением ветвей и пляской пламени в костре.
Прежде он никогда ни о чем не просил своих Богов, зная, что доброе и нужное придет само, а чужое и суетное было не нужно, но сегодня он впервые нуждался в их помощи, он стучал в ворота Смерти, в запертое чрево Тьмы и будил дремлющие тени:
– Марена черная, Марена вечная, Смерти Владычица! Слети черной лебедью на жертву мою, спой свою песнь прощальную, для врага погребальную!
Богам не нужны слова – Боги читают в сердце, но человек существо словесное и через Слово обретает себя в мире земном. Его жаркая мольба рождалась из сердечных глубин, из воя плакальщиц, из воплей радарей, впечатанных в его родовую память, – и эти едва слышные голоса безошибочно подсказывали ему, что делать и как говорить.
Он вынул из самодельных ножен, пристегнутых к поясу, ритуальный нож. Рукоять была выточена под его ладонь из карельского капа, а заостренная полоса помнила свет полной луны в ночь ковки. Нож был изготовлен по всем правилам и годился для цели, которой был предназначен.
– Кровь моя – то страва Твоя, власы мои – травы примогильные, руки мои – сучья мертвого древа… – шептал он слова черного потвора и, крепче сжав рукоять, надрезал запястье неглубоким точным движением.
Тяжелые крупные капли градом посыпались в ковш с красным вином.
– Так я отмыкаю полночные ворота, из Яви в Навь торю хода для недруга окаянна, кривдою черной обаянна. – Горло сводило судорогой, точно в эту секунду отравленная кровь врага волнами перетекала через его сердце и мозг.
Он поднял ковш к незримому во тьме лику и выплеснул на камень.
На поляну упал резкий сумрак, и зимний гром внезапно расколол небо и оглушил рощу до спящих корней и замерзших водяных жил. Эта гроза была ответом на его одинокий голос. Его услышали там, где земные звуки становятся тоньше волоса, и ответили раскатистым гневным грохотом.
– Размели его кости в своей черной мельнице для посева нового нескончаемого, чаемого… – шептал он и не слышал своего голоса. – Гой, Черна Мати! Гой-Ма! Возьми его к себе!
В чаще с треском упало дерево, сильный верховой ветер вразнобой раскачивал верхушки деревьев. Эта внезапная буря отмыкала дороги Нави и уносила слова заговора в поле.
– Прах к праху, земля к земле, в душе смерть, в глазах пустота…
Слова заговора сплетались, как вязь на могильных плитах, свивались влюбленными змеями и прорастали древом мести, со стальными листьями-кинжалами, с алыми, солеными, как кровь, плодами и с черными птицами печали на мертвых ветвях.
– Сомни! Сокруши! Разбей! Уничтожь! Раздави даже семя его…
Внезапно ненависть ушла, и дышалось теперь глубоко и свободно, словно его услышали по ту строну Небес и усмирили бурю в сердце.
На обратном пути к шоссе его накрыла метель, снежная буря заметала четкую строчку следов на тропе. Возвращаться в город в такую погоду не хотелось, и он завернул машину с шоссе на старую грунтовую дорогу и поехал к зимовью.
Эта маленькая избушка принадлежала кому-то из общинников, и все знали, где лежит ключ. Печь-буржуйка и широкие лежанки из теса, протянутые вдоль стен, превращали ее в теплое и уютное гнездо. Здесь же и ночевали, если засиживались дотемна и не успевали на последнюю электричку. В сенях в двух больших сундуках хранилось имущество общины: резные братины, шкуры и берестяные маски-личины для зимних праздников. В сенцах лежали топоры, пилы и хозяйственный скарб. За избушкой была пристроена кузница, где сами общинники изредка ковали подковы «на счастье» и заготовки для ритуальных ножей.
Он зажег огонь в печурке и долго сидел рядом с топкой, рассеянно наблюдая пляску прозрачных огневиц над обугленными бревнами. Когда-то, вот так же глядя в ночное пламя, он понял, как вывести свой скромный номер в разряд лучших цирковых постановок. Он даже назвал его «На капище», нимало не стесняясь того, что явит свою святыню на цирковой арене. Цирк и представлялся ему этой потерянной святыней, жертвенным служением, опасным волховским танцем между светом и тьмой, между жизнью и смертью… И если быть жестче и точнее, то цирк был для зверей чем-то вроде церкви для людей. Лишая их природной свободы, он очеловечивал и возвышал их ради таинственной цели, даже туманные очертания которой были скрыты от глаз Акима. В этой слепоте и незнании он был един со своими животными, обреченными к такой же короткой и темной жизни в неволе. Он знал, что цирковые звери или, к примеру, служебные овчарки намертво втягиваются в работу и, отлученные от нее, быстро гаснут и теряют радость жизни, поэтому и не любил рассказов о жестокостях цирка…
Дедовская наука говорила о другом: со зверем надо разговаривать на его языке – языке боли, ласки и голода. Это знание перешло к нему от далекого пращура, беспаспортного бродяги, топтавшего поля и веси с верным другом, пристегнутым цепью за серебряное кольцо, продетое сквозь носовую перемычку. Это кольцо, по-дедовски «скоба», было символом пожизненной связи человека и зверя, а сам секрет скоморошьего ремесла назывался странным словом «кобение», «кобельим языком», а то и попросту «кобью». Скоморошья кобь состояла из сложной системы знаков, паролей и шифров, которые действовали безотказно.
– Брат мой, волк! – шептал Аким и, глядя в глаза зверя, ловил в его зрачках искру кровной приязни и безмолвную клятву в верности. – Я – как ты… – И это короткое величание превращало поджарого выжлеца в могучего зверя, исполина прошлых времен.
Аким даже сложил что-то вроде детской песенки-пароля:
Ты – как я! Я – как ты…
Яко ты, мы якуты!
Наше «я» стоит между нами и Богом… Этот простой заговор убирал препятствие между Божественным и человечьим миром и впускал в душу Природы потоки запредельного света.
Я – как Ты… Так его предки обращались к Солнцу и Луне, к травам и водам, и все, что было в Природе, было и в его предках: приязнь и ненависть, согласие и борьба, щедрость и скупость… и на самой вершине этой пирамиды – великая любовь к Жизни и почтение к Смерти. Кто постигнет эту первую Веду, тому будет открыто большее…
Цирковые волки отличались от дрессированных слонов или обезьян тем, что покорить сердце волка можно было не просто демонстрацией силы, но главное – показной злобой и даже откровенной жестокостью. Чтобы волчья стая сдалась, надо было воистину сломать этого умного, коварного и памятливого зверя. Для разговора с волками надо самому стать волком. Волк воет и рычит всем телом, всей утробой, ушами и кончиком хвоста, и, отдавая приказ стае, дрессировщик, волчий вожак, должен вибрировать мышцами, нутром и хребтом от шейного атласа до самого крайнего позвонка – кобчика, и так же, всем своим совокупным существом, слушала его приказ волчья стая. Щелчок бича был лишь сигналом к гипнотическому рапорту. Этот же прием безотказно воздействовал и на людей.
Раз за разом просматривая кадры исторической кинохроники, Аким убеждался, что так же, по-шамански, воздействовали на людей Гитлер и Сталин и Вольф Мессинг, и возможно, Распутин, недаром его дочь Матрена в эмиграции дрессировала тигров и прославилась как бесстрашная укротительница.
Современная наука обозначала феномен концентрированного волевого посыла словами «гипноз» или «внушение», но тайное слово «кобь», на тысячелетия старше любого «гипноза», отражало явление ярче и полнее. Властители и маги прошлых времен умели собирать разношерстную толпу в послушную стаю, они безошибочно знали, как овладеть ее вниманием и волей, как пролить в души яд обожания и озарить священными огнями неизбежные жертвы и лишения.
Хорошенько протопив избушку, Аким прилег на лежанку, покрытую старым лоскутным одеялом, накрылся твердой, задубевшей на морозах овечьей шкурой и вскоре заснул под вой расходящейся вьюги в печной трубе. В ту ночь ему приснился странный сон, которому он долго не мог найти объяснения и опоры в дневной обыденности, плоской, предсказуемой и отвратительно расчетливой, как долговая квитанция «вернуть с процентами».
Сон его начался словно бы с середины. Он очутился лунной ночью в зимней тайге. В руке он держал резной посох из елового комля. Ствол был резной, закрученный хитрой змейкой. Когда-то он мечтал сделать такой, пока не понял, что посох дают Боги.
Деревья отбрасывали на снег четкие синие тени. В лунные ночи просыпается душа леса, она ищет встречи и может принимать любые обличья. Крупный белый волк выскочил на него из лесной темени, схватил зубами за рукав ватника, принялся трепать и дергать грубыми, жадными рывками. Его янтарные глаза светились неподдельной злобой. Аким не понимал, чего хочет зверь, и его укусы, сначала легкие и неглубокие, внезапно переросли в атаку. Едва устояв на ногах, он замахнулся посохом и ударил, волк резко отпрянул, и шкура вдруг раскрылась на нем, точно упал косматый мешок, и из пустой кожуры выкатилась на снег обнаженная девушка. Мелькнули сжатые смуглые колени и локти, прижатые к груди. Гибко изогнувшись, она по-звериному встала на четвереньки и взглянула на него исподлобья, вопрошающе и без улыбки. Ему понравились ее откровенная злость и сумрачный взгляд с женской тягой на дне зрачков. Он не сразу понял, что девушка ранена: на снегу, под ее коленями, неудержимо расплывалось алое пятно.
Откуда приходят эти смущающие душу сны, сотканные из невысказанных слов и глубоко упрятанных желаний? Сон о девушке-волчице плеснул в сердце и разбудил давно дремавшую в нем жажду обладания.
Эта была ровня, которую он так долго и терпеливо ждал, искал, по-звериному вынюхивал, и она пришла – девушка-воин, девушка-волчица, таящая оскал под нежной улыбкой.
В цирке Акима ждала ошеломляющая новость: Ингибаров погиб! Погиб нелепо, невозможно для артиста его уровня, и в первую минуту он не сумел справиться с чувствами. Сквозь судорогу ненависти он пережил мгновенное острое счастье! Его услышали там, куда он безутешно взывал, и одним махом разрубили все тяжи на его пути, подтвердив свою волю зимней грозою на капище.
Игры Богов обернулись трагической случайностью на арене. Ингибаров разбился, упав с воздушной трапеции. Как все выдающиеся циркачи, Ингибаров владел сразу несколькими специальностями: акробатикой, дрессурой и иллюзионом. Его визиткой был спуск на арену из-под купола цирка, стремительный, как полет метеора. Новая веревка, которая должна была страховать его эффектное падение, оказалась слишком длинной, и Ингибаров с десяти метров вошел головой в манеж.
Воронову не с кем было разделить свою жестокую радость, и он пошел к своим волкам, единственным советчикам и союзникам. О, его стая! Семь сердец, стучащих в унисон, семь горячих пастей, готовых разорвать любого, кто косо посмотрит на их повелителя. Семь хвостов и россыпь карих глаз, не скрывающих своего восторга от встречи… Он трепал их за загривки и брал «за щипцы» – сжимал морды, приподнимая пальцами брыли и открывая оскаленные зубы. Эту штуку его волки позволяли единственному человеку в мире, да что в мире – во всей Вселенной!
– Звер-р-рюги, р-р-родные… р-р-работать… – рычал, он и волки отвечали ему острожной лаской и сдержанной радостью.
Он вынул из подсумка немного корма и на ладони протянул медведю. Старый медведь Кунак вошел в аттракцион последним: от непредсказуемого скандалиста избавился пермский цирк, но Воронов взял зверя вовсе не из жалости – это чувство ему было неведомо, – а из упрямства и жажды победы над темной и глубокой медвежьей душой.
«Медведь зверь убо лют и скрытен, разума своего не кажет. Пяту имеет человечью и кожу снимает от маковки до кобца, от того и зовется кожедерник», – писал его далекий предок, зная, что не забудется семейное ремесло и еще через сотню лет будут волховать и куражиться Вороновы под гудок и жалейку, под волчий и медвежий рык.
Кунак осторожно собрал корм мелкими передними зубами. Соблюдая ритуал, Аким поднял медведя на задние лапы и обнял за худые лопатки, словно братаясь.
– А что это вы тут празднуете? – раздался над ухом шутовской тенорок. – Король умер, да здравствует король?!
Воронов резко оглянулся: за его спиной, держась за проволочную сетку вольера, стоял клоун Пирожок. Этот старикашка, истрепанный жизнью на колесах, пьянством и старыми травмами, жил при цирке и, кажется, вовсе не имел дома. Воронов не любил стариков, особенно таких, как Пирожок: не собравших мудрости, не скопивших богатства.
Жизнь созидает ради разрушения и играючи разрушает ради нового созидания, оставаясь битвой вечных начал: огня и льда, ветра и камня, мужчины и женщины, молодости и дряхлости, – и на этой гладиаторской арене, по мнению Акима, не было места слабым существам и слабым чувствам.
«Ходячий утиль» прошаркал мимо вольеры, волоча за собою обрезок страховочной веревки от воздушного номера.
– Ау, Пирожок! – окликнул его Воронов. – Ты что, вешаться собрался?
– Последний дюйм… В цирке все решает последний дюйм! – всхлипнул Пирожок. – Возьми, сынок, на память о новопреставленном…
– Поди проспись, батя! – Воронов отодвинул плечом Пирожка, запер клетку – и вдруг вздрогнул от внезапной догадки: – Слушай, а где ты ее взял?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?