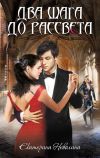Текст книги "Зеркала фантазии"

Автор книги: Александр Чак
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Цыган и его песня
Мордой в снег судьба чужая
мысли в сторону – побег
поцыганим обнимая
денег нет
Нету денег
океана нету – берег
И метлою – на коне
За щекою прозы тени
Голова стоит каре
жить фигня – умом химерим
в дно упал – сюжет не мерян
Цыганская свадьба
Цыгане в Шрейнбуше свадьбу играли,
Айда, далла,
Свадьбу играли.
Ну уж и свадьба, славная свадьба,
Айда, далла,
Славная свадьба.
Три ночи ели, три ночи пили,
Айда, далла,
Три ночи пили.
Зятю счастливому выбили зубы,
Айда, далла,
Выбили зубы.
Тестю под лестницей ногу сломали,
Айда, далла,
Ногу сломали.
Шаферу в пиво подкинули трубку,
Айда, далла,
Трубку швырнули.
Бренчали бубны, скрипка рыдала,
Айда, далла,
Скрипка рыдала.
В круг зазывала
И танцевала
Невеста, набросив красный платочек.
Жирные гости,
Кожа да кости,
Так напевали:
– Айда, далла,
Ох, эти танцы.
Танцы, танцы…
Ай, дал-ла-ла.
Поцелуй
Не сиди,
друг, на лестнице:
муравьями по телу
пробегает прохлада,
и звезды
не сыплются больше в пруды,
где их язычками
хватали обычно лягушки.
Видишь,
в комнате хорошо.
Отдавая всю душу,
темно-алые угли горят
синим пламенем,
как неочищенный спирт.
И поспешно тепло подымается вверх
и хоронится под потолком,
точно шар улетевший воздушный.
В нежной истоме
ты сонно так дышишь,
не противясь объятьям дивана.
И для гибкой фигуры твоей
эта желтая ткань
то же самое, что для вещи желанной –
стекло магазинной витрины.
Воздух ожил в тепле
и, лаская, теперь шевелит
твои волосы
и дверные гардины.
Где-то что-то невнятно
обои прошелестели.
И за то,
что ты здесь и со мной,
я, ликуя,
глазами
целую тебя
прямо в губы.
Заблудившийся
Я – чемпион подворотен,
Я – бывший жиган слободской.
Туда, где играют фокстроты,
Иду с затаенной тоской.
Ах, лучше бы квасом налиться
У будки – стакан за сантим,
Чем мучить в фокстроте девицу,
Но знаю – назад не уйти.
Зачем ты погасло, предместье,
Зачем отмерцало, как дым?..
Веду себя вроде как все здесь,
Но чувствую странно – чужим.
Так хочется скинуть мне фрак свой
И лаковых пару штиблет,
Свистеть, и скакать, и плеваться
На желтый, как масло, паркет.
Прощание с окраиной
Окраины, со мною всюду вы.
Я пил до дна хмельную вашу брагу,
Чтоб мне за это мягкий шелк листвы
Стер на губах оставшуюся влагу.
Я ухожу, и пусть речной песок
Присыплет золотом мой след в полях бурьяна,
Едва лишь вечер, нежен и высок,
Откроет совам глаз сквозные раны.
Я не грущу – так сильно я устал.
Вот только у забора на колени
В последний раз упал и целовал
Я золотые слезы на поленьях.
Современная девушка
Я встретил ее
на узенькой улочке,
в темноте,
где кошки шныряли
и пахло помойкой.
А рядом на улице
дудел лимузин,
катясь к перекрестку,
как будто
играла губная гармошка.
И я повел ее – в парк –
на фильм о ковбоях.
У нее
был элегантный плащ
и ноги хорошей формы.
Сидя с ней рядом,
я вдыхал слабый запах
резеды
и гадал,
кем бы она могла быть: –
парикмахершей,
кассиршей в какой-нибудь бакалее?..
Трещал аппарат.
Тьма пахла хвойным экстрактом,
и она рассказала,
что любит орехи,
иногда папироску, секс,
что видела виноград лишь за стеклом витрины,
и что не знает,
для чего она живет.
В дивертисменте
после третьего номера
она призналась,
что я у нее буду, должно быть, четвертый любовник.
В час ночи
у нее
в комнатенке
мы ели виноград
и начали целоваться.
В два
я уже славил Бога
за то,
что он создал Еву.
Я и дама
Мой кабинет в трактире.
За окнами ходят люди.
У стойки куражится пьяный,
А рядом поют: джим-лай-руди…
А у камина дама
Грустит, на меня не глядя,
Вся в алом, как кончик уха. –
Поладим?
Но стоило только мне подмигнуть,
Склонив в ее сторону голову,
Как дама вылила на меня
Презренья тусклое олово.
Потом скривила надменно губы –
Увы, от меня далеко.
А сквозь батист мерцают плечи –
Она одета легко.
Подошвы туфель белы, как сметана.
Их можно слизывать с ног.
За соседним столиком подрались,
Но мне все равно.
Ах, дама работает с 6 до 16,
Как манекен, у окна.
Так что ж, она станет в трактире ждать
Любовника дотемна?
Этот вечер влетит в копеечку мне:
пью рюмку за рюмкой, косея;
Но и дама не знает цены деньгам:
Сидит на своем плиссе.
Что за запах прячет она на груди?..
Я рою ноздрями норы,
Но дух табака, алкоголя и пота
Мне закупорил поры.
Она скрестила над столиком руки,
Две стройных мерцающих вазы. –
Может, плеснуть в них красной гвоздикой
Изо всех моих рюмок разом?..
Преподнести ей в клещах фантазии
Сердце широким жестом?
Я в восхищенье привстал на ногах
И не найду себе места.
Что-то мысли мои в голове
Кружат, словно два голубка.
Пол прогибается и скользит,
Как гнилая доска.
«– Пикколо, милый, хмельной туман,
Как пыль, с моих глаз сотри!» –
«– Не стоит мальчишке, господин,
Глупости говорить!»
Задымленный воздух вперед поплыл,
Мой стол увлекая следом.
Я свою даму сквозь алый батист
Вижу нагой, как Леду.
Что ж я должен лишь сквозь одежду
Взирать на то, что вижу?..
Я мог бы гладить нежную плоть
Рукой, как снег гладит лыжа.
Досада и горечь сердце стальным
Обручем сжали туго.
К даме моей какой-то молодчик
Подходит шагом упругим.
Тогда я вытряхиваю на стол
Салфетки, стоявшие в вазе,
И живо набрасываю эти строки
В злобном экстазе.
Две вариации
1
Рига.
Ночь.
Желтки фонарей плавали в лужах.
Дождь
пересчитывал вишни в окрестных садах,
выстукивая на листьях фокстрот
и швыряя косточки в воду каналов.
Даль
чернела окном,
укутанным плотной тканью.
Что же мне делать
в такую ночь,
когда надевают галоши?
Скрести душе подбородок,
играть клавиры на нервах?
Как устриц, глотать тоску?
И я пошел
на Московскую улицу,
в бар, где толкутся жулики и проститутки, –
грустить.
Лампы Осрама –
янтарно-желтые серьги –
качались
над моей головой.
Мороженое, тая
оранжевым яблоком,
расплывалось
на блюдечке из хрусталя,
как вытекший глаз.
Где-то вакхически
выла цитра.
Ночь
сжала овальный бар
в объятиях свистящего черного шелка.
Ближайшая липа
уронила свой лист
на мой одинокий столик.
Я, взяв его в руки,
целовал долго-долго:
потому, что было у меня взамен
ничьих губ.
Губ?
Почему же я должен
целовать только губы?
Почему не могу
целовать
этот столик,
прохладный и чистый, как девичий рот;
стену,
ту самую стену,
над которой нависла
женская туша,
белая, как перетопленный жир?
Ах, зачем губкам девушек
отдана
монополия
на мой закипающий рот!
Должно быть, затем,
чтобы я здесь сидел,
один на один
с неизбывной тоской,
и слагал эти странные строфы
о себе,
которому нравятся
губы девушек больше всего на свете.
2
Рига.
Ночь.
Пробило
двенадцать.
Оранжевые лилии фонарей
внезапно увяли.
Тьма
окутала лужи
черным блестящим шелком.
Как же мне встретить утро?
Есть сливы,
пощипывать вату воспоминаний,
танго
выстучать на зубах,
из блюдец лакать тоску?
Как же мне встретить утро?..
И я пошел
в сомнительный бар,
где не было вощеного пола,
где толпились воры и потаскушки, –
грустить.
За столик
в углу
уселся,
как причетник, постен и сух.
В бокале
передо мной
отцветало пиво
оранжевой пеной,
но губы мои
были пустыми и жадными,
как береста.
Зачем же я
здесь сижу?
Зачем?
За окнами
взмахом крыла
налетало время,
когда девушки ждут
жалящих поцелуев,
прикосновений рук,
что помогут им снять башмаки,
расстегнуть на боку платье;
и стянутые чулки,
как брошенную змеиную кожу,
раскидать по углам.
Зачем же я
здесь сижу?
Что я – схоронил свою мать?
Или меня предал друг,
и я плачу?
Чак, что ты прячешь?..
Прячу?..
Ну да!
Почему
ты не можешь
свою сверлящую, жгучую боль
и печаль
выкричать всем,
как сирена с утеса?
Встань
и скажи,
сколь невыносимы
для тебя эти пары,
скользящие мимо,
извиваясь с болезненным жаром,
словно, танцуя, они бы хотели раздеться;
что тебе уже некуда деться –
скажи, что свет этот алый
колет глаза твои
острым кинжалом –
скажи!
Что,
молчишь,
тебе страшно?..
Может, ты думаешь,
что слова здесь
уже не нужны,
здесь,
где повсюду плавает
алый дым,
визжит музыка,
а девки шепчут,
нет – орут
алчным взорам мужчин
только изгибами бедер,
сиянием голых колен
и томленьем грудей, –
так ты полагаешь?
Смешно!
Ты
сидишь,
постен и сух, как причетник,
но – наблюдаешь,
не пожал ли плечами хозяин,
не смеются ли половые,
и шлюхи,
вон там,
не качают ли жалостно головами:
– Бедный поэт,
он болен
или ранен в неприличное место, –
Шут,
хочешь пугалом стать?
Встань и хвати,
хвати кулаком по столу,
так,
чтобы пивная кружка
исполнила пируэт,
словно подстреленный заяц,
чтобы подпрыгнула
ваза с цветами
и хрястнулась об пол,
сверкая осколками,
хвати кулаком
и скажи:
– Эй, вы,
считающие,
что я немощен,
вы,
преходящие,
серая накипь,
червивый плод,
опавший до срока,
вы –
если я
не запускаю глаза
каждой встречной девчонке под кофту,
если я
не бросаюсь за каждым
только что снятым с плиты поцелуем
в ближайшую подворотню –
вы – ничтожества – думаете,
что я не знаю любви?
Нет,
я сам поклоняюсь идолу страсти,
я люблю;
люблю и буду любить всегда,
но только
в своей любви – я вечности жажду!
Еврейка
В вагоне
жарком, как калорифер,
напротив
меня
сидела – еврейка.
Ее глаза
были влажны,
как два блестящих каштана,
а бедра
под юбочкой,
короткой, как день декабря,
перемалывали мое сердце.
Она широко улыбалась –
мне, гою,
и зубы ее пылали,
как буквы,
из которых сложена фраза:
– Я страстная женщина.
Закон своих дедов
она преступила
легко,
как порог,
как плевок на асфальте.
Я
сел с нею рядом
и взял
в ладони
под душистым пальто
ее руку,
цветущую
как тюльпан.
И моя нога
прилипла к ее колену,
словно марка к конверту,
словно к телу хвостик мочала.
Уже проклюнулось утро
из огромного яйца ночи,
когда мы оставили тихо
небольшую гостиницу.
Кольцо
И тут вошла ты
Звериной походкой шлюхи,
Чьи объятья чреваты гибелью.
Вошла ты.
На липовых листьях сияло дыханье вселенной.
Где-то в подвалах,
Под землей,
С писком сновали мыши,
А в шерстке их
Сверкало золото стружек.
Вошла ты и сказала:
– Приду вечером. –
В небесах хороводили птицы, как теплая кровь.
Сквозь город, здания и пароходы
Я
Море вдохнул,
И на губы мои
Опустилась испарина облака,
А на зубах хрустнул песок,
В рот задутый ветром.
– Приду вечером. –
Эти слова
Рассыпались в сердце моем,
Я трепетал паутинкой.
Вечер.
И я занавесил окна.
Все.
Пряча от тебя сердце,
Я втиснул его на полку
Меж фолиантов седых,
Памяток, выпитых рюмок.
Три долгих свечи –
Красную, синюю, черную –
Я разом зажег.
Пышным желтым одеялом укрыл я постель,
Пот, стенанья и страсть
Всасывающим, словно губка.
Туда же
Придвинул скамью,
Чтобы бросить на нее твое невесомое платье
И тяжким пестиком медным прижать.
И тут вошла ты,
Пышущая, словно сквозняк,
Словно все покоряющий запах.
Вошла ты,
И жаром твоим
Покрывало, опавшее на пол,
Скрутило в берестяное кольцо.
Пламя в страхе сорвалось с фитилей
И во мрак убежало.
Вошла ты
И, с тихой улыбкой
Взяв
Мое сердце с полки
И подышав на него,
Надела себе колечком на палец.
Колечком.
Двухчасовой перевод из жизни А. Ч
Иди коснись и трогай щеки студеных стен
пройдет твоя тревога в иное перемен
У лестниц нету брода
дыханье дышит в крен
Напишемся по водам шагов дорожных в плен
В полусогнутой походке
тихо-тихо кап да кап
Близоруким гандикап звезд напихан
Леденцовый ветер ветви дышит нежностью знобит
и прикладывает губы на стекловый перелив
листьев
Знают чувства – запах трогать
шанс растения дрожит
я ему обязан многим и – родством души
Луч в упор ресница с глазом – альма матери тревог
куст неопалимый разом
вазу детских строк
Зачему сидел сутулый в лысых креслах кожи смяв
замороженных амуров в стрелках брюк и шляпу сняв
Губы – ладанкою в запах
губы лижут слово всуе
Рифмы пресс на звездных лапах знак рисует
В меру Эдгар По пьянит
ворон ворону кричит
Перспективы горло
хранит шведской мостовой гранит
Вийону
1
Задвинье из районов где мнется дух вийонов
Вино пролито на столе и глаз болит осатанев
Твоих бокалов медной чарки
овчарки лают волк в овчарне
и с песней воровской притон
баллады и души понтон
Поверх годов барьеров – вечность
хрустел стакан
и много нас с фальцета перешли на бас
проводим жизнь беспечно
Нет такой у которой семья
позволяет пугать и быт
Голос в хрип пожирает земля
ненасытная вечность спит
Хилым – вопли аплодисмента
фолиантам – подкожный слой
запотевшие взгляды зло
Камни схвачены душ цементом
Столбенею кленово березой
непростительно спящей листвы
и пишу добиваясь родства
и шипящие пальчиком розы
Топчешь крыши закатом истерик
и заоблачно мысли в обвал
Через ты поклоняюсь Вам
умирая в кипящей постели
Эти тернии звезды венком
украшают чело и забавно
капли гнева на листике лавра
текст чужой – с этой ролью знаком
2
Обхохотаться нож изъяв из тела
стальных сердец перерубая нить
Судьбою нехотя безумием свистела
и приказала долго жить
Архивариусы – ложа и прикрас
загадай на решку – выпал случай
Много их – и – вируса ползучей
много нас
Что не так напишет недалека
смыслы путая котел ронял в очаг
глаз анютиных за око око
Я глядел – морщинкою скучал
У порошка отчаянья тоска
сыплется в подолы и колени
и ловят стрелы девственно олени
Ныряю в омут – чувства полоскал
Незавидно твое меню
Водопады твоей пропажи
земляные орешки даже
Ведьмы с саранчою
и опилки меди в меды
и прожорливость причем
Ты концы отдал и выплыл
горизонт качает нервы
и туманы вязкой спермы
души рёбра вздоха ниппель
И адамовым яблоком горло мозг надкушен и сердце мое
белоснежно-смертельно белье и закат перепилит
валторны воровства озорное вранье
Стихи о том, где я буду сегодня вечером
Обернись – меняя позу
Ум за разум, жадность плоти
Сердце бешено колотит
Фрейд – спасибо паровозу
Не изобретай позиций
извращениями Видберг
В бор манит безумий выбор
ног перелистай страницу
В преклонение ночей
ты ничья и я ничей
Сядем молча – мы умеем.
Галилео Галилеем. Бруно
Агрессивного флирта лодыжки
В чресла желтую подушку
любит плюшевая мышка
У вольфрамовой спирали
месяц чешется спинами.
Заманю – целую ручку
Продолжение по тексту:
любит плюшевая мышка
агрессивного флирта лодыжку
в чресла желтую подушку
Льют дожди
Медведь на уши
И на рубеже стекло
Пресноводная – послушай
Я люблю тебя стихами
нежно хамствую руками
я ласкаю терпсихор
У вольфрамовой спирали
Месяц
Чешемся спинами.
Это ли счастье
Вдвоем
На диване, как французская каска, зеленом и жестком.
Сидели.
Еле слышно темнота пахла воском.
В книжках
На полке буква букве шептала,
И пылинка
За пылинкой устало в мир отплывала.
Ее сердце,
Я чувствовал, бьется в моем изголовье.
Ее губы
Мои обдавали, словно духами, кровью.
Это счастье?
Нет, просто уснули.
Нет, просто у глаз такой цвет.
Нет, просто сонм поцелуев на губах словно улей.
Это счастье?
Облака шли к ненастью,
С лица собираясь напиться,
Перехватывали дыханье, как птицу.
Это счастье?
Отчего же я не могу забыться,
Избыть
Этой комнаты
Склеп.
Я мир ощущал, как вбитый в сознание нож.
Я был слаб. Возможно.
Я был слеп. Возможно.
И я понял одно:
Всё,
Всё, чем я обладал,
Ничтожно.
Да, но счастье?
Птичье крыло на миг занырнуло в окно.
Хмель.
Метель.
И я понял одно.
Это ветер
Играл на желтеющей домбре лунного диска,
В лужи упали фонарей позолоченные хризантемы,
А вдали
Откровенно
Возвышалась Монбланом тоска.
Последнее навечерие
(Фрагмент)
Синий шелк гвоздями золотыми
К небесам вечерним приколочен.
Тени зреют. Снизу, у земли,
Вьется тьма, как шерсть овечки черной.
К небу по невидимым ступеням
Медленно взбирается туман.
В листьях, мхах лежит роса, крупна,
Как черника. У костра стрелки,
В круг сойдясь, на корточки присели.
Пламенем расшатано пространство,
А костер охапками швыряет
В лица красный жар и красный свет.
Песня вместе с пламенем, грустна
И всесильна, вьется и сияет,
Падает туда, где утолит
Жажду неизбывную людскую,
Лбы усталым людям освежит.
Строго и светло поют стрелки.
Лица чисто выбриты, умыты.
Тут же души их, сложив крыла,
Меж деревьев примостясь, внимают.
Про солдат та песня, про зарю,
Что над ними вся в крови встает.
Конники уходят: им пора
Пламя все плывет. И офицеры,
С кем-то обменявшись парой слов,
Постоят и снова исчезают.
А часы идут. Но у костров
песню петь стрелки не перестанут,
Не устанут нянчить грусть свою,
Не устанут мужество растить,
Грозную оттачивать решимость,
Волю и ковать, и закалять,
Не устанут ровное тихое дыханье
Предков за спиною ощущать.
В сердце заключая их досады,
Беды их – и черпая в том силу:
Силу – победить, честь – умереть.
Так и провели стрелки всю ночь
С песней этой, в ожиданье утра,
Ночь святую пред зарей кровавой.
Взяв тряпицу óблака, сосна
Пот сотри с лица сынов латышских!
Ветер, силы их сбери в пучок
И метни стрелою в тот кустарник,
Где, как волк, германец ждет поживы.
Слышен топот: конница пошла
На прорыв немецких укреплений.
Чертяка с гиблого острова
Август. Утро. Зреет сочно-кровавый бутон
На краю лазурного неба. Неуловимость тлена,
Запах палева ноздри тревожит.
Стынут от холода корни деревьев и кроны.
На тощей бесплодной почве между окопами
Стынет крошево из человеческих тел.
Ранее утро. Немчура затаилась. Воздух
Необычайно легок. И дали трепещут,
Как занавески. А на левом краю лазури
Ноздреватая и зеленая, большой охапкой травы
Туча спит, на бочок завалившись.
Воды сонной Даугавы – тёмны,
Утренний туман над рекой – одеялом.
Лишь иногда ветер рванет вдоль острова
И приоткроет старую переправу, шаткий мост,
Да приземистую баньку в ложбине
Рядом с поместьем Ливес.
Здесь разместились бойцы из резерва,
Чаевничают, покашливают, готовясь к новому дню.
Пламя жадно лижет котел: там варятся рульки.
Щечки винтовок блестят – начищены маслом.
Тишина. День прошлый выдался жестким.
Минометы до самой полуночи
Без продыху плевали горячим металлом в землю,
Крушили землянки и зарывали окопы.
Артиллеристы с обеих сторон пытались нащупать
Хитроумно укрытые минометные гнезда,
Чтобы расколошматить их как лесные орешки.
Унтер Дамбис, стрелок-минометчик,
Играл на своем инструменте без устали:
Справа от старого еврейского кладбища
Укладывал он свои мины, словно буханки в печь,
Четко, ритмично и точно туда,
Где примечал своим рысьим взглядом
Немецких зольдатен унд официрен в схронах.
Напрасно пытались достать его пушки,
Одна за другой шмаляли до самой глубокой ночи.
И все – в «молоко». Однако снаряды уж ближе,
Плотнее к укрытию поочередно ложатся.
– Дамбис, остерегись! – молодой офицер,
Нервно сжал пальцы в кулак.
А Дамбис в ответ лишь скалит зубы,
Белые, привычные к грубому хлебу,
И разминает широкое, мощное тулово,
Бугристое словно корень.
– У островного чертяки свое чертово счастье,
Лупит как бешеный, танцует на лезвии бритвы, –
Смеются стрелки, коченея без дела,
За известковыми глыбами укрыты от картечи.
И, будто злое склочное воронье,
Обугленные щепы скачут по камням и глине.
Вот и утро. Еще одна ночь прошла.
Стало теплеть. И с края лазури красный бутон
Шлепнулся в воду и поплыл по реке.
Это не кровь ли? Нет, это Солнце.
Так близко, но попробуй-ка взять его в руки!
Солнце, большая червонная пряжка в лазури!
К тебе все молитвы. Жарче пылай:
Стрелкам твоей силой дай напитаться,
Чадам Курземе из славного третьего полка.
Город Слока уже в тылу; здесь, на острове Гиблом,
Третья встреча с лютейшим врагом.
Дозорные перетаптываются на своих постах,
Даже дула их винтовок чуют, что творится
На той стороне. А там пока тишина. Лишь тянется
Вверх легкий дым: фриц, должно быть, варит
Кофе-эрзац и щеки скоблит перед битвой.
Вдруг часовой из III-го взвода
(Что у кладбища впритык со II-ым)
Замечает – там, средь кривых коротышек-сосен,
Где солнышко огненной белкой играет,
Кто-то ползет. Не иначе, германцы
Крадутся в разведку. Дозорным каждая пядь
Известна в том месте. Дамбис вечером вновь
Ходы завалил там землею,
Разбил вагончики и блиндажи,
И трех немецких вояк послал к праотцам.
Теперь их товарищи будут стараться
Восстановить укрепленья, вонзая в глину
Лопаты, отточенные до блеска.
А место ведь проклято, что человек согрешивший!
Дозорные всматриваются долго и пристально:
То не обман ли, не жалящий солнечный отблеск;
Но, убедившись, что им не почудилось,
Шлют одного из солдат с известием к Дамбису.
Побежал Каланча, рявкнул Дамбису. Крепко
Шлепнул его по плечу: Хватит дрыхнуть, чертяка!
Фрицы снова латают треклятое место,
Что своими рогами ты изрыл им вчера.
Так их, еть! С такого ранья! Свихнуться! –
Дамбис, ругаясь, вскакивает на ноги резво.
А глаза еще спят. Ведь пару часов всего лишь
Подремал он меж грубых сосновых корней
После вчерашней злой битвы.
Проводит рукой по лицу. Мелким песком
Волосья забиты, песчинки искрятся на солнце.
Засим отправляется, в пояс согнувшись,
Скорым бегом в свою пристройку,
На полпути замирает и припадает
К одному из люков. Поле и вся позиция
Хорошо видны наметанному глазу.
Сосенки-карлики. Тот самый участок,
Что он с такой ненавистью перепахал
Накануне. Немцы что-то мастырят
На пути возможной атаки… Заграждение?
Или окоп? Напрасны старания фрицев,
Минометчик коричневым металлом разнесет
Им все на хрен. Дамбис пока наблюдает,
Взглядом буравит их сторону.
Какое-то время позыркал, не сразу приметив
Копошенье вдоль заграждений противника,
Скрытое, осторожное, вороватое.
Так и кажется – шипят с издевкой:
– Глянь-ка, Дамбис, у тебя под самым носом
Мы бесстрашно ржем над тобою.
Чем ответишь? – Солнце согрело дерн,
Испаряется влага в багряном сиянии.
Очи у Дамбиса вспыхнули древней ненавистью,
Эта ненависть так глубока, бесконечна! Она влита
В дыхание, в кровь. От нее не избавишься. Можно
С ней умереть и продолжать ненавидеть в смерти.
Щурятся зенки. Тело уподобилось сабле.
Каждая жила дрожит. Лоб покрывается потом.
И горло просит воды. А в ушах звенят колокольцы,
Так пронзительно, что кровь закипает.
Погодь же, – думу думает Дамбис, –
Сейчас аккурат вам обломится!
Собранно подходит к минометному гнезду,
Зовет ловких своих подручных.
Взъерошенные, сбиваются они в стаю,
Коротко и резко перекликаясь друг с другом.
Проверяет миномет остроглазый Дамбис сам.
Усталости как ни бывало, есть лишь одно желанье
Вмазать всем этим… там, на той сторонушке;
Чтоб их всех как слизало – к едреней фене,
Выжечь, как плесень, стереть, как ржавчину.
Дамбис смотрит на миномет, как на плуг,
Что оставлен в Курземе, в хозяйстве за Талсами.
Кладет руки миномету на плечи,
Целует его в широкую короткую морду
И начинает. Как будто внезапный раскат грома.
И, как утка, взлетает мина в воздух,
Весь остров отвечает выстрелу раскатистым эхом.
Эхо слышат даже в резерве, гаснет оно за мостом,
Заставляя дрожать быки переправы,
И в каждом сердце отзываясь болью
И предчувствием темным: вот, опять! Роты
Цепенеют в ожидании. Пулеметы рылами
Нюхают даль, выискивая цель исподлобья.
Мина несется над полем –
Черная, тяжелая, рвет ясный воздух
Своими когтями, безжалостно и грубо.
Достигнув немецких позиций,
По плавной дуге ныряет в сосны кривые,
И, спустя мгновение, страшно рвет почву,
Взметая в лазурь гигантский столб,
Полный щепок, проволоки и мелких камней.
Столб этот темно-бурой хризантемой
Расцветает под небом и наливается силой,
Погребая под собой укрепления фрицев,
Солдат с еще теплым дыханьем.
Улыбается Дамбис: славно сработано – в яблочко!
Пусть пришлые знают, как у нас тут умеют встретить
Того, кто вторгся во владения моего мужицкого плуга!
И снова тишина. Еще более глубокая, чем утром,
Но – опасная, будто нож, приставленный к горлу,
Неприятна, холодна, горчит во рту, липнет к пальцам.
Рука невольно сжимает кожаный пояс,
Плотно увешанный гранатами.
Мгновения тишины. Нет, одно глубокое мгновение.
И вот на участке, где еврейское кладбище,
На позициях немцев – тревогу подняли сирены,
Во все стороны вонзают звуки, без перерыва.
Ружья начинают рассерженно лаять.
В первый миг слабовато, потом все сильнее,
Исполнившись злобы и жестокой радости.
А Дамбис уж отправляет вторую посылку –
Шлеп, попадание! И тогда две синих
Сигнальных ракеты мелькают, расцветив воздух,
Вонзаясь в зеленоватое облако, в нем исчезают.
Две синих. – Ну, быть ураганному огню, –
Шепчут стрелки и втягивают головы.
Рычат за соснами батареи,
Все разом, тяжеловато-глухим голосом.
И на участок, где иудеев могилы,
Как из пригоршни великана, рассыпаются
Крупные снаряды, жужжа близко-близко.
Телефоны трезвонят в штабе: Дамбиса ищут.
Русские батареи проснулись насупротив,
Правый берег трясут, как погремушку.
Участок, где старое еврейское кладбище,
Дымится котлом, как одна большая воронка –
Песчаное облако над ней взвивается.
Встало от взрывов и воздушных смерчей –
Темных, бешеных, колючих как метлы.
Гиблый остров будто в огромном бубне.
У резервных каждый предмет дребезжит.
Течение Двины мутится взбаламученным илом.
И рыбы, ошарашенные мощным грохотом,
То выглядывают из воды, то уходят на дно.
Деревья гнутся к самой земле от ветра.
Все кругом – в белом огне,
В черном дыме, воняющем резко.
Артиллеристы соседних участков идут на помощь:
Поочередно открывая беглый огонь.
Уж изрублена пулеметами каждая пядь,
Резерв на лодках седлает быстрину.
Напрасно. Все батареи бьют
Лишь по тому куску земли, где могилы;
Целый час лупят, потом внезапно
Замирают. И песчаное облако над кладбищем
Густеет и рушится, как подрубленное.
Ветер успокаивается. Утихает дребезга.
Зеленое облако, что купалось в лазури,
Плывет, подстреленное, по течению вниз.
И вновь тишина. Но уже влажная, трепетная,
Как прохладные, усталые губы.
По земле, где старое еврейское кладбище,
Ползут из-под развалин, ползут из-под слоя песка
Наружу, с черными изможденными лицами,
Исцарапанные, придавленные, задыхающиеся,
С одурелыми взглядами, едва в сознании.
Сверху-то земля, а под нею – стоны,
Последние вздохи и перебитые кости.
Со всего острова спешат на помощь
С лопатами, ломами, пригнувшись
И прячась, солдаты из рот и команд.
Враг доволен, ибо достиг своей цели:
Там, где было укрытие Дамбиса,
Где огрызался, заговоренный, его миномет,
Только бревна, порванная холстина,
Щепки в глине и глубокие рытвины. А больше
Ничего. Еще малый кусочек ткани.
Оторванная нога. Окровавленные камни.
Усыпляющий дурман, а надо всем этим – Солнце.
Это всё, что осталось от Дамбиса,
От его желаний, резкой, злой работы.
Черта нет. Но вражьи надежды тщетны.
Другие придут, чтоб так же, день за днем
И ночи напролет, смотреть в ту сторону:
Эта ненависть, что поднимала Дамбиса
Навстречу битве, счастью и свободе,
Воскуряется от расщепленных бревен в небо,
Воскуряется от песка и воронок, залитых кровью,
Воскуряется от тощей почвы Гиблого острова.
Ею дышат курземцы, те, что уцелели,
И от них священный и светлый дух
Перейдет из рода в род. Навечно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?