Текст книги "Таинственный доктор"
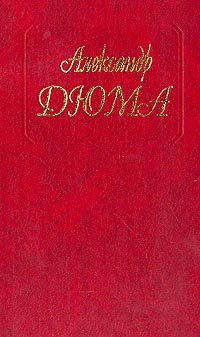
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
XVII. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦИИ
Жители Аржантона, никогда не переступавшие порога дома Жака Мере и не имевшие ни малейшего представления о тайнах древа познания добра и зла, беседки под липой и поросшего мхом грота, никак не могли взять в толк, отчего доктор так равнодушен к делам общественным.
В самом деле, никто в Аржантоне не выказывал большей ненависти к знати и большей преданности демократии, чем доктор. Все знали, что он наотрез отказывается пользовать богачей, что лечит он только бедняков и никогда не берет с них денег за лечение и что, в какое бы время дня или ночи аржантонские простолюдины ни постучались в его дверь, он всегда окажет им необходимую помощь.
И вот теперь, когда они впервые в жизни воззвали к нему от имени общей матери-родины, от имени священного отечества, филантроп исчез, а гражданин спрятался за спину ученого.
А между тем несчастная Франция в ту пору так сильно нуждалась в помощи всех своих сыновей!
Она нуждалась в защитниках так же сильно, как нуждался весь мир в ней самой.
В 1791 году Франция предстала миру юной и возродившейся; казалось, она вычеркнула из своей истории все годы, прошедшие до воцарения Людовика XVI, и сбросила в сточные канавы Марли свою мантию, оскверненную Людовиком XV.
Новый Свет благословлял Францию за то, что она помогла ему обрести независимость. Старый Свет пылал к Франции любовью; подданные всех тиранов – а в 1791 году тирания властвовала повсюду – молили ее о заступничестве; какому бы народу она ни собралась протянуть руку помощи, народ этот, как бы холоден и беспристрастен он ни был, поспешил бы пожать эту руку; на чьи бы земли она ни пожелала ступить, жители этих земель пали бы перед ней на колени!
Франция служила воплощением трех священных добродетелей: справедливости, разума и права!
Ведь тогда она еще не грешила насилием, а Европа – ненавистью.
В самом деле, чего добивалась Франция в 1791 году?
Во-первых, свободы и мира для себя.
Во-вторых, свободы и мира для других народов.
Понятно, что немцы, рукоплескавшие каждому шагу Франции, говорили: «О, если бы пришли французы!»
А разве шведы не писали рукою наследника великого Густава: «Никакой войны с Францией!»
Ведь в ту пору каждый прекрасно знал, что, принося благо Франции, он приносит благо всему миру!
Все притязания Франции ограничивались присоединением Льежа и Савойи – двух провинций, где люди говорили по-французски.
От других держав Франции ничего не было нужно; она не желала ни завоевывать их земли силой, ни принимать в дар.
Поэтому в 1791 году Франция гордилась своим могуществом, щедростью и чистотой.
Она прекрасно сознавала, что, снискав любовь народов, она тем самым навлекла на себя ненависть королей.
Сильнее всего ненавидели Францию Россия, Англия и Австрия.
Екатерина, которую Дидро называл Екатериной Великой, а Вольтер – Северной Семирамидой; Екатерина, эта Полярная звезда, которая должна была заместить на всемирном небосклоне короля-солнце Людовика XIV; Екатерина, эта русская Мессалина, превзошедшая Мессалину римскую и убившая своего Клавдия; Екатерина, с помощью скифа Суворова истребившая защитников Измаила и Райи, прибравшая к рукам часть Польши и готовившаяся поглотить другую; Екатерина, затмившая Пасифаю и взявшая себе в любовники, согласно страшному выражению Мишле, «целую армию»; Екатерина, ненасытная утроба, не ведавшая слова «довольно», – эта самая Екатерина восприняла взятие Бастилии как пощечину.
Отныне перед тиранией возникла преграда.
Екатерина послала императору Леопольду письмо, где недоуменно вопрошала, отчего он до сих пор не отомстил за ежедневные оскорбления, наносимые его сестре Марии Антуанетте.
Она отослала нераспечатанным письмо, в котором Людовик XVI извещал ее о том, что принял конституцию.
Англия, где король был безумен, а наследник престола, принц Уэльский, вечно пьян, в лице премьер-министра Питта безмерно радовалась всему, что происходило во Франции. Господин Питт ненавидел нас со всей силой своего ужасного гения, ибо не мог простить нам участия в борьбе за независимость Америки. Пристально следя за тем, что творилось в Индии, и за тем, что делалось в Париже, он брал на заметку и успехи, которых добивалась наша Революция, и потери, которые несли наши колонии. Королева так боялась его, что за несколько дней до десятого августа послала к нему г-жу де Ламбаль – молить о пощаде. «Когда я слышу его имя, – говорила Мария Антуанетта о Питте, – я холодею от страха».
Австрия была больна так же тяжко, как и мы, а если верно, что деспотические государства воплощаются в их монархах, – то даже еще тяжелее. Австрией правили восьмидесятидвухлетний князь фон Кауниц и сорокачетырехлетний император Леопольд. Взойдя на престол всего год назад, Леопольд первым делом перевез из Флоренции в Вену свой итальянский гарем. Предчувствуя, что разврат истощил его силы и жить ему осталось недолго, он собственноручно готовил себе возбуждающие средства, которые сокращали этот и без того недлинный срок, так что счет следовало вести уже не на месяцы, а на дни. Впрочем, болезнь Леопольда была истинно королевской: коронованные особы часто забывают государственные обязанности, злоупотребляя наслаждениями; отсюда появление г-жи де Помпадур, г-жи Дюбарри и Оленьего парка; отсюда триста монахинь Педру III Португальского; отсюда отдающие Гоморрой прихоти Фридриха; отсюда фавориты Густава; отсюда, наконец, триста пятьдесят четыре побочных отпрыска Августа Саксонского, о которых стыдливо умалчивает история, но которых называет поименно старая сплетница-молва, заглядывающая во все замочные скважины Царского Села, Виндзора, Шёнбрунна и Версаля.
Подле Кауница и Леопольда стоял юный Меттерних, человек великого ума, не желавший воевать с нами и выразивший свое политическое кредо в весьма реалистичном образе: «Пусть французская революция варится в своем собственном котле».
Но, помимо всех этих внешних врагов, не имевших пока программы борьбы с ней, у Франции имелись еще и враги внутренние.
Первое место среди них занимал король.
Здесь мы с позволения читателя сделаем небольшое отступление.
Отчего выходит, что короли, вместо того чтобы, не мудрствуя лукаво, выполнять желания своих народов, противодействуют этим желаниям, а когда возмущенный народ начинает их теснить, призывают на помощь чужестранцев?
Оттого, что свой народ для них – чужестранец, а чужестранцы – родня. Возьмем, например, Людовика XVI, сына саксонской принцессы, от которой
он унаследовал вялость и тучность. В жилах его текла всего треть французской крови, потому что отец его, сам рожденный от брака француза и польки, в свой черед женился на чужестранке. Но этого мало: Людовик XVI взял в жены Марию Антуанетту – принцессу австрийскую и лотарингскую, и таким образом на престол взошла королевская чета, в жилах которой на две шестых французской крови приходилось две шестых саксонской, одна шестая австрийской и одна шестая лотарингской.
И после этого вы хотите, чтобы французская кровь одержала верх? Вы хотите невозможного.
У кого ищет помощи Людовик XVI в политической борьбе против собственного народа? У своего австрийского шурина, у своего неаполитанского свояка, у своего испанского племянника, у своего прусского кузена – одним словом, у родни.
Историки, и те, что искали правду, и даже те, что создавали легенды, редко судили о Людовике XVI справедливо.
Почти все творцы легенд принадлежали к прислужникам короля.
Почти все историки принимают сторону Республики.
Мы же, по праву романиста, примем сторону потомков.
Герцог де Вогийон дал королю иезуитское воспитание, изменившее не в лучшую сторону его унаследованный от отца и матери прямой и честный нрав. Остатки этого первоначального прямодушия так и не позволили ему вникнуть в план г-на фон Кауница и королевы – истребить революцию силами самой революции. По сути дела, король не любил никого: ни своих детей (ибо он сомневался в своем отцовстве), ни королеву (ибо он сомневался в ее любви), но тем не менее королева была единственным существом, имевшим на него хоть какое-то влияние. Разумеется, единственным существом из его родных.
Напротив, священникам он доверял безоговорочно. Именно их влиянию следует приписать все клятвы, которые он приносил и тотчас забирал назад, его двуличность в комедии с принятием конституции – одним словом, все его политические обманы.
Он неизменно вел себя так, как будто на дворе 1788 год. Взятие Бастилии ничему его не научило; он по-прежнему считал события 1789 года бунтом, а события 1792 года – заговором герцога Орлеанского.
Он ни за что не желал признать народ силой, равной его королевскому величеству. Божественное право он ставил куда выше права народного, и когда 13 сентября 1791 года председатель Собрания Туре, поднеся ему конституцию и увидев, что король опустился в кресло, последовал его примеру и тоже сел, Людовик XVI воспринял это как величайшее оскорбление.
В тот же вечер г-н де Гогела отбыл в Вену с письмом от короля к императору.
С этого дня французы сделались для Людовика XVI не просто чужестранцами, но еще и врагами, и он стал искать защиты от них у своих родственников.
Вот до чего довело Людовика XVI воспитание иезуитское и королевское; он мог в одно и то же время сообщить всем европейским монархам о том, что принял конституцию, и поведать австрийскому монарху о своем несогласии с нею.
История событий, свершавшихся в исповедальне Людовика XVI – человека, от природы доброго и порядочного, но обреченного вечно поддаваться влиянию клерикалов, – приковала бы к себе внимание читателей, будь она написана; увы, документальных свидетельств на сей счет сохранилось слишком мало.
Ришелье говорил, что ему труднее управлять альковом Анны Австрийской, нежели всей Европой. Людовик XVI мог бы сказать, что его совесть отбивала в исповедальне атаки, ничуть не уступающие тем, какие приходилось отбивать защитникам Лилля.
Однако Лилль оборонялся, храня верность стране.
Совесть же Людовика XVI капитулировала, подобно Вердену.
К несчастью, в то самое время, когда Людовик XVI жаловался венскому монарху на то, что французский народ сделался врагом своему королю, французский народ мало-помалу убеждался, что ему врагом сделался король.
Что же касается королевы, то народ давно почитал ее главной своей ненавистницей.
Семь лет бесплодия Марии Антуанетты, в котором народ обвинял королеву, ибо не знал, что виной всему – немощь короля; пылкая привязанность королевы к г-же де Полиньяк, г-же де Поластрон и г-же де Ламбаль (последняя, по крайней мере, осталась верна своей коронованной подруге до самой смерти); ее опрометчивые интриги с Артюром Диллоном и де Куаньи; ее утренние и ночные безумства в Малом Трианоне; ее безрассудная щедрость по отношению к фавориткам, из-за которой в народе ее прозвали «Госпожа Дефицит»; ее сопротивление Собранию, из-за которого ее прозвали «Госпожа Вето»; упорство, с каким она отдавала Австрии предпочтение перед Францией; унаследованная от немецких императоров гордыня, которую она ни за что не соглашалась смирить; страстное желание, чтобы враги поскорее пришли на французскую землю, и стенания, обращенные то к принцессе Елизавете, то к г-же де Ламбаль: «Анна, сестрица Анна, не видать ли кого вдали?» – все это внушало французам ненависть к королеве.
И вот пруссаки, которых так ждала Мария Антуанетта, которые вселяли столько же надежд в сердца королевской четы, сколько ужаса в сердца простых французов, пришли. Они пришли, повинуясь манифесту герцога Брауншвейгского, и, едва перейдя границу, принялись приводить этот манифест в исполнение. Они пришли, и австрийская конница начала хозяйничать в окрестностях Саарлуи; первыми ее жертвами стали мэры-патриоты и видные республиканцы. Уланы забавы ради отрезали несчастным уши и прибивали их гвоздями ко лбу.
Парижане прочли об этом в официальных сводках и ужаснулись. Однако ужас их сделался куда сильнее, когда был вскрыт железный шкаф и стало известно об адресованном Марии Антуанетте письме, в котором королеву радостно извещали, что следом за армией движутся трибуналы и что эмигранты, присоединившиеся к прусской армии, которая уже захватила Лонгви, собираются вершить суд над Революцией и готовят виселицы для революционеров.
Вдобавок, как всегда при больших катастрофах, реальная опасность обрастала преувеличенными слухами.
Говорили, что самую лютую злобу контрреволюционеры питают к Парижу; они не простят никому, кто хоть как-то замешан в Революции. Если австрийцы заточили в Ольмюц Лафайета, желавшего спасти короля, или, вернее сказать, королеву, – заметьте, что обольстительница склонила на свою сторону одного за другим таких сторонников Революции, как Мирабо, Лафайет и Барнав, – что же сделают они с тридцатью тысячами парижан, явившихся к королю в Версаль? С двадцатью тысячами французов, возвративших короля в Париж из Варенна? С пятнадцатью тысячами, заполонившими его дворец 20 июня, и с десятью тысячами, ворвавшимися туда 10 августа?
Они перебьют всех от первого до последнего.
Вот как это произойдет: на пустынной равнине – правда, во Франции нет пустынных равнин, но если монархи решат, что пустыни лучше, чем взбунтовавшийся народ, они устроят во Франции пустыню, например выжгут дотла посевы, деревья, дома на равнине Сен-Дени, – так вот, на пустынной равнине будет воздвигнут четверной трон для Леопольда, прусского короля, российской императрицы и г-на Питта. Перед каждым из них поставят по эшафоту. Народ пригонят, словно скот, к ногам союзных монархов. Затем, как на Страшном суде, отделят праведников от грешников, и грешников – а таковыми, разумеется, сочтут всех революционеров – казнят.
Но ведь к революционерам следовало причислить, за очень редкими исключениями, весь французский народ: и те сто тысяч, что взяли Бастилию, и те триста тысяч, что на Марсовом поле поклялись быть друг другу братьями, и всех тех, кто приколол к шляпам трехцветную кокарду.
Люди, умевшие заглядывать в будущее, шли еще дальше и предсказывали:
– Увы! В этой бойне погибнет не только сама Франция, но и ее мысль; враги задушат в колыбели свободу мира, право и справедливость.
Парижан подобная перспектива ужасала, королеву же приводила в восторг. Однажды ночью, рассказывает г-жа Кампан – а ее трудно заподозрить в якобинстве, – однажды ночью, за несколько дней до 10 августа, королеве не спалось и она, по обыкновению, сидела у открытого окна своей спальни; она окликнула г-жу Кампан, и та явилась на зов.
При свете луны королева старалась прочесть письмо, сообщавшее о взятии Лонгви и о том, что пруссаки стремительно приближаются к Парижу.
Королева произвела необходимые подсчеты и заключила, облегченно вздохнув:
– Через неделю они войдут в Париж; еще неделя – и мы спасены!
Неделя прошла; пруссаки не тронулись из Лонгви, а королева очутилась в Тамиле.
Именно эти события, слухи о которых докатились до Аржантона, и побудили сторонников народной партии просить совета у Жака Мере.
XVIII. ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ
Назавтра около девяти утра Жак Мере работал у себя в лаборатории, а Ева музицировала; внезапно в конце улицы раздался сильный и нарастающий шум.
Прислушавшись, доктор понял, что горожане бурно выражают свою радость. Он выглянул в окно и увидел, что по улице движется толпа, над которой развеваются по ветру знамена.
Впереди шли музыканты, а впереди музыкантов – Базиль с неизменной трубой.
Доктор закрыл окно и продолжил свои занятия.
Однако очень скоро ему показалось, что толпа остановилась подле его дома.
Тут дверь лаборатории распахнулась и на пороге показалась Ева, бледная и взволнованная.
– Что с тобой, дитя мое? – воскликнул доктор, бросившись к ней.
– Все эти люди пришли к вам, друг мой, – отвечала Ева.
– Как, неужели ко мне?
– Да. Они остановились возле дома. Постойте, вот Базиль трубит в трубу; значит, сейчас мы что-то узнаем.
И она машинально поднесла руки к ушам. Базиль в самом деле сыграл ту единственную фразу, какую знал.
Затем звонким и четким голосом трубач провозгласил:
– Доводится до сведения граждан Аржантона, что гражданин Жак Мере был вчера избран депутатом Конвента. Да здравствует гражданин Жак Мере!
И толпа вся как один подхватила:
– Да здравствует гражданин Жак Мере!
В этот миг на лестнице послышались шаги и в лабораторию вошел Антуан. По обыкновению топнув ногой и произнеся сакраментальную реплику «Средоточие истины! Круг правосудия!», он добавил:
– Те люди, что собрались там, внизу, хотят видеть доктора Жака Мере. Доктор вопросительно взглянул на Еву.
– Надо выйти к ним, – сказала девушка.
Жак спустился вниз; Ева, дрожа всем телом, последовала за ним.
Доктор остановился на высоком крыльце и глянул вниз.
При виде его музыканты заиграли мелодию «Где может быть лучше?», а Базиль, не желая отстать от окружающих, снова взялся за трубу и порадовал земляков своей фанфарой.
Весь этот гам смолк лишь для того, чтобы площадь снова смогла огласиться криками: «Да здравствует Жак Мере, наш депутат Конвента!»
Теперь Жак Мере понял, что имел в виду патриот, преградивший ему накануне дорогу, а затем сказавший:
– Ступайте, а завтра мы еще поговорим.
Однако доктор со вчерашнего дня не изменил своего мнения; напротив, простодушные признания влюбленной Евы лишь укрепили его решимость.
Он сделал знак, что хочет сказать несколько слов, и аржантонцы закричали:
– Тише!
– Друзья мои, – сказал доктор, – мне очень жаль, что вы вчера не захотели поверить моим словам. Я и сегодня думаю то же, что и вчера. Я благодарю вас за великую честь, которую вы мне оказали, но не считаю себя достойным ее и не могу принять ваше предложение.
– Ты не имеешь права, гражданин Мере, – крикнул кто-то.
– Как? – изумился доктор. – Я не имею права распоряжаться собственной жизнью?
– Человек не принадлежит себе, он принадлежит нации, – продолжал тот же горожанин, проталкиваясь сквозь толпу, – а того, кто станет утверждать обратное, я объявлю дурным гражданином.
– Я философ, а не политик, я врач, а не законодатель.
– Что ж! Если ты философ – тебе ведомы причины возвышения и падения империй; если ты врач – тебе знакомы недуги человеческого тела; если ты философ – тебе ясно, что свобода так же необходима уму, как воздух – легким. Когда начался нравственный упадок Римской империи (а во всякой империи нравственный упадок предвещает упадок физический)? Когда цезари сделались тиранами. Ты говоришь, что ты врач? А кто такой, по-твоему, народ? Разве он не огромный организм, подчиняющийся тем же законам, что и индивид? Разница лишь в том, что жизнь индивида исчисляется годами, а жизнь народа – столетиями, однако в течение этих столетий тело общества так же страдает от болезней, как и тело человека, и, следовательно, так же нуждается в лечении; не всякий законодатель должен быть врачом, но всякий врач может быть законодателем. Цицерон сказал, что, если какой-то член человеческого тела поражен гангреной, его следует ампутировать, дабы спасти самого человека. Прими же предлагаемый тебе мандат, Жак Мере; вооружись ланцетом, скальпелем, пилой; для врачей, а особенно для хирургов, при дворе работы непочатый край.
– Место хирурга занято, – отвечал Жак Мере, – у вас есть большой мастер пускать кровь; имя ему – Марат. Надеюсь, он справится и без меня.
– Марат собирается отворять кровь, прибегая не к ланцету, не к скальпелю и даже не к пиле, а к топору; я говорил о хирурге, а не о палаче.
– Когда парижанам потребуется моя помощь, я отправлюсь в Париж, но теперь еще не время, – отвечал Жак, с грустью сознавая, что его резоны никуда не годятся. – Ведь к вашим услугам Сиейес – воплощенная логика, Верньо – воплощенное красноречие, Робеспьер – воплощенная неподкупность, Кондорсе – воплощенная мудрость, Дантон – воплощенная сила, Петион – воплощенная честность и Ролан – воплощенная порядочность.
Что делать скромному светлячку вроде меня среди этих сияющих факелов?
– Что тебе делать, Жак Мере? Исполнять твой долг, которым ты нынче пренебрегаешь! Господь даровал тебе высокий ум и обширные познания не для того, чтобы ты похоронил все это в глуши и ничем не помог Парижу, мозгу Франции, который в муках рождает свободу. Для того чтобы труды парижан увенчались успехом, необходимы совокупные действия всех талантов страны; разве ты не видишь, что само Провидение собирает в Париже даровитых уроженцев всех провинций? Национальное собрание приняло Декларацию прав человека, Учредительное собрание провозгласило верховную власть народа. Национальному конвенту также предстоят великие свершения; быть может, именно тебе вместе с другими народными избранниками выпадет честь объявить миру: «Франция свободна!» – а ты отказываешься! Повторяю тебе еще раз, Жак Мере, подобно слепцу, не видящему лежащих перед ним сокровищ, ты отвергаешь бессмертную славу. Франция могла бы окружить твое имя почетом, Жак Мере, но она обольет тебя презрением; она могла бы благословить тебя, но станет тебя проклинать!
– Кто же ты, столь дерзко лишающий меня свободы выбора?
– Я – твой коллега Ардуэн, избранный сегодня в Конвент от Шатору одновременно с тобою; я почел бы за честь заседать в этом собрании рядом с тобой, поддерживать тебя, а быть может, и опровергать.
– Увы, Ардуэн, прости меня сам и вымоли мне прощение у всех, кто нас слушает; обстоятельство, которое я обязан хранить в тайне, но которое куда важнее всех тех, что ты теперь перечислил, удерживает меня в Аржантоне.
Ардуэн преодолел несколько ступенек, отделявшие его от Жака Мере, и поднялся на крыльцо.
– Обстоятельство это мне известно, – прошептал он на ухо доктору, – ты влюблен и подло приносишь в жертву своей безрассудной любви родину, сограждан и честь; берегись: любовь твоя – грех, и Господь покарает тебя за нее.
Однако Жак Мере уже не слушал Ардуэна. Он тревожно вглядывался вдаль, не сводя глаз с улочки, которая вела из центра города прямо к его дому и по которой двигалась группа из четырех человек, если, конечно, можно назвать людей, идущих парами на некотором расстоянии друг от друга, группой.
Впереди шествовали сеньор де Шазле, которого уже начинали звать бывшим сеньором, и комиссар Аржантона, украшенный шарфом.
Позади плелась другая пара – браконьер Жозеф и его мать. Справедливость требует отметить, что, в отличие от сеньора и комиссара, эти двое шли весьма неохотно и, кажется, отнюдь не по своей воле.
Судя по всему, все четверо направлялись именно к дому Жака Мере: на этот дом комиссар показывал пальцем сеньору де Шазле.
Чем ближе подходили незваные гости, тем сильнее сжимала тревога сердце доктора. Охватившее его безотчетное чувство можно сравнить с тем, какое инстинктивно испытывают животные, когда скопившаяся в воздухе гроза насыщает воздух электричеством и над самой их головою оглушающе гремит гром.
Толпа встретила сеньора де Шазле глухим ропотом, но расступилась перед полицейским комиссаром.
Тот направился прямо к доктору.
– Гражданин Жак Мере, – сказал он, – я приказываю тебе, под страхом кар, предусмотренных законом для преступников, виновных в похищении несовершеннолетних, немедленно возвратить гражданину Шарлю Луи Фердинанду де Шазле его дочь Элен де Шазле, которую ты в течение семи лет прячешь у себя в доме и которую вверили тебе присматривавшие за нею Жозеф Бланжи и его мать, дабы ты оказал ей врачебную помощь, в коей она нуждалась.
Тут за спиною доктора раздался душераздирающий крик. Кричала Ева: она приоткрыла дверь как раз в тот миг, когда комиссар заговорил, и слышала его требование.
Не подхвати ее доктор, она без чувств упала бы на землю.
– Та ли это особа, которую вы семь лет назад вверили доктору Мере? – спросил комиссар у Жозефа Бланжи и его матери, указывая на Еву.
– Да, сударь, – отвечал браконьер, – хотя по правде сказать, между дурочкой, которую забрал у нас доктор, и барышней Евой разница куда как велика.
– Ее зовут не Ева, а Элен, – сказал сеньор де Шазле.
– О! – вскричал доктор. – Вы отнимаете у меня все, даже имя, которое я дал ей.
– Ну-ну, смелей, будь мужчиной! – сказал Ардуэн, пожимая доктору руку.
– Это ты принес мне несчастье! – упрекнул его Жак Мере.
– И я же помогу тебе утешиться, – отвечал Аруэн.
Поскольку при виде убитого горем доктора и Евы, которая, придя в себя, с рыданиями обвила рукой его шею, толпа начала громко роптать, сеньор де Шазле произнес:
– Я признаю, что вы много сделали для исцеления моей дочери, и готов заплатить вам за лечение, результатами которого вы вправе гордиться, любую сумму, какую вы назовете.
– О несчастный! – воскликнул Жак Мере. – Вы сулите мне деньги в обмен на красоту, талант, ум! Неужели вы не понимаете: то, что я сделал, делалось не ради денег и расплатиться со мной может она одна?
– Расплатиться с вами – каким же это образом?
– Я люблю его, сударь! – вскричала Ева.
Всю свою душу, все сердце, всю свою страсть вложила она в этот крик.
– Господин комиссар, – сказал сеньор де Шазле, – тут спорить не о чем. Вы сами понимаете, что единственная наследница такого рода, как наш, не может выйти замуж за первого встречного.
Услышав это оскорбление, Жак содрогнулся; черты его исказил гнев.
– Прости ему, любимый, – прошептала Ева, – он говорит о благородстве земного происхождения, не ведая, что такое благородство небесное.
– Сударь, – произнес Жак, собрав все свое мужество, – в присутствии многочисленных свидетелей я возвращаю вам мадемуазель Элен де Шазле. Красивая, чистая и целомудренная, она будет достойной супругой не только королю, князю или дворянину, но – что куда важнее – порядочному человеку.
– Жак, Жак, не бросайте меня! – вскричала Ева.
– Я не бросаю вас. Я покоряюсь силе, повинуюсь закону, склоняюсь перед волею семьи: я вверяю вас вашему отцу.
– Напоминаю вам, господин Мере, что вы вправе назвать сумму, причитающуюся вам за услуги.
– Довольно, сударь! Жители Аржантона уже расплатились со мною за вас: они избрали меня членом Конвента.
– Прикажите подать карету, Бланжи.
Бланжи сделал знак, и к крыльцу подъехала роскошная карета. Ливрейный лакей отворил дверцу. Жак Мере помог Еве спуститься с крыльца и, поцеловав ее в лоб на глазах у толпы, вверил ее попечениям новообретенного родителя.
Тот подхватил лишившуюся чувств девушку, сел вместе с ней в карету и приказал трогать. Лошади понеслись вскачь. Сципион бросил на доктора страдальческий взгляд и кинулся вслед за каретой.
– И он тоже! – прошептал Жак.
– Но теперь-то вы согласитесь, не так ли? – спросил Ардуэн.
В глазах Жака Мере блеснули разом вдохновение и гнев.

– Да, теперь я соглашусь, – сказал он. – И горе тем королям, что дают клятвы и тотчас отрекаются от них! Горе тем принцам, что заодно с чужестранцами обнажают шпагу против своей матери-родины! Горе тем сеньорам, которые именуют нас первыми встречными, хотя мы отдаем их детям все наши познания, всю нашу жизнь, всю нашу любовь и превращаем этих детей в существа, достойные с лилией в руке преклонить колена перед Господом! Горе этим сеньорам! До встречи, Ардуэн! Спасибо вам, граждане избиратели; вы еще услышите обо мне. я обещаю вам это, я вам в этом клянусь!
Призвав небеса в свидетели принесенной им гордой клятвы, доктор скрылся в своем доме и там, вдали от чужих глаз, зная наверное, что никто не станет свидетелем его слабости, пал на ковер, схватился руками за голову и зарыдал. Страшное слово срывалось с его уст:
– Один! Один! Один!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































