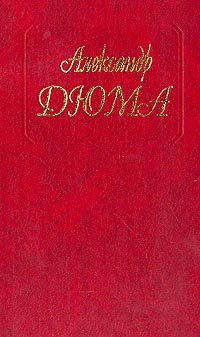Читать книгу "Таинственный доктор"
Александр Дюма
Таинственный доктор
I. ГОРОД В БЕРРИ
Утром 17 июля 1785 года над Берри прошумела гроза, и река Крёз, несшая свои глубокие воды между домиками на деревянных сваях, беспорядочно толпившимися вдоль обоих ее берегов, еще не успела успокоиться после дождя. Вскоре, однако, солнце, показавшееся из-за темной грозовой тучи, начало согревать еще не просохшую землю и ветхие, полуразвалившиеся домишки у реки стали выглядеть уже не так уныло.
Это скопище хромых, кривых и щербатых лачуг гордо именовалось городом Аржантоном.
Нет нужды уточнять, что расположен этот город в Берри. Даже сегодня, когда цивилизация стерла различия племен, провинций и городов, аржантонские крыши, заросшие мхом и цветущими левкоями, хранят очарование, к которому не останется равнодушным ни один художник.
Взберитесь ясным днем на вершину одной из скал, по склонам которых змеятся корни столетних деревьев; проложите себе дорогу сквозь густые заросли желтых лишайников, красных кустов дикой ежевики и залитых солнечным светом папоротников; цепляйтесь, чтобы не упасть, за серые и твердые, как и сами скалы, каменные стены – остатки просторных и неприступных крепостей, прочно слившихся с окружающей природой и казавшихся некогда столь же нерушимыми, что и гранитные склоны, на которых они возведены: они высились бы здесь и поныне, если бы не страшные войны времен Лиги и не могучая десница кардинала Ришелье; впрочем, даже самым истребительным войнам не удалось выкорчевать эти вечные основания, солдаты обстреливали их из пушек и долбили ломами, ветер выщерблял, быки и лошади топтали копытами, пастухи истирали ногами, но они выстояли, несмотря ни на что; поднимитесь на вершину скалы, нависающей над этими руинами – плодом не времени, но гражданских войн, – присядьте и оглянитесь.
Вам откроется зрелище, напоминающее о городах, рухнувших в бездну после страшной катастрофы; вы увидите дикое и живописное скопление домов с выдающимися далеко вперед балками, с массивными деревянными лестницами, пристроенными с внешней стороны, с крышами из пыльной соломы или черной черепицы, сквозь которую пробивается неистребимая трава. С высоты город кажется разорванным надвое темной, текущей между двумя крутыми склонами рекой, название которой – Крёз – говорит само за себя.
На длинных шестах, нависающих над ее течением, полощется по ветру, словно море разноцветных флагов, свежевыстиранное белье. Аржантонские дома – эти бесформенные строения с обнажившимся фундаментом, с выступающим наружу остовом, с массивными деревянными ребрами, свидетельствующими о детстве строительного искусства, – расположены в сердце самого прелестного и девственного пейзажа, какой только можно себе вообразить.
Здесь природа отнюдь не стремится к пышности. Во Франции славное Берри – то место, где простота наиболее выразительна, а Аржантон, пожалуй, самый простой город в Берри; здешние овцы – этот, можно сказать, герб провинции – и здешние гуси, что плещутся в быстрой реке, – самые натуральные овцы и гуси из всех, какие есть на свете.
Таков Аржантон сегодня, и таков же, по всей вероятности, был он в 1785 году, ибо это один из редких французских городов, которых не коснулось гибельное дуновение последних революций и которые пощадил дух перемен. Хотя с того дня, о котором мы ведем речь, прошло почти целое столетие, аржантонские дома уже тогда были так же ветхи, как и сегодня, ибо они уже много лет назад пришли в то состояние, когда возраст больше не оставляет следов; если что в этих лачугах и поражает взор туриста, художника, архитектора – так это их прочность; они подобны скалам и руинам укреплений, нависающим над ними. Можно подумать, будто долговечность им сообщает сама их ветхость, что они продолжают жить именно по причине своей древности; они уже так давно клонятся вправо или влево, что привыкли к этому положению и не видят никаких оснований падать куда бы то ни было, даже в ту сторону, куда клонятся.
Трудно передать словами покой, безмятежность и благодушие, царившие в душах аржантонцев 17 июля 1785 года; церковный колокол только что пробил полдневный «Angelus»11
«Ангел Божий» (лат.)
[Закрыть], и все они, каждый в своем жилище, поспешили покаяться Господу в своих безобидных грехах и попросить его, чтобы он и впредь не оставил их своим попечением: умиротворенность пейзажа и однообразие занятий исполняли необычайной кротости невинные души аржантонцев, чей покой не возмущали ни промышленность, ни торговля, ни политика, чья жизнь протекала на лоне все той же природы, среди деревьев, которые испокон веков были такими же высокими, и домов, которые испокон веков были такими же дряхлыми. Ведя подобное существование, аржантонцы и сами, казалось, не менялись и не старели: всякий год горожане радовались апрельскому солнцу, вселявшему в их сердца мужество, потребное, чтобы справиться с тяжкими летними трудами и докучной зимней праздностью, и тем походили на ласточек, каждую весну возвращавшихся под кровлю их домов.
Брожение умов, которым отмечен конец царствования Людовика XV и начало царствования Людовика XVI, нимало не затронуло аржантонцев; они не признавали над собою иной власти, кроме власти привычки. В Аржантоне знали, что Францией правит король; никто из здешних жителей никогда его не видел, но все ему верили и повиновались, ибо так приказал бальи, они ведь и в Бога верили и повиновались ему, ибо так приказал кюре.
На одной из самых пустынных и заросших травой улиц Аржантона стоял дом, отличавшийся от всех прочих лишь тем, что стены его были сплошь увиты плющом, в листве которого по вечерам устраивались на ночлег, кажется, все воробьи города и окрестных деревень.
Пернатые гости без опаски засыпали в своем убежище, вдоволь навозившись в его листве, а на рассвете поднимали шумный и веселый щебет, но, несмотря на это, дом пользовался дурной славой. Жил в нем двадцативосьмилетний врач, три года назад приехавший из Парижа. Он коротко стриг волосы и не пользовался пудрой, а между тем в моду такая прическа вошла лишь пять лет спустя, когда Тальма сыграл роль Тита. Почему врач постригся столь необычным образом? Без сомнения, только потому, что стричься коротко и не пользоваться пудрой ему было удобнее. Однако в ту эпоху врачу подобное новшество не смогло сойти безнаказанно; привыкнув определять мастерство учеников Гиппократа по величине их париков, аржантонцы не желали замечать, что сама природа завила волосы молодого врача лучше любого парикмахера и что эти черные кудри прекрасно обрамляют его бледное от бессонных ночей лицо, строгие и решительные черты которого указывают прежде всего на склонность к ученым занятиям.
Что вынудило этого чужака поселиться в Аржантоне, затерянном среди сельских просторов и предоставляющем врачу весьма скудную практику? Быть может, любовь к уединению и ничем не прерываемой работе; в самом деле, молодой ученый, которого горожане из-за его образа жизни прозвали таинственным доктором, ни с кем не знался и, что вдвойне неприлично в маленьком провинциальном городе, никогда не ходил ни в церковь, ни в кафе. На его счет ходило множество недоброжелательных и суеверных слухов. Ясно, что у него есть причина не пудрить волосы и не носить парик, рассуждали аржантонцы, но, раз он не может ее назвать, значит, дело нечисто. Доктора подозревали в сношениях с нечистой силой: ведь в ночном мире наверняка другие правила этикета, нежели в нашем, дневном.
Впрочем, больше всего оснований для подозрений в магии давали поистине чудесные результаты, которых достигал молодой доктор, исцеляя больных поразительно простыми средствами; многих несчастных, от которых отказались все остальные врачи, он поставил на ноги за столь короткое время, что доброжелатели называли это чудом, а неблагодарные пациенты и досужие зеваки – колдовством. Нетрудно догадаться, что доктор восстановил против себя не только своих коллег, которым постоянно наносил серьезный ущерб, но и всех тех – а их было великое множество, – кого он пользовал, как уже вылеченных, так и выздоравливающих: ведь людей неблагодарных и завистливых на свете куда больше, нежели людей доброжелательных.
Старухи, не отличавшиеся злобным нравом – а их в Аржантоне было пять-шесть, – говорили о докторе, что он уберегает от сглазу. В этой части Берри распространено поверье, будто иные люди рождаются на счастье или на горе не только себе подобным, но и всему Божьему миру, ибо им подвластны жизнь животных, судьба урожая и здоровье самой земли. Другие горожане, обладавшие более отвлеченным мышлением, приписывали поразительную способность доктора творить чудеса животворному дуновению, исходившему из его уст; третьи – некоторым его жестам и негромким словам; наконец, четвертые – глубочайшему знанию человеческой природы и ее еще непостигнутых законов.
Впрочем, расходясь в определении причин, все аржантонцы сходились касательно следствий, ибо доктор публично выказывал свое чудодейственное искусство, исцеляя людей и животных.
Так, однажды некий возчик, заснув, как это нередко случается, на передке телеги, свалился оттуда; лошади меж тем продолжали бежать вперед, и колесо телеги раздробило ему бедро. Кость была даже не сломана, а буквально расплющена в лепешку. Трое аржантонских врачей осмотрели страшную рану и, придя к выводу, что здесь не обойтись без вылущивания шейки бедра, то есть одной из тех операций, перед которыми отступают даже искуснейшие столичные хирурги, решили во всем положиться на природу – иначе говоря, обрекли больного на смерть от гангрены.
И тогда бедняга, поняв, что дела его плохи, обратился за помощью к таинственному доктору. Тот немедленно откликнулся на зов пациента и объявил, что операция предстоит трудная, но избежать ее нельзя, и потому он приступит к ней безотлагательно. Трое врачей, движимые милосердием, заметили, что неизбежная операция не только трудна, но и болезненна, вдобавок, кроме физических страданий, она грозит больному еще и страданиями нравственными: каково ему будет видеть, как хирургический нож отторгает часть его тела!
Однако доктор в ответ на это возражение только улыбнулся и, приблизившись к больному, пристально взглянул ему в глаза, простер над ним руку и повелительным тоном приказал ему заснуть.
Трое врачей с усмешкой переглянулись; до них, живущих вдали от Парижа, долетали смутные слухи о месмеризме, но они никогда не видели его в действии. К их немалому удивлению, больной тотчас повиновался приказу и крепко заснул. Доктор взял его за руку и спросил мягким, но властным голосом: «Вы спите?» Убедившись, что больной в самом деле спит, он тотчас достал инструменты и так же невозмутимо, как если бы имел дело с трупом, принялся за операцию. Доктор обещал, что она займет десять минут: точно через девять минут нога была ампутирована и вынесена прочь из комнаты, окровавленная простыня заменена чистой, больной переложен на другую постель, рана перевязана; больше того, к великому изумлению трех врачей, больной, проснувшийся по приказу доктора, улыбался.
Выздоравливал он долго, а когда совсем поправился, оказалось, что доктор изготовил ему протез, с помощью которого, даже потеряв почти четверть своего тела, он сумел самостоятельно передвигаться.
«Однако чем теперь заняться несчастному калеке?» – спрашивали не только три врача, приговорившие его к смерти, но и многие другие горожане из числа тех, которые всегда, даже при самой благоприятной развязке, бывают чем-нибудь недовольны. В самом деле, не лучше ли было бы позволить бедняге умереть и не заставлять его в течение десяти, двадцати, а то и тридцати лет влачить жалкое существование нищего? На что он станет жить? Неужели ему придется просить милостыню? Неужели коммуне, и без того небогатой, придется взвалить на себя еще и эту обузу?
Но тут местный сборщик налогов, ссылаясь на сборщика налогов всей провинции, объявил, что впредь казна будет выплачивать бедному калеке ренту в триста ливров, хотя никто не знал, откуда взялись эти деньги и кто их выхлопотал.
Не знал этого и сам больной, боготворивший доктора, о котором он говорил всем и каждому:
– Пусть только скажет слово – и я с радостью отдам за него жизнь, ведь она принадлежит ему.
Впрочем, – вещь почти невероятная для тех, кто не знает, что такое маленький провинциальный городок, – доктору эта великолепная операция принесла больше вреда, чем пользы: коллеги-врачи объявили, что они, пожалуй, тоже сумели бы спасти больного с помощью подобной операции, но, по их убеждению, лучше дать человеку умереть, чем возвращать его к жизни такой ценой, тем более что душа больного значит куда больше, чем его тело.
Почтенным медикам впервые в их практике случилось заговорить о душе. Другое происшествие стряслось в базарный день, когда разъяренный бык стал кидаться на людей; крики бегущих женщин и детей донеслись до лаборатории доктора, окна которой выходили на площадь. Он выглянул в окно, желая выяснить, что случилось. Увидев, как аржантонцы спасаются бегством от буйного зверя, который только что вспорол живот мяснику, храбро пытавшемуся с дубиной в руках преградить ему дорогу, доктор тотчас вышел на площадь; прекрасные его волосы развевались по ветру, крепко сжатые губы обличали ту железную волю, которая была одним из главных достоинств, а может быть, и главных недостатков его характера. Встав прямо на дороге у быка, он жестом подозвал его к себе, и тот, немедля приняв вызов, ринулся на наглеца…
Поскольку бык нагнул голову, доктор не сумел взглянуть ему в глаза и был вынужден отскочить в сторону, чтобы избежать острых рогов. Бык по инерции пробежал вперед еще шагов десять, потом повернулся, поднял голову и устремил мрачный взор на храбреца, не побоявшегося вступить с ним в единоборство. Человек пристально и властно взглянул на зверя – и это мгновение решило все: бык остановился как вкопанный, стал рыть землю копытами, взревел, словно желая придать себе храбрости, но остался неподвижен; тогда доктор пошел прямо на него, и чем ближе он подходил, тем сильнее дрожали и подгибались ноги у его противника; наконец доктор протянул руку и коснулся головы быка между рогами – тотчас, как новый Ахелой перед новым Гераклом, бык улегся у его ног.
Доктору представился и другой случай выказать свою удивительную власть над животными. Необходимо было впервые подковать необъезженного трехлетнего жеребца, однако жеребец сорвался с привязи, сбил с ног кузнеца и убежал в конюшню, где к нему никто не смел подступиться, тем более что он сбросил с себя и поводья и недоуздок.
Доктор, случайно проходивший мимо, помог кузнецу подняться и, убедившись, что его состояние не внушает опасений, пообещал, что через несколько минут жеребец сделается смирным и послушным.
После этого на глазах толпы, которая собирается в маленьких городках по всякому поводу, он вошел в конюшню почтмейстера – хозяина жеребца – и, посвистывая, держа руки в карманах, но не сводя глаз с разъяренного животного, стал подходить к тому все ближе и ближе, тесня его к стене; наконец он взял жеребца за ноздри и, пятясь, дабы ни на мгновение не спускать с него глаз, без всякого усилия отвел его назад в кузницу; по налитым кровью глазам жеребца было видно, что он покоряется этой высшей власти с великим отвращением, однако ослушаться он не смел; доктор меж тем, продолжая смирять животное взглядом, приказал кузнецу начать работу, и вскоре все четыре копыта были подкованы, причем лишь по страдальческой дрожи, пробиравшей жеребца, можно было догадаться, как тяжко переносит он свое поражение.
Понятно, что могли думать в конце прошлого столетия о враче, творившем на глазах жителей одного из наименее просвещенных городков Франции подобные чудеса. Звали врача Жак Мере.
II. ДОКТОР ЖАК МЕРЕ
Самыми непримиримыми хулителями Жака Мере были, без сомнения, врачи: одни называли его шарлатаном, другие – эмпириком, объясняя чудеса, которые ему приписывали, исключительно легковерием толпы.
Впрочем, враги нашего героя очень скоро убедились, что тяга простонародья к чудесному неистребима и все их старания отвратить горожан от общения с доктором не приносят ни малейшего результата. Тогда они решили открыто заключить союз с церковниками и объявили знания этого человека, дерзавшего лечить людей не по правилам официальной медицинской науки, дьявольскими.
Обвинения эти казались тем более обоснованными, что чужак не посещал ни церкви, ни дома кюре; все знали, что его жизненное кредо – помогать ближнему, но какова его вера, не знал никто. Никому не случалось видеть его преклонившим колена или молитвенно сложившим руки, а между тем нередко, созерцая природу, он погружался в ту задумчивость, что сродни молитве.
Однако, что бы там ни говорили врачи и кюре, мало кто из больных и калек мог устоять против соблазна: они отправлялись за советом к таинственному доктору с тем, чтобы, выздоровев, покаяться в грехе и поставить в церкви свечку в знак раскаяния, на тот случай, если улучшением своего состояния они в самом деле обязаны дьяволу.
Распространению легенд о Жаке Мере как о существе необыкновенном благоприятствовало и то обстоятельство, что он лечил и опекал далеко не всех. Богачам таинственный доктор упорно отказывал в помощи. Многие из них сулили ему за консультации горы золота, но он отвечал, что в Аржантоне довольно врачей, жаждущих лечить денежных больных, его же долг – помогать неимущим. К тому же, добавлял он, лекарства его, приготовленные, как правило, собственноручно, подходят лишь для грубоватых крестьянских натур.
Нетрудно догадаться, что в ту пору, когда филантропы и защитники народа исчислялись единицами, подобная строптивость вызывала резкий отпор светских остроумцев. Они с удвоенным пылом развенчивали врача, чье влияние не шло дальше демократического сословия, намекая, что он просто боится суда людей образованных и предпочитает творить свои чудеса в кругу темных невежд.
Жака Мере, однако, толки эти волновали очень мало, и он продолжал делать добро людям в тиши и уединении.
Поскольку жизнь он вел весьма замкнутую, поскольку доступ в его дом был закрыт для всех посторонних, поскольку в окне его каждую ночь горела, как некая звезда ученых бдений, маленькая лампа, люди умные и непредубежденные имели, как мы уже сказали, все основания полагать, что таинственный доктор поселился в Берри, дабы обрести тот ничем не возмущаемый покой, за которым древние анахореты отправлялись в Фиваиду.
Что же до бедняков и крестьян, свободных и от предрассудков, и от злорадства, они говорили о докторе: «Господин Мере словно Господь Бог: сам он невидим, зато его добрые дела видны повсюду».
Вернемся к утру 17 июля 1785 года. Стояла двадцати пяти градусная жара, но Жак Мере находился у себя в лаборатории; склонившись над ретортой, он был поглощен сложным опытом, который ему никак не удавался.
Жак Мере был химик и даже алхимик; родившись в эпоху научных, политических и общественных сомнений, когда смятение, объявшее нацию, подвигает индивидов на поиски неведомого, чудесного и даже невозможного, он стал свидетелем множества открытий: на его веку Франклин узнал, что такое электричество, и научился повелевать громом; на его веку Монгольфье поднял в воздух первые свои шары и подчинил своей власти – впрочем, скорее в теории, чем на практике, – царство воздуха. В ту же эпоху произошло и открытие животного магнетизма, которым человечество обязано Месмеру, однако в этой сфере наш доктор вскоре оставил первооткрывателя далеко позади; ведь Месмер, пораженный первыми проявлениями этой присущей всему живому силы, которую он выпестовал в своих мечтах и разглядел в реальности, но не сумел усовершенствовать, ограничил свои изыскания конвульсиями, спазмами и чудесами, творящимися вокруг волшебного чана; подобно Христофору Колумбу, который, открыв несколько островов Нового Света, оставил другому честь ступить на американский континент и наречь его своим именем, Месмер не постиг всех возможностей, какие таит в себе сомнамбулизм.
Как известно, роль, которую сыграл по отношению к Колумбу Америго Веспуччи, сыграл по отношению к Месмеру г-н де Пюисегюр, чьим учеником и был Жак Мере.
Он применил открытие немецкого ученого, носившее весьма общий характер, к искусству исцеления. С юных лет охваченный тягой к чудесному, Жак Мере углубился в лабиринт оккультных наук. Нехоженые, загадочные тропы, какие избирал этот любознательный ум, темные пропасти, куда он спускался, чтобы испросить совета у новейших Трофониев и добиться приобщения к священным таинствам; долгие часы, которые проводил в молчании он перед тем неумолимым сфинксом, каким является для человека познание; титанический бой, на который он вызывал природу, дабы принудить ее заговорить и вырвать у нее вечный и величественный секрет, хранящийся в ее недрах, – все это могло бы стать предметом научной эпопеи, не менее увлекательной, нежели поэма о поисках золотого руна.
Правда, Жак Мере не отыскал в этом сказочном странствии ни руна, ни золота, однако его это нисколько не заботило: он привык считать своими все звезды небесные, и они заменяли ему золотые монеты.
Впрочем, злые болтливые языки утверждали, что он богат, и даже очень богат.
Он изучил, исследовал, обдумал все: грёзы розенкрейцеров, иллюминатов, алхимиков, астрологов, некромантов, магов, физиогномистов – и вынес из своих изысканий религию для ума и совести, которой трудно подобрать название. Он не был ни иудеем, ни христианином, ни мусульманином, ни схизматиком, ни гугенотом; он не был ни деистом, ни анимистом; скорее всего его можно было бы назвать пантеистом: он верил в разлитый во Вселенной всеобщий флюид – средоточие жизни и ума. Он верил, или, точнее, надеялся, что могучая человеческая воля может подчинять себе этот флюид, созидающий и охраняющий живые существа, и ставить его на службу науке.
На этих-то основаниях и воздвиг Жак Мере, к ужасу всех академий и ученых обществ, свою дерзкую медицинскую систему; характер у нашего героя был твердый, и если он говорил себе: «Я так считаю» или «Я обязан так поступить» – то уже не обращал ни малейшего внимания на суждения людей, на их хулу или хвалу; он любил науку ради нее самой и ради добра, какое она может приносить человечеству в искусных руках знатока.
Когда, вознесясь в горние высоты мысли, он видел – или воображал, будто видит, – как атомы, тела простые и сложные, бесконечно малые и бесконечно большие, букашки и миры движутся по законам того, что он именовал магнетизмом, – о! тогда все его существо преисполнялось любовью, восхищением и благодарностью; величие природы настолько сильно потрясало его, что рукоплескания целой вселенной показались бы ему в подобные мгновения ничуть не громче писка крохотного комара.
Он изучил хиромантию по Моисею и Аристотелю, физиогномику по Порта и Лафатеру; исследуя мозг, он предугадал открытия Галля и Шпурцгейма, а равно и многих современных физиологов. Чаяния его, рожденные той смутной эпохой, в которую, как мы уже говорили, он жил и которая предшествует всем великим общественным и политическим катаклизмам, простирались, надо признать, гораздо дальше искусственных пределов, что кладет человеческим дерзаниями наука.
Есть на свете мечта, за которую Прометея прибили к скале бронзовыми гвоздями и сковали алмазными цепями, что не помешало кабалистам средних веков, от Альберта Великого, которого Церковь возвела в сан святого, до Корнелия Агриппы, которого Церковь ославила демоном, гнаться за той же дерзкой химерой; мечта эта состоит в том, чтобы сотворить нового человека, вдохнуть в него жизнь.
Создать человека, как выражаются алхимики, вне естественного сосуда, extra vas naturale, – мираж, вечно кружащий головы вдохновенным безумцам, цель, из века в век не перестающая их манить.
Если бы цель эта оказалась достигнутой, древо науки навечно переплелось бы ветвями с древом жизни: тогда ученый из великого человека превратился бы в бога, тогда древний змий обрел бы право, вновь подняв голову, спросить у наследников Адама: «Что ж, разве я обманул вас?»
Жак Мере, который, подобно Пико делла Мирандола, мог говорить обо всех известных вещах, а также о некоторых других, изучил все способы, к каким прибегали средневековые ученые, пытаясь создать живое существо по своему образу и подобию, и признал эти способы, начиная с выращивания ребенка в тыкве и кончая сотворением андроида из меди, смехотворными.
Все эти люди заблуждались, они не сумели отыскать дорогу к истокам жизни.
Несмотря на множество бесплодных усилий, доктор, этот возвышенный вор, не терял надежды найти средство похитить священный огонь.
Желание это заглушало в нем все прочие чувства; сердце его оставалось холодно и служило исключительно для нагнетания крови в артерии.
Обладая натурой бога, Жак Мере не способен был любить существо, созданное не им, доктором Мере. Поэтому, одинокий и печальный среди толпы, на которую он даже не смотрел или смотрел равнодушным взором, он дорого платил за свои честолюбивые помыслы.
Подобно Господу до сотворения мира, он скучал.
Тот день, о котором мы ведем речь, начался для Жака Мере довольно счастливо: некая соль, чьи целительные свойства он исследовал, растворилась в реторте именно так, как следовало; не успел доктор порадоваться этому обстоятельству, как до слуха его донеслись три поспешных удара во входную дверь.
Удары эти разбудили черного кота, которого злые языки, в особенности из числа городских ханжей, именовали домашним гением доктора, и он сердито замяукал.
Старая служанка, известная всему Аржантону под именем Горбатой Марты и пользовавшаяся в городе такой же дурной славой, как и ее хозяин, взбежала по деревянной лестнице и ворвалась в лабораторию, даже не постучав, хотя доктор, не любивший отрываться от своих сложных опытов, строго-настрого запретил ей входить без стука.
– Что с вами, Марта? – спросил Жак Мере. – На вас лица нет!
– Сударь, – отвечала служанка, с трудом переводя дух, – за вами срочно прислали из замка.
– Вы прекрасно знаете, Марта, – сказал доктор, нахмурившись, – что я уже не раз отказывался от поездок в этот ваш замок: я лечу только бедняков и простых людей, а господа из замка пусть обращаются к моему соседу, доктору Рейналю.
– Врачи не хотят туда ехать, сударь; они говорят, что это не по их части.
– Да в чем там дело?
– Там завелась бешеная собака, которая кусает всех подряд; самые храбрые конюхи вооружились вилами, но не смеют к ней подступиться, а она забежала во двор замка и перепугала все семейство господина де Шазле.
– Я же сказал вам, Марта, дела сеньора меня не касаются.
– А бедняки, которых собака уже искусала или покусает очень скоро? Это, по-моему, вас касается. Если их тотчас не перевязать, они и сами взбесятся вслед за этой псиной.
– Ладно, Марта, – согласился доктор, – ваша правда. Сейчас иду.
Доктор вверил реторту попечениям Марты, наказав не прибавлять огня и дать ему постепенно погаснуть, и спустился вниз, где его в самом деле ожидали два гонца из замка, бледные и встревоженные.
На их жуткий рассказ о бедах, которые наделала в замке взбесившаяся собака, доктор отвечал одним-единственным словом: «Едем!»
Он вскочил на приведенного ему коня, двое слуг оседлали тех взмыленных коней, на которых они прискакали в город, и все трое понеслись к замку.