Текст книги "Обратный адрес. Автопортрет"
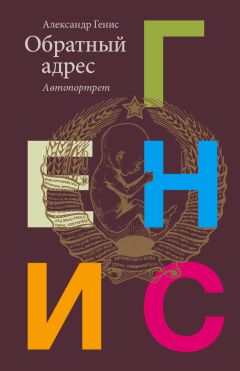
Автор книги: Александр Генис
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Суворова, 8,
или
Соседи
– Придет день, когда кровью русских будут мазать крыши, – сказала Сильва, и никто не стал с ней спорить, кроме, разумеется, бабушки, которая не могла понять, за что можно не любить народ, давший миру Хрущева и Шульженко.
Меня больше удивляло, зачем красить крыши, когда в нашем старинном городе они и так из красной черепицы. Но взрослые, ничего не объясняя, молча смотрели себе под ноги на дубовый паркет, выложенный не обычной елочкой, а фигурными ромбами и квадратами.
Раньше этот паркет, как и вся квартира, принадлежал родителям Сильвы. Когда Красная армия вернулась в Ригу, их выслали, а армия – в лице майора Петрякова – осталась. Девочке отвели комнату у входа, в которой она жила, как заноза в совести. Еще хорошо, что не нашей, а майорской.
Расположившись с комфортом, Петряков, однако, страдал от лишнего и замазал паркет красной, как те же крыши, краской. Теперь жить стало проще, как дома: пол можно было мыть, а не натирать, как это научились делать мы.
Дважды в году, к Седьмому ноября и к Первому мая, мебель собиралась в хрупкие пирамиды, чтобы отодрать пол жесткими щетками, намазать вонючей, но предвещающей праздники мастикой и натирать, натирать, натирать до цвета нашего пасмурного солнца. Чтобы процесс шел не прекращаясь, бабушка сшила всем тапочки на тучном войлоке. Гости с непривычки поскальзывались, зато мы с братом ловко катались по паркету от угла до зеркала и обратно. Мне эти тапочки казались волшебными, потому что, натирая паркет, они приносили пользу, куда бы ты в них ни шел.
Но как бы мы ни старались, краска Петрякова тоже не сдавалась. То и дело из-под лимонной мастики проступала ядовитая бордовая сыпь, бубоны прежней чумы, непонятным образом пережившей в подполье напрасные усилия полотеров. При первых признаках опасности шились новые тапочки, и опять сдвигалась к стенам мебель.
В конце концов, она там так и осталась: и тахта с подламывающимися ножками, и пухлые пуфики, и стол, раздвигающийся на всех, сколько бы их ни пришло гостей, и, конечно, сейф семьи с валютой инженеров: книжные полки. На них покоились те самые многотомники, за которыми стояли ночами в Рязани: шоколадный Бальзак, травяной Мопассан, изумрудный Франс, серый Генрих (а не коричневый Томас) Манн. Примостившаяся к стенам мебель освобождала место для пустоты, которой из уважения не пользовались. Запас нетронутого, как в Канаде, пространства придавал жизни оттенок неутилитарной роскоши.
Квартирой родители гордились больше, чем детьми и работой. Она была свидетельством столь неслыханного обмена, что его успех можно объяснить только геополитическими причинами.
Как уже говорилось, раньше мы жили в Рязани. Когда отца, который любил политику, мечтал увидеть Европу, читал «Новый мир» и верил, как моя украинская бабушка, Хрущеву, выгнали с работы по совокупности заслуг, он отправился искать счастья туда, куда всегда стремился – на Запад. В Риге он оказался потому, что там были квартиры с камином. Прочитав об этом черным по белому в разделе «Обмен» газеты «Советская Латвия», отец решил, что не такая уж она советская и ринулся на поиск вариантов. Только кто же в здравом уме согласится обменять камин, трубочистов в срисованных из андерсеновских сказок мундирах, острые крыши с красной черепицей, бальзам, «вылечивающий от колотых ран», миногу из сосновых окорят в чайном желе и вольный балтийский ветер из не такой уж далекой Швеции на рязанскую улицу Горького, ведущую к оборонному заводу?
Понимая, за что взялся, отец не бросал начатого, следовал за историей и искал военных, обязательно – земляков. Майор Петряков подходил по всем статьям. Он был пресыщен Западом и скучал по родине, на которую Рига никак не хотела походить. Наряду с русским Лениным здесь стоял немецкий Гердер и уже совсем непонятно какой Барклай-де-Толли. Магазин назывался Veikals, парикмахерская – Frizetava, и улица Горького – с выкрутасами модерна – выглядела совсем не так, как ей положено. Балтийский ветер был промозглым, в доме офицеров кормили червями в желе, водку разбавляли похожим на пертуссин бальзамом, город кишел недобитыми фашистами, включая одну, свившую гнездо прямо у входных дверей, которые Петряков, не рассчитывая на дружбу народов, обил листовым железом. К тому же паркет не сдавался и просвечивал сквозь масляную краску в процарапанных сапогами прогалинах. Майор хотел домой, а мы – из дома.
Так состоялся обмен. Отец умел падать вверх, он даже умер у моря, на Лонг-Айленде.
2.
Мир тогда был слегка другим, но тоже красивым. Люди, даже взрослые, закидывали голову, чтобы полюбоваться самолетом. Телевизор считался роскошью. На каждый день программ не хватало, и его смотрели дважды в неделю, но уж всё, что показывали. Машины ездили редко. Чаще всего – зеленые газики, зеленые же грузовики с дощатыми бортами и серые покатые «Победы». Иногда – редкие, как землетрясение, «Чайки». В одной я увидел лысого Хрущева. Еще лучше был катафалк с гробом на открытой платформе. Он ехал шагом, потому что сзади шел военный оркестр. Брату понравились медные тарелки, и он научился на них играть, чтобы много лет спустя, в армии, лабать, как говорили музыканты, жмурика.
Улица Суворова была центральной – по ней ходил трамвай, поднимавший жуткий грохот. Когда в пять утра первые вагоны катили из депо, гостивший у нас родственник из тихой подмосковной Кубинки решил, что опять началась война. Но настоящий шум поднимался перед парадом. Ночью по Суворова шли танки, пушки, позже и ракеты на тяжелых платформах.
Завидной особенностью нашего дома был выдвинутый из плоского фасада эркер, позволявший глядеть из бокового окна на улицу в профиль. Пока меня не отправили в школу, мы с котом и бабушкой целыми днями лежали на подоконнике, наблюдая «реализм жизни» и, конечно, фасоны.
Если смотреть из детской, Суворова уходила к базару. Поздним утром с него шли аккуратные рижские старушки с хозяйственными сумками, из которых обязательно торчали цветы. Без них в Риге считалось немыслимым вернуться с рынка. Молодежь предпочитала авоськи, обычно с картошкой. Деликатесы, те же миноги, несли в портфеле и только мужчины, праздник считался по их части. На Лиго (так латыши называют Иванов день) с базара несли потешные шляпы из гофрированной бумаги. Мне доставалась треуголка – я уже тогда любил историю.
Из окна столовой открывался вид на Дзирнаву – старинную Мельничную улицу, которая тоже вела к базару, но черными, хозяйственными, окольными путями. По ней ходил гужевой транспорт. Я еще застал телеги, в которых развозили молоко в проволочных ящиках. Бутылки легонько тренькали, как хрустальная люстра.
Живя слегка на отшибе, Дзирнаву отличалась странными магазинами. В одном продавали хомуты, в другом – похоронные принадлежности: сатиновые костюмы, рубахи без спины и туфли на картонной подошве. Не удивительно, что мне снились мертвецы еще до того, как я прочел Гоголя.
За углом, удалившись от центра, Дзирнаву сворачивала к «Маскачке», где улицы напоминали районную библиотеку: Тургенева, Пушкина, того же Гоголя и даже Белинского. Несмотря на писателей, Московский форштадт считали бандитским, и мне не разрешалось его навещать даже с бабушкой.
Зато Суворова вела к цивилизации: к кондитерской в деревянной избушке, на витрине которой хитрая машина выплевывала горячие пышки на глазах у прохожих, и к широкоформатному кинотеатру с довоенным названием «Палладиум», где в пустом зале показывали «Залп „Авроры“», а в полном – «Спартака» с Кирком Дугласом.
В кино меня, впрочем, не пускали, а бабушка предпочитала жизнь искусству, и мы сидели у окна, пока не приходило время варить борщ и кормить Миньку.
3.
Страна жила вождями, мы – соседками. Каждая их них составляла эпоху и отравляла ее.
Лучше всех была первая. Сильва ненавидела русских, но любила нас, особенно – бабушку, приучившую ее к борщу, но не к Шульженко. Со временем, однако, Сильва выросла, и у нее появился Карл – высокий, белобрысый латыш.
Карл работал грузчиком на кондитерской фабрике «Лайма», что значит «счастье». В оригинале это, скорее, латышская Фортуна, языческая богиня везения, удачи, отнюдь не всегда заслуженной, но обязательно лакомой. В центре города стояли часы с надписью «Лайма», где встречались влюбленные. Старушки там продавали букеты, власти построили сортир. От прежнего времени осталось открытое кафе, которое все называли «Птичник». Здесь подавали «Крем-шнитте», самое вкусное пирожное к востоку от Бреста. Но Карл крал конфеты, знаменитый «Прозит», считавшийся лучшей (после Рижского же бальзама) взяткой гостиничному администратору любого города СССР. В узкой коробке лежало восемь шоколадных бутылочек с экзотическими напитками – ромом, шартрезом, банановым ликером. Получался жуткий ерш, который валил с ног рабочих. Ведь они потребляли «Прозит» без закуски – не дождавшись, пока сахарные бутылочки покроет черный шоколад.
С появлением Карла в доме началась сладкая жизнь: взрослые выпивали конфеты, я съедал тару. Идиллию прервала ревность. Наевшись «Прозита», Карл закатывал Сильве скандалы, считая, что она сошлась с оккупантами, включая бабушку.
Следующую соседку всегда звали Ольгой Всеволодовной.
– Как что, так сразу милиция, – представляясь, сказала она и не обманула, ибо каждое воскресенье у нас начиналось праздником, а кончалось участковым.
Привыкнув, он редко уходил, не выпив рюмки. Это так раздражало Ольгу Всеволодовну, что она пригласила нас на товарищеский суд. Виновные пришли в орденах и медалях – кто за войну, но больше – за труд. Профессора и ученые, инженеры и врачи, друзья моих родителей представляли городскую интеллигенцию, выпивали поллитра на завтрак и могли сплясать на столе. Решив, что правда – посередине, товарищи настояли на статус-кво, и Ольга Всеволодовна перестала с нами разговаривать.
Между тем, пришла зима, и она купила шубу, в которой боялась выходить на улицу, чтобы не сняли. Настрадавшись в одиночестве, Ольга Всеволодовна знаками зазывала к себе бабушку и ходила в шубе от стола к комоду. К нам она не подобрела, но стала задумываться.
– Раньше я считала, – рассуждала Ольга Всеволодовна вслух на кухне, – что евреи водку не пьют, теперь я в этом убедилась: они ее хлещут.
Новая соседка не видела в этом проблемы. Клара Бачан весила 150 кило и коротала жизнь на кухне до тех пор, пока не садилась на диету, во время которой она, намучившись днем, ела ночью. Из-за своего рамадана Клара засыпала там, где садилась, например – на унитазе в нашей единственной уборной. Отправляясь на работу, она присаживалась у входной двери, натягивала сапоги и не просыпалась уже до вечера. Я огибал ее круглую фигуру, когда приходил из школы, предупреждая друзей, чтобы не пугались, потому что в темном коридоре она напоминала Стерегущего идола из книги «Копи царя Соломона», перечитывая которую я всегда вспоминаю соседку.
4.
Наш дом начинался глубоким подъездом, в котором всегда пахло мочой. Замок не мешал страждущим справлять нужду, потому что не требовал ключа и открывался двухкопеечной монетой.
Лавируя по сырому полу, я бросал взгляд на черную доску жильцов. Если к первой букве нашей фамилии добавлялась лишняя палочка, то это значило, что в гости приходил Таксар. Маленький и полный, он был доктором физико-математических наук, но это не мешало ему носить с собой завернутый в носовой платок мел, которым он, взобравшись на плечи друзей, исправлял Г на П. Дворнику было наплевать, отец, подозреваю, гордился, и доска оставалась нетронутой, пока мел не ссыпался, а Таксар вновь не навещал нас. Его жена выросла в Берлине и видела Гитлера, когда тот приезжал к ним в школу. Евреям разрешили пропустить занятие, но она все равно пришла и ничего особенного не запомнила.
Лестничные клетки украшали большие окна. Я подолгу торчал у каждого, когда возвращался домой, обремененный двойкой. Во дворе росла огромная – выше дома – липа. В ее дупле мог спрятаться ребенок – я, но путь к стволу охраняла бездонная лужа и мусорные контейнеры. Я вздыхал и поднимался на четвертый этаж.
Наша могучая, оставшаяся в наследство от Петрякова дверь могла пережить гражданскую войну, тем более что между первой, железной, и второй, деревянной, оставался проем для засады. В него влезали лыжи, падавшие на неосторожного пришельца. За порогом начинался – и не кончался – коридор. Темный, как прямая кишка с полипами сундуков, он вел в глубину жилья, задерживался на антресолях и, шесть дверей спустя, вливался в кухню. Ею владела чугунная плита с литыми инструкциями, которые объясняли немецким языком и готическим шрифтом, куда что ставить. В наших болотных краях топили торфом. Жизнь спустя я узнал этот кислый запах, спалив в камине сувенирный брикет на День святого Патрика.
За кухней пряталась треугольная девичья, где спала бабушка и пропадал я. Здесь она шила нам тапочки на немецком «Зингере» с ножным приводом, а я разбирал ее приданое: мешок пуговиц и стопку старинных открыток, включая мою любимую с цыпленком в цилиндре:
– Для дороги я одетъ, – говорил цыпленок на дореволюционном, – приготовьте мне билетъ.
Гостей принимали в гостиной, которая становилась спальней, когда закрывалась застекленная французская дверь. Старорежимный шик, однако, кончался, не успев начаться. Выписав журнал «Польша», самое западное из доступных тогда изданий, отец пристрастился к крутому авангарду и покрасил стены по-разному. В одной комнате – серым и синим, в другой – желтым и бордовым, в третьей – зеленым и фиолетовым. Только бабушка («вы – кремень, а я – булат») сумела отстоять в своей каморке обои в цветочек. В отместку отец выбрал для сортира свинцовый сурик и вкрутил в патрон 100-ваттную лампочку без абажура. Старинный унитаз с высоким сливным бачком и ручкой на цепочке напоминал мне гильотину, наверное потому, что я слишком много читал, в том числе в уборной.
Из всех новшеств главным был трёхногий столик уникальной эллиптической формы, которую отец обнаружил на страницах все той же «Польши». Столешницу из толстой фанеры нам выпилили по блату. Мама работала на атомном реакторе, где умели делать все, кроме полезного. Три гнутые ноги отец приклеил сам. Чтобы стол не выделялся, его раскрасили, как клоуна, и поставили под неизбежным торшером.
На готовое пришли гости и сели за преферанс на новом столе. С тех пор они редко уходили. Игра продолжалась до глухой ночи, но меня не гнали, и я, научившись держать язык за зубами, следил за картами, переживая за всех.
Посередине стола лежала «пуля» – расчерченный, как мишень, лист, на котором велась бухгалтерия преферанса. Первый самиздат, отпечатанная умельцами с того же реактора пуля делилась вековыми поговорками. В одном углу – вздох: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». В другом – урок: «Худшие враги преферанса – шум, жена и скатерть». В третьем – загадочный совет: «Нет хода, ходи с бубей». В четвертом – сухое назидание: «За игру без сноса наверх без двух», но оно не помогало Фончику, когда к концу партии он оставался с двумя лишними картами на руках. Фонарев всегда ходил в галстуке, читал на трех языках, говорил на четырех и помнил ту Латвию, которую все из зависти называли «буржуазной». По профессии он был сапожником и жил на широкую ногу, когда не забывал снести.
Научившись преферансу, я стал приглашать уже своих гостей. Но однажды, не выдержав юного азарта, стол рухнул вместе с бокалами и фарфоровым сервизом. Уцелели только чайные ложки. Оглядев руины, родители решили, что я вырос, и столик исчез из дома. Вместе с ним кончились шестидесятые.
Висвалжу,
или
Мои университеты
Все свое образование я получил на короткой, в один квартал, улице с названием, напоминающим глагол: Висвалжу. Здесь располагалась и очень средняя 15-я школа, и такой же филологический факультет.
К тому времени, однако, родители уже не гнались за красотой, ибо обожглись на ней с моим братом, когда отдали его в школу с видом на Академию художеств. Выстроенная в стиле кирпичной готики, отличавшейся от обыкновенной тем, что была на семь веков новее и намного наряднее, Академия соблазнила отца. Эта архитектура не походила на все, что он видел в православном Киеве и в провинциальной Рязани. Крутые крыши, терракотовые стены, стрельчатые окна с тюлевыми занавесками, за которыми прятались, думалось нам, обнаженные натурщицы. Сам я никогда в Академии не был. Она считалась вотчиной только латышского свободомыслия, где процветала нефигуративная живопись балтийской фовистки по имени Майя Табака и устраивались (по сугубо непроверенным слухам) вернисажи с оргиями.
Так или иначе, Гарика, который в Рязани связался со шпаной и научился курить, определили в школу с эстетическим намеком. Глядя на уроках в окно, надеялись родители, он невольно приобщится к прекрасному. В окно Гарик смотрел, но прекрасное не помогало, и он так плохо учился, что я делал за него уроки до тех пор, как не пошел в школу сам.
Пока этого не произошло, я томился скукой и мечтой о хотя бы начальном образовании, которое я себе воображал по уже прочитанному «Незнайке». Родители не разделяли моих грез, но и не разоблачали их из педагогических соображений. Неопределенное мычание в ответ на мои восторги укутывало полупрозрачным занавесом тайны предстоящую мне школу, и я подозревал в ней мистерию, вроде брака, о котором имел столь же смутное представление.
Встреча, однако, откладывалась, родители тянули, чтобы дать мне шанс насладиться последней свободой. Не принимая этого аргумента, я тянулся к знаниям, как монах к веригам, и выполнял за Гарика упражнения по русскому языку, заполняя пробелы в трудных словах печатными, точнее какими умел, буквами.
Весной эта добровольная повинность становилась особенно трудной из-за Миньки. Требуя отпустить его на дачу, где нашего кота уже с марта ждали наглые юрмальские кошки, он в знак протеста мочился в валявшийся под столом портфель Гарика. Легкий запах мочи до сих пор ассоциируется у меня с русской грамматикой, но, как почки в рассольнике, этот нюанс придает ей прелесть, которую могут оценить лишь истинные знатоки и любители.
2.
К моему разочарованию, первого сентября уроков не было, но снаружи мне школа понравилась. За незатейливым и добротным желтым зданием привольно расположился стадион со взрослым футбольным полем. С другой стороны, под железнодорожной насыпью, росли ветхие ивы с глубокими дуплами. В них, как я вскоре выяснил, прятались курившие школьники.
На следующий день я вошел в вестибюль, отравленный запахом еще не просохшей, напоминавшей о лете зеленой краски. Первым меня встретил похожий на ангела курчавый Ленин. (Много лет спустя, уже в Америке, я подружился с Мишей Бланком, который выглядел точно так же, только был больше.) Второй была гардеробщица. Толстая и миролюбивая, она вскоре стала моим единственным утешением, и мне стыдно, что я забыл ее имя-отчество. Зато я запомнил свою первую учительницу Ираиду Васильевну и ничего ей не простил.
Чтобы понять весь ужас происшедшего с тех пор, как я вошел в класс (1 «В»), я должен объяснить, чего ждал от школы. В моих глазах она была истинным (в отличие от ложных, с крестами) храмом. В нем, естественно, поклонялись знаниям, которые были захватывающей игрой, как футбол, праздничным ритуалом, как Новый год, бескорыстной любовью, как к Миньке. Но главное – знания обещали переход в иной, потусторонний, мир, где росла душа, отрываясь от тела.
На самом деле в школе тело отрывалось от души и становилось единственно важным, как я выяснил еще до звонка, получив моим же портфелем по кумполу.
Второй школьный урок мне преподала Ираида Васильевна, видевшая во всех нас малолетних преступников. Бесправные и неполноценные, мы постоянно нарушали закон: вертелись, щипались, шептались, а один (если верить дневнику, им был я) даже мяукал на уроке. И как его (меня) не понять, если нас, как Миньку, держали взаперти, за глухими, хоть и застекленными дверями, не пуская в весенний сад, где растет древо познания с румяными плодами из Жюль Верна.
Школьные знания начинались с прописей и кончались двойкой. Между двумя точками одной кривой случались, как по пути к Голгофе, остановки. Мерзкая перьевая ручка с пером-уточкой, эбонитовая чернильница с лживым названием «непроливайка», подобострастный смех соузников над идиотскими шутками учительницы, тапочки для физкультуры, из-за которых все узнали, что я не умею завязывать шнурки, и, конечно, изнурительная скука знаний: «жи-ши пиши через и», а что пиши, никому не важно.
Перемены разительно отличались от уроков и были намного хуже. Вырвавшись из-под педагогической узды, дети возвращались в естественное состояние неблагородных дикарей. Сильные били слабых, слабые – беспомощных, и единственным способом ограничить насилие был футбол. За это я люблю его до сих пор.
Я не помню, чтобы мне удалось забить мяч в чужие ворота, но игра придавала азарту форму и удерживала от беззакония на время тайма. Признав мои усилия казаться нужным, меня перевели в полузащитники, отодвинув подальше от безнадежного вратаря. В сущности, на этой позиции – сидя на двух стульях между двумя континентами – я и провел всю последующую жизнь, но тогда я этого еще не знал, простодушно радуясь тому, что на поле били только по мячу.
Понимая, что помощи ждать не приходится, я не рассказывал дома правду о школе, но она мне снилась. Ираида со стальными зубами, правописание в кляксах, штаны с чернильными подтеками, разбитое окно, преследовавшее меня до каникул. Просыпаясь, я шел в школу. Обходя трещины на асфальте, я таким образом заклинал судьбу, чтобы не получить двойку на уроке или на перемене – по лицу. Свернув на куцую улицу Висвалжу, откуда до школы оставалось три минуты, я замедлял шаг и начинал клясться.
– Пройдет много лет, – говорил я себе про себя, – я стану большим и глупым, как все взрослые, но никогда, что бы со мной ни произошло и где бы я ни оказался, я не забуду тех страшных трех минут на улице Висвалжу, которые отделяют меня от первого звонка, Ираиды Васильевны и мордобоя.
Я не забыл об этой клятве до сих пор, хотя и дал ее в первом классе. Во втором появился Максик.
3.
Второгодники в школе играют ту же роль, что на воле – блатные. Они ходят вразвалку, размахивают руками – так, что видны ладони. Они нравятся женскому полу. Они внушают страх и сидят на камчатке. Максик был смазлив, высок, силен и смышлен во всех сферах жизни, кроме учебной. Влившись в коллектив, он сразу установил свое превосходство в поединках с элитой – форвардами футбольной команды. Доказав свою силу там, где она могла внушать сомнение, он перешел, уже из молодецкой удали, на слабых, в том числе – на меня.
– Вырубим? – сказал Максик на большой перемене, которую мы коротали под ивами.
– Не стоит, – скрывая ужас, уклонился я.
Но было поздно. Однокашники уже образовали круг, а Максик (в качестве бандерильи) хлопнул меня по щеке еще открытой ладонью. Вспомнив боксеров из телевизора, я стал подпрыгивать на месте, чем вызвал гогот и получил под дых. Горя от возбуждения и страха, я не чувствовал боли и гадал, когда это кончится. Никем не установленные, но всем известные правила предусматривали два исхода драки: до первой крови или уложить на лопатки. Не дожидаясь первой, я, надеясь быстрее сдаться, вошел в клинч и неожиданно повалил противника на спину. Одержанная на глазах класса победа была бесспорной, но я не заблуждался в том, что мне предстоит дорого за нее заплатить.
С того дня Максик бил меня на каждой перемене и еще после школы. Жаловаться я не мог, потому что это было еще хуже, чем плакать. Прогуливать школу я не решался, а по болезни не выходило. Несмотря на общую хилость (меня даже звали Скелетом), я никогда ничем не болел. Только раз из-за мороза отменили занятия, после чего я каждое утро бросался к градуснику.
Самое странное, что Максик был мне врагом не всегда, а только в школе. Его мать обладала немалой властью, служила дворничихой в соседнем доме и все про нас знала. По вечерам она посылала сына к нам поиграть и набраться ума. Максик звонил в дверь, вежливо здоровался и намекал, что хочет есть. Бабушка бросалась жарить картошку, но перед тем, как сесть к столу, он недолго отнекивался, считая, что перед едой положено стесняться.
В школе, однако, все начиналось сначала. Максик заламывал мне руку, пачкал форменный пиджак с якобы белым воротничком и возил носом по полу на глазах у девочек. По немому уговору мы с ним никогда не обсуждали в школе то, что происходило дома, а дома – то, что случалось в школе.
Я даже знаю – почему. Школа была фронтовой зоной, но переступив наш порог, Максик становился абреком, которого следовало угощать и не попрекать. Разобравшись в этикете и дойдя до отчаяния, я решил перенести военные действия на его территорию. Вооружившись игрушечным молотком, сопровождавшим меня в геологических экспедициях, когда мы жили на даче, я пришел к нему домой и сразу, не пускаясь в объяснения, треснул молотком по лбу. Максик упал скорее от удивления, а я вернулся домой, трепеща от триумфа, восторг от которого не оставляет меня и сегодня.
Вечером, однако, к нам ворвалась его мать. Назвав меня уголовником, она обещала подать в суд, и родители ее едва успокоили, обещав меня сильно выпороть, что было, конечно, ложью и блефом. Били меня только в школе, а отец ударил один раз, когда я умудрился получить единицу по ботанике.
К счастью, Максик вновь остался на второй год, и наши пути разошлись, чтобы пересечься, когда мы выросли. Местом встречи служил гастроном, где он служил грузчиком, а я – клиентом, покупавшим выпивку а неурочное время. От перемены мест наши отношения не изменились. Максик по-прежнему был на коне и зарабатывал – в том числе на мне! – сколько нам и не снилось.
– Что-то тут не так, – понимал я, но сумел исправить положение, лишь оставив ему страну.
4.
Школьные годы тянулись, меняясь меньше меня. Я рос, учась выживать. Сидел, например, у окна на нужной парте. Первая – для отличников, последняя – для второгодников, вторая – в слепом пятне, где можно невозбранно читать свое или пялиться на рельсы, где сновали пригородные электрички и поезда дальнего и недоступного следования. В остальное время я писал стихи – фломастером на парте, по-английски и ямбом: «Make love, not war».
Моя экстравагантная парта нравилась девочкам, и я зауважал английский язык как средство общения между полами. Жизнь сделалась сносной. Особенно после того, как я перебрался на другую сторону все той же улицы Висвалжу, чтобы войти в цементный куб филологического факультета.
На вступительных экзаменах я выбрал беспроигрышную тему для сочинения: «Народ у Пушкина». Чтобы не путаться с цитатами, я остановился на одной, из «Годунова»: «Народ безмолвствует». Не уловив – или наоборот – уловив диссидентский подтекст, экзаменатор поставил мне пятерку. Сдав остальное не хуже, я поступил в университет в непривычном ореоле круглого отличника. Именно поэтому меня выбрали комсоргом.
– Я не достоин принять эту должность, – сказал я кобенясь, как тот же Годунов.
– Достоин, – возразили старшие.
– Нет, не достоин, – уперся я, – потому что не имею чести состоять в комсомоле вовсе.
Проверив бумаги и убедившись в промахе, меня отпустили из деканата. Лучшее, что я могу сказать об университете, сводится к тому, что я там женился.
С тех пор прошло сорок лет. Все в моей жизни поменялось, кроме жены, с которой мы иногда поем дуэтом чуть ли не единственное, что вынесли из университета: «Gaudeamus igitur. Juvenes dum sumus».
И еще, вспоминая уроки отечественной морфологии, мы коротаем долгие, как водится в Америке, автомобильные поездки за филологическими играми, способными свести с ума изучающего русский язык иностранца.
– Если он – чиновник, – начинаю я, – то она – чиновница.
– Если он – мельник, – продолжает жена, – то она – мельница. Но если он – хохол, то она – хохлушка.
– А если – бездельник, то она – безделушка.









































