Текст книги "Какая музыка была!"
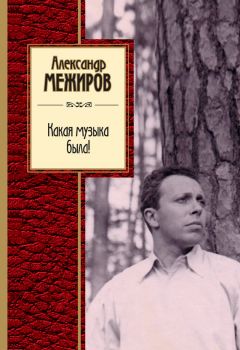
Автор книги: Александр Межиров
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Утром
Ах, шоферша,
пути перепутаны!
Где позиции?
Где санбат?
К ней пристроились на попутную
Из разведки десять ребят…
Только-только с ночной операции,
Боем вымученные все.
– Помоги, шоферша, добраться им
До дивизии,
до шоссе.
Встали в ряд.
Поперек дорога
Перерезана.
– Тормози!
Не смотри, пожалуйста, строго,
Будь любезною, подвези!
Утро майское.
Ветер свежий.
Гнется даль морская дугой,
И с балтийского побережья
Нажимает ветер тугой.
Из-за Ладоги солнце движется
Придорожные лунки сушить.
Глубоко
в это утро дышится,
Хорошо
в это утро жить.
Зацветает поле ромашками,
Их не косит никто,
не рвет.
Над обочиной
вверх тормашками
Облак пороховой плывет.
Эй, шоферша,
верней выруливай!
Над развилкой снаряд гудит.
На дорогу, не сбитый пулями,
Наблюдатель чужой глядит…
Затянули песню сначала,
Да едва пошла
подпевать —
На второй версте укачала
Неустойчивая кровать.
Эй, шоферша,
правь осторожней!
Путь ухабистый впереди.
На волнах колеи дорожной
Пассажиров
не разбуди!
А до следующего боя
Сутки целые жить и жить.
А над кузовом голубое
Небо к передовой бежит.
В даль кромешную
пороховую,
Через степи, луга, леса,
На гремящую передовую
Брызжут чистые небеса…
Ничего мне не надо лучшего,
Кроме этого – чем живу,
Кроме солнца
в зените,
колючего,
Густо впутанного в траву.
Кроме этого тряского кузова,
Русской дали
в рассветном дыму,
Кроме песни разведчика русого
Про красавицу в терему.
На всякий случай…
Сорок пятый год
перевалил
Через середину,
и все лето
Над Большой Калужской ливень лил,
Гулко погромыхивало где-то.
Страхами надуманными сплошь
Понапрасну сам себя не мучай.
Что, солдат, очухался? Живешь?
Как живешь?
Да так. На всякий случай.
И на всякий случай подошел
К дому на Калужской.
– Здравствуй, Шура! —
Там упала на чертежный стол
Голубая тень от абажура.
Калька туго скатана в рулон.
Вот и все.
Диплом закончен.
Баста!..
Шура наклонилась над столом,
Чуть раскоса и слегка скуласта.
Шура, Шура!
Как ты хороша!
Как томится жизнью непочатой
Молодая душная душа, —
Как исходит ливнем сорок пятый.
О, покамест дождь не перестал,
Ров смертельный между нами вырой,
Воплощая женский идеал,
Добивайся, вей, импровизируй.
Ливень льет.
Мы вышли на балкон.
Вымокли до нитки и уснули.
Юные. В неведенье благом.
В сорок пятом… Господи… В июле.
И все лето длится этот сон,
Этот сон, не отягченный снами.
Грозовое небо
Колесом
Поворачивается
Над нами.
Молнии как спицы в колесе,
Пар клубится по наружным стенам.
Черное Калужское шоссе
Раскрутилось посвистом ременным.
Даже только тем, что ты спала
На балконе в это лето зноя,
Наша жизнь оправдана сполна
И существование земное.
Ливень лил все лето.
Надо мной
Шевелился прах грозы летучей.
А война закончилась весной, —
Я остался жить на всякий случай.
Календарь
Покидаю Невскую Дубровку,
Кое-как плетусь по рубежу —
Отхожу на переформировку
И остатки взвода увожу.
Армия моя не уцелела,
Не осталось близких у меня
От артиллерийского обстрела,
От косоприцельного огня.
Перейдем по Охтенскому мосту
И на Охте станем на постой —
Отдирать окопную коросту,
Женскою пленяться красотой.
Охта деревянная разбита,
Растащили Охту на дрова.
Только жизнь, она сильнее быта:
Быта нет, а жизнь еще жива.
Богачов со мной из медсанбата,
Мы в глаза друг другу не глядим —
Слишком борода его щербата,
Слишком взгляд угрюм и нелюдим.
Слишком на лице его усталом
Борозды о многом говорят.
Спиртом неразбавленным и салом
Богачов запасливый богат.
Мы на Верхней Охте квартируем.
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.
Помню, помню календарь настольный,
Старый календарь перекидной,
Записи на нем и почерк школьный,
Прежде – школьный, а потом – иной.
Прежде – буквы детские, смешные,
Именины и каникул дни.
Ну, а после – записи иные.
Иначе написаны они.
Помню, помню, как мало-помалу
Голос горя нарастал и креп:
«Умер папа». «Схоронили маму».
«Потеряли карточки на хлеб».
Знак вопроса – исступленно-дерзкий.
Росчерк – бесшабашно-удалой.
А потом – рисунок полудетский:
Сердце, пораженное стрелой.
Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила —
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена.
Друг на друга буквы повалились,
Сгрудились недвижно и мертво:
«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и все. И больше ничего.
Здесь и я с другими в соучастье, —
Наспех фотографии даря,
Переформированные части
Прямо в бой идут с календаря.
Дождь на стеклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она.
Наступаю, отхожу и рушу
Все, что было сделано не так.
Переформировываю душу
Для грядущих маршей и атак.
Вижу вновь, как, в час прощаясь ранний,
Ничего на намять не берем.
Умираю от воспоминаний
Над перекидным календарем.
Отец
По вечерам,
с дремотой
Борясь что было сил:
– Живи, учись, работай, —
Отец меня просил.
Спины не разгибая,
Трудился досветла.
Полоска голубая
Подглазья провела.
Болею,
губы сохнут,
И над своей бедой
Бессонницею согнут,
Отец немолодой.
В подвале наркомата,
В столовой ИТР,
Он прячет воровато
Пирожное «эклер».
Москвой,
через метели,
По снежной целине,
Пирожное в портфеле
Несет на ужин мне.
Несет гостинец к чаю
Для сына своего,
А я не замечаю,
Не вижу ничего.
По окружному мосту
Грохочут поезда,
В шинелку не по росту
Одет я навсегда.
Я в корпусе десантном
Живу, сухарь грызя,
Не числюсь адресатом —
Домой писать нельзя.
А он не спит ночами,
Уставясь тяжело
Печальными очами
В морозное стекло.
Война отгрохотала,
А мира нет как нет.
Отец идет устало
В рабочий кабинет.
Он верит, что свобода
Сама себе судья,
Что буду год от года
Честней и чище я,
Лишь вытрясть из карманов
Обманные слова.
В дыму квартальных планов
Седеет голова.
Скромна его отвага,
Бесхитростны бои,
Работает на благо
Народа и семьи.
Трудами изможденный,
Спокоен, горд и чист,
Угрюмый, убежденный
Великий гуманист.
Прости меня
за леность
Непройденных дорог,
За жалкую нетленность
Полупонятных строк.
За эту непрямую
Направленность пути,
За музыку немую
Прости меня, прости…
«Мы под Колпином скопом стоим…»
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
Мы недаром Присягу давали.
За собою мосты подрывали, —
Из окопов никто не уйдет.
Недолет. Перелет. Недолет.
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она – по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Нас великая Родина любит…
По своим артиллерия лупит, —
Лес не рубит, а щепки летят.
Прощай, оружие!
В следующем году было много побед.
Э. Хемингуэй
Ты пришла смотреть на меня.
А такого нету в помине.
Не от вражеского огня
Он погиб. Не на нашей мине
Подорвался. А просто так.
Не за звонкой чеканки песню,
Не в размахе лихих атак
Он погиб. И уже не воскреснет.
Вот по берегу я иду.
В небе пасмурном, невысоком
Десять туч. Утопают в пруду,
Наливаясь тяжелым соком,
Сотни лилий. Красно́. Закат.
Вот мужчина стоит без движенья
Или мальчик. Он из блокад,
Из окопов, из окружений.
Ты пришла на него смотреть.
А такого нету в помине.
Не от пули он принял смерть,
Не от голода, не на мине
Подорвался. А просто так.
Что ему красивые песни
О размахе лихих атак, —
Он от этого не воскреснет.
Он не мертвый. Он не живой.
Не живет на земле. Не видит,
Как плывут над его головой
Десять туч. Он навстречу не выйдет,
Не заметит тебя. И ты
Зря несешь на ладонях пыл.
Зря под гребнем твоим цветы —
Те, которые он любил.
Он от голода умирал.
На подбитом танке сгорал.
Спал в болотной воде. И вот
Он не умер. Но не живет.
Он стоит посредине Века.
Одинешенек на земле.
Можно выстроить на золе
Новый дом. Но не человека.
Он дотла растрачен в бою.
Он не видит, не слышит, как
Тонут лилии и поют
Птицы, скрытые в ивняках.
«О войне ни единого слова…»
О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она —
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна.
Пусть сочтут эти строки изменой
И к моей приплюсуют вине:
Стихотворцы обоймы военной
Не писали стихов о войне.
Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребенку одну!
Мы писали о жизни…
о жизни,
Не делимой на мир и войну.
И особых восторгов не стоим:
Были мины в ничьей полосе
И разведки, которые боем,
Из которых вернулись не все.
В мирной жизни такое же было:
Тот же холод ничейной земли,
По своим артиллерия била,
Из разведки саперы ползли.
Проводы
Без слез проводили меня…
Не плакала, не голосила,
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
Написано так на роду…
Они, как седые легенды,
Стоят в сорок первом году,
Родители-интеллигенты.
Меня проводили без слез,
Не плакали, не голосили,
Истошно кричал паровоз,
Окутанный клубами пыли.
Неведом наш путь и далек,
Живыми вернуться не чаем,
Сухой получаем паек,
За жизнь и за смерть отвечаем.
Тебя повезли далеко,
Обритая наспех пехота…
Сгущенное пить молоко
Мальчишке совсем неохота.
И он изо всех своих сил,
Нехитрую вспомнив науку,
На банку ножом надавил,
Из тамбура высунул руку.
И вьется, густа и сладка,
Вдоль пульманов пыльных состава
Тягучая нить молока,
Последняя в жизни забава.
Он вспомнит об этом не раз,
Блокадную пайку глотая.
Но это потом, а сейчас
Беспечна душа молодая.
Но это потом, а пока,
Покинув консервное лоно,
Тягучая нить молока
Колеблется вдоль эшелона.
Пусть нечем чаи подсластить,
Отныне не в сладости сладость,
И вьется молочная нить,
Последняя детская слабость.
Свистит за верстою верста,
В теплушке доиграно действо,
Консервная банка пуста.
Ну вот и окончилось детство.
Музыка
Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка
во всем,
Всем и для всех —
не по ранжиру.
Осилим… Выстоим… Спасем…
Ах, не до жиру – быть бы живу…
Солдатам голову кружа,
Трехрядка
под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.
И через всю страну
струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.
Стенали яростно,
навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке – инвалид
И Шостакович – в Ленинграде.
«Парк культуры и отдыха имени…»
Парк культуры и отдыха имени
Совершенно не помню кого…
В молодом неуверенном инее
Деревянные стенды кино.
Жестким ветром афиши обглоданы,
Возле кассы томительно ждут,
Все билеты действительно проданы,
До начала пятнадцать минут.
Над кино моросянка осенняя,
В репродукторе хриплый романс.
Весь кошмар моего положения
В том, что это последний сеанс.
«Полумужчины, полудети…»
Памяти Семена Гудзенко
Полумужчины, полудети,
На фронт ушедшие из школ…
Да мы и не жили на свете, —
Наш возраст в силу не вошел.
Лишь первую о жизни фразу
Успели занести в тетрадь, —
С войны вернулись мы и сразу
Заторопились умирать.
«Тишайший снегопад…»
Тишайший снегопад —
Дверьми обидно хлопать.
Посередине дня
В столице, как в селе.
Тишайший снегопад,
Закутавшийся в хлопья,
В обувке пуховой
Проходит по земле.
Он шахтами дворов
Разъят в пространстве белом,
В сугробы совлечен
На площадных кругах,
От неба отлучен
И обречен пробелам, —
И все-таки он кот
В пуховых сапогах.
Штандарты на древках,
Как паруса при штиле.
Тишайший снегопад
Посередине дня.
И я, противник од,
Пишу в высоком штиле,
И тает первый снег
На сердце у меня.
Заречье
Трубной медью
в городском саду
В сорок приснопамятном году
Оглушен солдатик.
Самоволка.
Драпанул из госпиталя.
Волга
Прибережным парком привлекла.
Там, из тьмы, надвинувшейся тихо,
Танцплощадку вырвала шутиха —
Поступь вальс-бостона тяжела.
Был солдат под Тулой в руку ранен —
А теперь он чей?
Теперь он Анин —
Анна завладела им сполна,
Без вести пропавшего жена.
Бледная она.
Черноволоса.
И солдата раза в полтора
Старше
(Может, старшая сестра,
Может, мать —
И в этом суть вопроса,
Потому что Анна нестара).
Пыльные в Заречье палисады,
Выщерблены лавки у ворот,
И соседки опускают взгляды,
Чтоб не видеть, как солдат идет.
Скудным светом высветлив светелку,
Понимает Анна, что опять
Этот мальчик явится без толку,
Чтобы озираться и молчать.
Он идет походкой оробелой,
Осторожно, ненаверняка,
На весу, на перевязи белой,
Раненая детская рука.
В материнской грусти сокровенной,
У грехопаденья на краю,
Над его судьбой, судьбой военной,
Клонит Анна голову свою.
Кем они приходятся друг другу,
Чуждых две и родственных души?..
Ночь по обозначенному кругу
Ходиками тикает в тиши.
И над Волгой медленной осенней,
Погруженной в медленный туман,
Длится этот – без прикосновений —
Умопомрачительный роман.
В блокаде
Входила маршевая рота
В огромный,
Вмерзший в темный лед,
Возникший из-за поворота
Вокзала мертвого пролет.
И дальше двигалась полями
От надолб танковых до рва.
А за вокзалом, штабелями,
В снегу лежали – не дрова…
Но даже смерть – в семнадцать – малость,
В семнадцать лет – любое зло
Совсем легко воспринималось,
Да отложилось тяжело.
С войны
Нам котелками
нынче служат миски,
Мы обживаем этот мир земной,
И почему-то проживаем в Минске,
И осень хочет сделаться зимой.
Друг друга с опереттою знакомим,
И грустно смотрит капитан Луконин.
Поклонником я был.
Мне страшно было.
Актрисы раскурили всю махорку.
Шел дождь.
Он пробирался на галерку.
И первого любовника знобило.
Мы жили в Минске муторно и звонко.
И пили спирт, водой не разбавляя,
И нами верховодила девчонка,
Беспечная, красивая и злая.
Наш бедный стол
всегда бывал опрятен —
И, вероятно, только потому,
Что чистый спирт не оставляет пятен, —
Так воздадим же должное ему!
Еще война бандеровской гранатой
Влетала в незакрытое окно,
Но где-то рядом, на постели смятой,
Спала девчонка
нежно и грешно.
Она не долго верность нам хранила —
Поцеловала, встала и ушла.
Но перед этим
что-то объяснила
И в чем-то разобраться помогла.
Как раненых выносит с поля боя
Веселая сестра из-под огня,
Так из войны, пожертвовав собою,
Она в ту осень вынесла меня.
И потому,
однажды вспомнив это,
Мы станем пить у шумного стола
За балерину из кордебалета,
Которая по жизни нас вела.
«Что ж ты плачешь, старая развалина…»
Что ж ты плачешь, старая развалина, —
Где она, священная твоя
Вера в революцию и в Сталина,
В классовую сущность бытия…
Вдохновлялись сталинскими планами.
Устремлялись в сталинскую высь,
Были мы с тобой однополчанами,
Сталинскому знамени клялись.
Шли, сопровождаемые взрывами,
По всеобщей и ничьей вине.
О, какими были б мы счастливыми,
Если б нас убили на войне.
Люди сентября
Мы люди сентября.
Мы опоздали
На взморье Рижское к сезону, в срок.
На нас с деревьев листья опадали,
Наш санаторий под дождями мок.
Мы одиноко по аллеям бродим,
Ведем беседы с ветром и дождем,
Между собой знакомства не заводим,
Сурово одиночество блюдем.
На нас пижамы не того покроя,
Не тот фасон ботинок и рубах.
Официантка нам несет второе
С презрительной усмешкой на губах.
Набравшись вдоволь светскости и силы,
Допив до дна крепленое вино,
Артельщики, завмаги, воротилы
Вернулись на Столешников давно.
Французистые шляпки и береты
Под вечер не спешат на рандеву,
Соавторы известной оперетты
Проехали на юг через Москву.
О, наши мешковатые костюмы,
Отравленные скепсисом умы!
Для оперетты чересчур угрюмы,
Для драмы слишком нетипичны мы.
Мигает маячок подслеповато —
Невольный соглядатай наших дум.
Уже скамейки пляжные куда-то
Убрали с чисто выскобленных дюн.
И если к небу рай прибит гвоздями,
Наш санаторий, не жалея сил,
Осенними и ржавыми дождями
Сын плотника к земле приколотил.
Нам санаторий мнится сущим раем,
Который к побережью пригвожден.
Мы люди сентября.
Мы отдыхаем.
На Рижском взморье кончился сезон.
«Что у тебя имелось, не имелось?..»
Что у тебя имелось, не имелось?
Что отдал ты? Что продал? Расскажи!
Все, что имел – и молодость, и мелос,
Все на потребу пятистопной лжи.
А чем тебя за это наградила?
А что она взамен тебе дала?
По ресторанам день и ночь водила,
Прислуживала нагло у стола.
На пиршествах веселых, в черной сотне,
С товарищем позволила бывать,
И в пахнущей мочою подворотне
В четыре пальца шпротами блевать.
Она меня вспоила и вскормила
Объедками с хозяйского стола,
А на моем столе, мои чернила
Водою теплой жидко развела.
И до сих пор еще не забывает,
Переплетает в толстый переплет.
Она меня сегодня убивает,
Но слова правды молвить не дает.
Автобус
Вновь подъем Чавчавадзе сквозь крики:
Бади-буди, мацони, тута́…
Снова воздух блаженный и дикий, —
Нам уже не подняться туда.
Но в густом перезвоне бутылок
Прет автобус, набитый битком,
В нос шибает и дышит в затылок
Чахохбили, чачой, чесноком.
Снова стирка – и пена по локоть.
Навесных галерей полукруг,
Где ничем невозможно растрогать
Неподвижно сидящих старух.
А в железных воротах ни щели —
Лишь откроется дверка на миг,
Да автобус ползет еле-еле
Закоулками и напрямик.
Он достигнет вершины подъема
И покатится глухо назад.
Снова милые женщины дома
Из распахнутых окон глядят.
Из распахнутых окон, как вызов,
Над подъемом склонились они
Так, что груди свисают с карнизов,
А прекрасные лица в тени.
На полях перевода
Кура, оглохшая от звона, —
Вокруг нее темным-темно.
Над городом Галактиона
Луны бутылочное дно.
И вновь из голубого дыма
Встает поэзия, —
Она
Вовеки непереводима —
Родному языку верна.
Грузинский танец с мечами
Сохрани меня, танец,
На веки веков
От оков,
От заученных слов!
Проведи меня, танец,
По светлой стране,
По весенней струне!
Чтоб звучала струна,
Чтоб крепчала весна.
Подыми меня, танец,
Над горным хребтом.
А потом
Опусти,
Не обрежь
У студеной реки
О зеленые травы-клинки.
Расколи о колено грохочущий бубен!
В эту ночь мы о небе, о звездах забудем, —
Мы запомним лишь землю,
Которую все
В эту ночь
Увидали
В особой
Красе.
Эту землю,
Которой проходит легко
На носках
Под неистовый гик
Илико…
Он идет, и в пыли запевают мечи
Возле самой
заломленной
каракульчи.
За оградой на привязи кони храпят,
Чистой пеной кропят удила.
И железные цепи, как кости, скрипят
На зубах у овчарок.
И мгла.
То ли топот
Приглу́шенных пылью
Подков,
То ли бубен
Пространство дробит…
Окружи меня, танец, на веки веков!
Подари мне свой праздничный быт!
«Над Курою город старый…»
Над Курою город старый,
Первый лист упал с чинары —
Это листопад опять.
Первый лист упал со звоном,
Был когда-то он зеленым
И не думал опадать.
Порываюсь рвать со старым,
Отдаю тебя задаром,
С глаз долой, из сердца вон.
В день прощанья, в час разлуки
Слышу горестные звуки —
Перезвяк и перезвон.
Перезвон и перезвяк
Листьев золотых и медных
На все более заметных
Проступающих ветвях.
«Старик-тапер в «Дарьяле»…»
Старик-тапер в «Дарьяле»,
В пивной второстепенной,
Играет на рояле
Какой-то вальс шопенный.
Принес буфетчик сдачу
И удалился чинно.
А я сижу и плачу
Светло и беспричинно.
Бессонница
Хоронили меня, хоронили
В Чиатурах, в горняцком краю.
Черной осыпью угольной пыли
Падал я на дорогу твою.
Вечный траур – и листья и травы
В Чиатурах черны иссиня́.
В вагонетке, как уголь из лавы,
Гроб везли. Хоронили меня.
В доме – плач. А на черной поляне —
Пир горой, поминанье, вино.
Те – язычники. Эти – христиане.
Те и эти – не все ли равно!
Помнишь, молния с неба упала,
Черный тополь спалила дотла
И под черной землей перевала
Свой огонь глубоко погребла?
Я сказал: это место на взгорье
Отыщу и, припомнив грозу,
Эту молнию вырою вскоре
И в подарок тебе привезу.
По-иному случилось, иначе —
Здесь нашел я последний приют.
Дом шатают стенанья и плачи,
На поляне горланят и пьют.
Или это бессонница злая
Черным светом в оконный проем
Из потемок вломилась, пылая,
И стоит в изголовье моем?
От бессонницы скоро загину —
Под окошком всю ночь напролет
Бестолково заводят машину,
Тарахтенье уснуть не дает.
Тишину истязают ночную
Так, что кру́гом идет голова.
Хватит ручку крутить заводную,
Надо высушить свечи сперва!
Хватит ручку вертеть неумело,
Тарахтеть и пыхтеть в тишину!
Вам к утру надоест это дело —
И тогда я как мертвый усну.
И приснится, как в черной могиле,
В Чиатурах, под песню и стон,
Хоронили меня, хоронили
Рядом с молнией, черной, как сон.
«Каждый раз этот город я вижу как будто впервые…»
Каждый раз
этот город
я вижу как будто впервые,
Где по улице главной
так неторопливо
идут,
Жестикулируя шибче
и выразительней,
чем глухонемые,
Люди с древними лицами,
вечно,
беспечно
живущие тут.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































