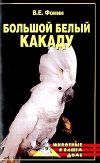Текст книги "Милый Ханс, дорогой Пётр"

Автор книги: Александр Миндадзе
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Пётр воспользовался, что я свободен временно, и скорее втолкнул в эту самую соседнюю комнату.
15
Тащил и притащил, зачем? Комната как комната, клетушка, кроватки две влезают еле. Дети Петра сопели во сне, свет лунный сквозь шторы на лица пробивался.
Пётр на детей кивнул: “Видишь, как у тебя, двое тоже”.
И мой сразу вопрос: “Тебя вызывали уже?”
Пётр и не понял, от жестов отвыкнув.
Пальцы мои пробежались по спинке детской кроватки: “Приходили уже к тебе, да или нет?”
Он махнул мне: “Сядь, садись”.
Я кое-как присел в тесноте.
– Да или нет? – спросил, забывшись, по-немецки, волновался.
Брат-близнец сидел, схватившись за голову. И на луну отвлекся: “Луна, плохо. Подстрелят. Могут”.
Показал, как подстрелят, пока бежать обратно буду. Жест отработан был: палец к виску, моему теперь. И головой замотал: “Нет. Не было никого. Тихо всё”.
“Хорошо, если тихо”.
Усмехнулся Пётр, глаза блеснули: “Страшней еще”.
Мы замолчали. Дети сопели, один похрапывал даже.
Пётр ко мне придвинулся, на лице мука была: “А вдруг они?.. Не знаю, выдержу или нет, боюсь”.
И засмеялся громко, кукиш показал: “Вот им!”
Я смеяться тоже стал, показывать. Макушку свою демонстрировал: “Лопатой меня огрел!”
“Я?”
“Ты. Забыл?”
Дети от нашего буйства притихли и опять засопели.
Пётр поднялся, я удержал: “Посидим. Посидим еще”.
И мы всё сидели, потеряв счет времени, и дети под опасной луной мирно сопели. Я понял, зачем Пётр меня привел.
Кулачок в стену простучал, гостья о себе напомнила:
– Где вы там, эй? Ухожу я!
Нет, мы не слышали.
16
Вернулись когда, Наташа в комнате за столом уже была одна и улыбалась Петру своему, за которого в огонь и в воду, а мне даже приветливо особенно, гость все-таки.
И внезапно лицо рыжей на глазах кривиться стало, морщиться, и я отчаяние на нем вдруг разглядел, ненависть прямо. И кашлять стала, а на самом деле это она так рыдала, кашляя и ладонями не прикрываясь:
– Зачем, ну зачем они сюда к нам? Мы жили хорошо, так хорошо! И приехали! Боже мой, зачем они!
От кашля ее я попятился. Ни слов, ни жестов не надо было, чтобы понять. И в секунду ту же в руки гостьи опять угодил – и на счастье свое, точно. За спиной моей у двери спасительница стояла, из тьмы уличной вдруг возникнув:
– Я боюсь одна!
И без слов опять обошлось. Тотчас я девушку хитрую обнял, провожатого изображая и уловке ее только радуясь.
17
На той же улочке жила, в двух шагах, ясное дело. Прошла в калитку, увлекая за собой. И сразу я влетел губами в ее неумело раскрытый рот, сама мне обернулась навстречу.
На крыльцо поднялись, и она дверь нетерпеливо в дом отпирала, громыхая связкой ключей. Опять обернулась, поцелуями стала осыпать, чмокая по-детски ртом. Я, как мог, отстранялся безгласно, в планы не входило.
И вдруг замерла она, к груди плоской мое лицо прижала чуть не как мать:
– Бедный мой! Как тебя?
Я откликнулся, поддавшись:
– Ханс. Почему бедный?
– Уж не знаю почему!
Шептались мы по-немецки. Я вырвал у нее свою голову, отскочил, очнувшись. Пошел, пятясь, к калитке. Она смеялась:
– У меня в школе по языку пятерка была!
Бежал по улочке мимо заборов. Она следом из калитки выпрыгнула, за мной даже бросилась, в раж свой шальной привычно войдя:
– Ханс, подожди! Куда ты, Ханс, глупый! Да ты сам еще вернешься, увидишь! Сам! Ханс, Ханс!
Но тут немецкую речь лай перекрыл, теперь собаки за мной мчались, стая целая. И одна злая особенно оказалась, лютая просто. Сзади наскакивала, лапами в спину толкала, повалить пытаясь. И я в ужасе так припустил, прыть проявил вдруг такую, что угнаться никто не мог, невозможно было. Ни собакам, ни девушкам даже шальным.
И вот по железке товарняк как по заказу гулом накатывает, приближаясь вовремя. И я перед паровозом проскакиваю, перед мордой его самой со звездой. И по шоссе спокойно шагаю уже, ночь бестолковую отсекая, всё.
Но рычание и лязг зубов вдруг за спиной, увязалась опять сука эта лютая, надо же. Одна за мной теперь с клыками своими, полюбила, не иначе. А я шагом иду, как шел, нет сил бежать. Ноги вязнут в мягком, видно, уложенном только асфальте, иду и навечно следы оставляю. И она сзади трусит лениво, проклятая. За пятки пастью прихватывает, одежду рвет в свое удовольствие.
И навстречу еще люди как раз из-за поворота, прохожие вдруг в ночи. Люди как люди, и оружия нет при них, рабочие такие же с виду, только вот выправка военная и шаг четкий слишком. И в кювет я падаю как подкошенный, словно подстрелили. Лицом вниз лежу бездыханный, и гравий от их ног сверху сыпется, когда мимо тяжело идут.
А сука проклятая все время на спине у меня, что интересно. Распласталась, прикрывает будто. Перевернувшись, обнимаю ее, что не выдала. А она в ответ мою щеку бедную лижет, как Грета.
Прижимаю к себе пасть страшную, в ухо собачье шепчу:
– Грета!
И потом, по тропкам к заводу пробираясь, сам уже с тревогой оглядываюсь, не отстала ли. И в темноте зову, из виду потеряв:
– Грета, Грета!
18
А шахматисты за партией своей всё сидели. По-другому время шло, не иначе.
Вилли встретил как спасителя, охотно уступая место:
– Садись-ка! Она же ненасытная! Пусть тебя теперь слопает!
Грета взглянула на меня и впрямь плотоядно и уже расставляла на доске нашу партию.
– Одно условие непременное, – объявил я, усаживаясь.
– Всё для тебя, о мой Ханс!
Я поднес палец к губам.
– Что значит?
– Значит, молчим в тряпочку.
– А чего как немой?
– Понимаешь лучше.
– Глупости. Но принято, – кивнула она.
И довольно долго слово держала, молча двигая по доске фигуры. Глаза при этом горели, губы приоткрывались почти в экстазе, предвкушая близкую победу. Я, как мог, сопротивлялся, делал вид.
Только не шахматы были в гроссмейстерской этой головке.
– Старики потом вспоминают женщин, которые их правда любили, – вдруг сказала с горечью. – И жалеют, что прошли мимо, очень жалеют.
– Ты о себе?
– О тебе, конечно.
Я стал смеяться, сбивая невыносимый пафос:
– Бессильно вспоминают в бессильной старости? Но каждую в отдельности и подробно?
– Вот-вот, именно. Ты, вижу, понял.
Я пожал плечами:
– Надо еще ухитриться стать стариком, в чем все дело.
Грета махнула рукой с пешкой, которую только что у меня съела:
– Ну, это самое простое, дорогой. Не успеешь оглянуться.
– Ошибаешься, – сказал я.
Она оторвалась даже от доски, почуяв неладное.
– Ну-ка? То есть?
– Не дожить можно. Не дожить, о моя Гретхен!
Грета смотрела на меня внимательно. Не понимала, о чем я, да и я, может, не совсем понимал. Партия наша встала, перейдя в эндшпиль.
И тут она с ненавистью метнула в меня ту самую съеденную пешку, не зря до сих пор в руке держала.
– Ханс, не доживешь, точно! Собаки жопу порвут!
Трудно отрицать что-либо было, сидя в драных штанах.
Я вернул Грете пешку, ведь поймал ее ловко:
– Что ты, дура, во мне нашла?
– Тебя, – отвечала она, глядя в глаза.
Капитулировать только, что же еще оставалось. Я молча перевернул своего белого короля, положил плашмя на доску. И, оставив партнершу в замешательстве, пошел к себе.
19
Я был уже в койке, когда от страшного удара допотопный крючок слетел с двери, и в комнату вихрем ворвалась Грета, кто же еще. В руке был мой поверженный белый король, она мне его гневно демонстрировала:
– Ты некорректно закончил партию, это первое! Ушел от борьбы, имея все шансы к спасению, это неуважение к партнеру, ко мне, в конце концов!
– Уже был полный капут, не сердись, – оправдывался я.
– Комбинация перед носом стояла, не ври! – закричала Грета. – А что хамски не пожал партнеру руку, это как?
– Партнерше. Будет еще второе? – спросил я.
При свете луны, светившей мне опасно всю ночь, милое лицо Греты некрасиво ощерилось.
– Да. Второе. Немец, ты поплыл, слышишь меня? Мне это видно. Позорно расклеился и поплыл, причем в неизвестном направлении! И я не позволю тебе, не позволю!
– Как немка?
– Именно! Да! Я не позволю тебе на чужбине, как немка!
Ярость такая была, что она метнулась ко мне, пытаясь королем ударить в глаз. Едва не окривев, я перехватил ее руку и по-борцовски перевел соперника в партер. Одноместная койка со скрипучими пружинами к любовным утехам не очень располагала. Но король уже перекочевал ко мне в руки и скоро доблестно оказался там, где по тайным предчувствиям Греты должен был оказаться я сам. Она лежала на спине с раскрытым ртом и ойкнула жалобно в свое время, как природа подсказала. Потом на бок отвернулась, спиной ко мне, замолчав.
– Сам видишь, Ханс. С ума ты сошел.
– Важен результат.
– Свинья, свинья ты, Ханс.
– Ну, белый же он, ариец. Не черный какой-нибудь негр, – не согласился я.
Она села в койке, заткнув уши, чтобы не слышать мои гадости. И ловко перескочила через меня на пол, в себя уже пришла. Достала изящный портсигар со свастикой, гордость, видно, свою. Закурив, встала у окна и выдувала дым в форточку.
– Ты обрекаешь меня на одиночество, ты это понимаешь, о мой Ханс?
Я успокоил:
– Сомневаюсь, что ты можешь быть одинока. Просто не будешь, поверь.
– Нет, я, конечно, вернусь к Маттиасу. И вступлю в партию, в НСДАП, так думаю.
– Вот видишь. Отличный выбор.
Она снова подошла, присев на край койки. И под луной уже улыбалась.
– А, кстати, как тебе пилотка Маттиаса, вернее, я в его пилотке? К лицу, правда?
– Просто в самый раз.
– Хвастаюсь, извини.
– О чем тогда речь, о моя Гретхен?
– Это и есть одиночество, – сказала она серьезно.
И больше ничего не сказала, сидела рядом отвернувшись.
– Перестань, – сказал я.
От того, что тихая была, не плакала, совсем тоскливо стало. Я на нее прикрикнул даже:
– Хватит, Грета! Перестань! Хватит, я сказал!
И тут же, услышав свое имя, рядом совсем, под окном, тоже Грета залаяла, другая.
20
Утром ехали на печь по визжащим нестерпимо рельсам, уже музыкой нашей стал визг этот, гимном. И с нами вечно всегда, даже когда не ехали. И во сне с узкоколейкой не расставались, в голове прямо была проложена со всеми своими зигзагами.
В пути я с удивлением обнаружил, что коллеги мои общаются исключительно знаками, причем увлеченно и почти самозабвенно. Предмет разговора был куда скучнее их жестов и уморительных ужимок: речь шла о предстоящей варке, о том, что сейчас или никогда, и даже о стойкости немецкой нашей породы, всегда проявляющей себя именно в трудный момент.
Меж тем, без сомнения, это был привет мне от Греты, сугубо личное ее послание. Она же, в конце концов, под общий смех и призналась, подчеркнуто на меня не глядя:
– Ханс немую заразу принес, это Ханс откуда-то!
Мы всё кружили замысловато и бесконечно по заводской территории, иной раз вкатываясь даже в цеха, чтобы снова потом выбраться наружу. С утра пораньше солнце светило ярко, июньский день все удлинялся на неминуемом пути к короткой самой в году ночи. Ученые наши конвоиры только рады были бестолково-долгой дороге, держа всех нас скопом на виду. А мы, привыкнув, уже даже не замечали их вежливого присутствия.
И вот, визжа, мы выехали опять из цеха на открытое пространство, поравнявшись с другой дрезиной. Такой же прицеп с пассажирами полз параллельным курсом по соседним рельсам, и мы внезапно рядом с этими людьми оказались близко совсем. Люди были как люди, только в робах почему-то одинаковых и с номерами, и ученые наши сразу не на шутку всполошились. А нас, наоборот, радость вдруг бурная охватила от внезапной близости, причем и тех и других, на обоих прицепах. Мы хохотали без причины и тянулись навстречу друг другу, пытались даже пожимать руки, чуть уже на ходу не братаясь. И махали долго вслед, когда узкоколейка снова нас развела, и люди нам тоже махали со своего прицепа.
Оказалось, расставались ненадолго, мудро узкоколейка свои кружева плела. Внезапно они снова из-за деревьев к нам выкатились и рядом поехали. Но во второй раз радость меньше была, мы помахали еще и совсем перестали. Что-то ушло уже, что было вначале, и мы просто стояли и смотрели друг на друга. И конвоиры успокоились, и ученые наши, и их, неученые, зато со штыками.
И будто Отто очки там у них в толпе на прицепе сверкнули, разглядел я. И Вилли, показалось, усы мелькают, точно. Ну, и Грета там у них тоже своя была, со взором пылающим таким же, только бледная очень. И себя отыс-кал я, в малом одном признал невыразительном, лет сорока. В сторонке стоял, притулившись, вроде сам по себе он и без сил уже совсем. Но с натяжкой признал: нет, не Пётр, конечно, стоял, не близнец мой. До Петра малому далеко было.
Грета о себе забыть не дала, заметив вдруг с укором и все так же на меня не глядя:
– А собака твоя по шпалам, между прочим!
Обернулся: бежит, так и есть. Бежит и бежит. На всю жизнь приклеилась, господи.
21
Печь и впрямь стояла после ремонта как новенькая, глазам не верил. Я спустился в свое подземелье к топке и, как обычно, приветствовал Петра легким пинком в зад. Такое панибратство между нами уже ритуалом было и бодрило даже перед работой. Иной раз и он меня пинал, подкравшись, и это еще приметой нашей стало такой суеверной, но на сей счет молчали. А скорее всего, радостью просто, что вот опять встретились: здравствуй, это я!
Сейчас я впотьмах напарника подстерег, моя очередь была. Пётр, упав на четвереньки, обернулся, и я увидел, что он не Пётр совсем, а другой какой-то человек, незнакомый.
Я стоял опешив, и человек сам махал мне, успокаивая, пока поднимался:
– Ерунда, Ханс. Хорошее знакомство.
– А Пётр? – спросил я.
Он тоже спросил, стряхивая угольную пыль:
– Кто такой?
– Но вы же знаете, что я Ханс!
– Но не знаю Петра!
– Он работал тут со мной.
– Правда?
– Тут, вот прямо тут!
– Ну, значит, нет Петра, – развел руками человек. – Вы замечаете, что мы разговариваем по-немецки? Как вам мой язык, кстати? Не очень? Я из немцев поволжских, тех, еще екатерининских. И профессиональный стекловар, не думайте!
Болтал без умолку этот екатерининский, или кто он был. Я не слышал.
– Где Пётр, где?
Схватил за ворот, стал трясти, хоть ничего не вытрясти было, понятное дело.
– Не знаю где! Какой Пётр? Начальство распорядилось, чтоб я к вам немедля! Не сам, начальство! Язык тем более! Не знаю вашего Петра! А я вот он! Или возражаете, что я тут с вами?
Вдруг стекловар в одно мгновение профессионально скрутил меня, вывернув руку, я простонал даже, согнутый в три погибели. Тут же, впрочем, он и отскочил, испугался сам, что рефлекс сработал.
– Извиняюсь. Так получилось.
Кто он, что, мне все равно было, большой человек этот с лицом младенца. Не Пётр он был.
– Ладно, квиты. Запускай. Варка через час.
– Будьте уверены.
Он устал от меня и с явным облегчением схватился за лопату. Махал бешено, как заведенный, забрасывая уголь в мертвую еще топку.
22
Шел, бежал, из цеха в цех перемещаясь. В каждом Пётр мерещился, в каждом. Телогрейки за рукава дергал, в лица заглядывал. Пока самого не дернули, не развернули с силой, и я увидел перед собой усы Вилли.
– Куда?
– За Петром.
– А где он?
– Ищу.
Хоть мог и не искать, уже понимал. Но остановиться тоже не мог.
Вилли догнал опять.
– Ханс, за тобой шакалов туча, ну, хвостов этих, ты натворил чего?
– А чего я?
– Только с Гретой?
– Да, я был король, – не соврал я.
Доволен собой Вилли был, кулаком себя даже в грудь ударил:
– Ай да Вилли!
Едва за мной поспевал, бубнил рядом:
– А я за самогоном наладился, местный один носит, деваться куда? Злыдень горючее совсем перекрыл, с ума сошел! – Он показал, кто злыдень, профессора очки, конечно. И опять схватил меня: – Ханс, смотри, да их что перхоти на башке, твоих этих. Чего такое серьезное, эй, Ханс?
И смотрел я, зря головой крутил:
– Где, где? Не вижу!
Вилли смеялся:
– А ты и не должен. Они тебя.
– А ты их как?
Он в грудь себя опять треснул:
– Вилли!
Пьяный путь его с моим совпал. Отскакивал Вилли и возвращался, хмурясь все сильнее:
– Не он, не он! Пропал мой спаситель!
Шли, бежали напрасно, глазами по сторонам шаря. Так в цех и ворвались, где женщины только одни за длинными столами у приборов сидели. В халатах белых, платки на головах. Линзы перед ними в тисках сияли, и работницы в глазки приборов в линзы эти строго вглядывались. И еще полировали нежные сферы вручную тряпочками.
Получалось, весь путь стеклянный от начала до конца самого мы проделали, от топки угольной до чистоты этой аптечной и сияния. И ходили теперь меж столов на цыпочках без цели, и Вилли ненароком спин женских ручищами своими касался. И так же вышли тихо, будто и не входили, не было нас.
И Вилли сразу про самогон вспомнил, опять побежал куда-то, спаситель ему все чудился. Вернулся совсем уж грустный.
– Пропал!
– Ты или он?
– Оба.
Я догадался:
– Пропал, потому что ты наладился?
Усач бросил на меня быстрый взгляд:
– Так, может, и Пётр?.. И Пётр, ты потому что…
И, словно вдруг забыв обо мне, двинулся дальше один путем своим замысловатым, ему только ведомым. Нет, еще обернулся:
– Ханс, ты не забыл о Мёлле? О нашей рыбалке в августе?
Я отозвался тотчас, как на пароль:
– Да, жду не дождусь, Вилли. Уже снится по ночам.
– Все будет, Ханс, – уверил усач. И рукой издали махнул: – Это я для поднятия духа!
23
Перед варкой самой по ступеням вниз опять. И вдруг на полпути на Отто наткнулся. Молча в пролете стоял, на площадке. И я не понял даже, что профессор сказал, не смог понять.
Потому что не сказал он – прокаркал отрывисто:
– То же самое, Ханс! То же самое! Что сделали в прошлый раз!
– А что я в прошлый раз?
– Не помните, что сделали?
Я стоял окаменев: знает?! Отто смотрел с неприязнью.
– Щека ваша помнит. Ханс, оставьте сказки для русских.
– Они меня обложили.
– Их дело.
Отто неловко схватил меня за рукав, как умел, к себе разворачивая. И все не отпускал, вцепившись, и дышал в лицо уже злобой:
– То, что в прошлый раз. Повторяете. В точности. Два деления на шкале сверх. Два, Ханс, слышите? Мы должны рисковать. В конце концов, за нами Германия! – закричал он, и голос осекся.
– Против этого не попрешь, – оценил я.
– Вот-вот, именно, вы поняли, – кивнул Отто.
Я спросил:
– А результат?
– Стекло.
– Или?
Отто отпустил меня:
– Или – да. Или. Конечно. И я готов поменяться с вами местами. Ханс, я клянусь.
Мы смотрели друг на друга.
– На вашем месте у меня, пожалуй, не хватит извилин, одна всего, помнится, – засмеялся я, и Отто тоже засмеялся.
Но смотрел еще, куда я: вниз к топке или в цех на выход?
Вниз я пошел, и Отто догнал, вцепился опять:
– А вы злопамятны, друг Ханс!
– А вы, как ни стараетесь, сентиментальны! – огрызнулся я, заметив слезы у него на глазах.
24
Нет, не настежь уже калитка. И ставни прикрыты, а на двери замок. Под тусклым фонарем я перемахнул хилый заборчик и у мертвого дома стоял, сам не зная зачем.
И в тишине вдруг мотор заурчал, показалось. Там за домом грузовичок без огней отъезжал украдкой, под тентом Пётр с рыжей Наташей с детьми сидели, я едва разглядел в полутьме. В последнюю самую минуту их застукал, успел. В жизнь вцепился, мертвый дом обежав.
Рыжая с лицом искаженным стала руки мои от борта отрывать. Полуторка набирала ход, и я висел, ноги болтались, а рыжая лицо мне царапала. Я упал и снова за ними побежал, сзади рычала Грета.
Когда опять догнал, Наташа уже ничего со мной сделать не смогла. Подтянувшись, я нырнул под тент, и она метнулась рысью на меня, мы боролись с ней, не щадя друг друга, даже не на жизнь, а на смерть, а Пётр безучастно сидел без движения. Рыжая взгромоздилась на меня амазонкой, била кулаками в лицо, потом я ее под себя подмял, перевернув. И вдруг все это совсем уж двусмысленно стало, и нежность к нам ближе и ближе подступала, рыжая заплакала бессильно. Мы с ней разомкнулись и лежали среди домашнего скарба, Наташа все всхлипывала.
Пётр жестом позвал: сюда иди! Я подполз и сел с ним у борта рядом. Мы обнялись и ехали так в предрассветных зыбких сумерках. Дома мелькали, а потом уж не дома, деревья выросли сплошной стеной, темно опять стало. Тряслись по лесной дороге, Грета бежала следом, язык уже мотался от усталости.
Рыжая подползла тоже, со мной рядом тихо села.
Пётр руками развел, показывая: “Бежим мы, бежим!”
Наташа меня в грудь ткнула: “От тебя!”
И мальчик еще в полусне из недр фургона вылез, на коленях у меня вдруг улегся. Я смотрел на чистое его лицо и все ехал дальше и ехал, пока он посапывал сладко.
Брат мой Пётр подмигнул: “С нами?”
Но лес кончился, зажмурился мальчик от света нового дня, и к матери скорей перебрался. На коленях мягких, родных и впрямь удобней было.
Я спрыгнул на дорогу и пошел не оглядываясь. Нет, оглянулся, махнув рукой. И Пётр мне одновременно махнул. Просто будто один человек раздвоился.
25
Грета вела назад коротким самым, ей только ведомым путем. Я сбегал в овраги, подворачивая на кочках ноги, и карабкался опять вверх по склонам. Продирался сквозь непролазный кустарник и в голос кричал, оказавшись вдруг в яме по пояс в воде. Я терял собаку из виду, зато она меня никогда не теряла и всякий раз терпеливо дожидалась, пока к ней на хромых ногах подковыляю, совсем уже из сил выбившись. И однажды даже легла сама и мне разрешила растянуться на траве. Зарычала, когда я стал проваливаться в сон. Да, все про меня понимала, не сомневался я, и мерещилась даже улыбка на страшных клыках: как бы на смену Хансу успеть и дух при этом не испустить в дремучем русском лесу, и неизвестно еще, что немцу страшнее. Хохотать сука не умела, не дано было.
К смене успели в самый раз. И в засаде ждали, что успеем, подготовились. Со всех сторон выскочили сразу, обступая. Я метнулся к дому, помчался по территории, последние силы собрав. Ударил кто-то меня, и я кого-то пнул, и опять побежал. Кричали сзади по-немецки, останавливая, за кем бегут, знали.
А у дома уже самого, от погони оторвавшись, услышал я хлопки выстрелов и визг ужасный собачий. Хлопки далеко были, а визг близко, рядом будто совсем. Не визг, плач Греты бесконечный.
Встал я как вкопанный и ни с места. Я понял, но не понимал. Заорал:
– Грета!
И она на зов мой из дверей выскочила. И обнимать стала, решила, что мне нужна. Женщина была.
– Знала, что позовешь, я знала! Ханс, хороший мой! Забудь, что я говорила, я все равно с тобой! Как бы ни сложилось! Пускай! Я с тобой, ты не сомневайся даже!
– А Маттиас? – спросил я зачем-то.
Она на меня замахала руками, бедная:
– Не слушай меня, не слушай!
Следом Отто из дома в испуге выбежал. И Вилли за ним тут как тут. От тех я ушел, в засаде которые, и теперь вот эти обступили, попался.
На лице Отто тревога была, даже голос дрожал:
– Ханс, в вас стреляли?
– Еще не хватало, с какой стати? – возмутился я.
– Пробежки ночью по режимной зоне, Ханс. Этим должно было кончиться.
Я ухмыльнулся в ответ ему нагло:
– Мы, немцы, спортивная нация!
Тут и Вилли неожиданно принял мою сторону. Он так и сказал, меня выручая:
– Извиняюсь, но, чур, я на стороне Ханса! Бег если в привычку вошел, плохо разве? Вот я лично был свидетелем ночной пробежки нашего Ханса по Эльбскому мосту в Гамбурге! И мы даже, помнится, успели поздороваться, верно, Ханс?
– Махнули друг другу, да, – не отрицал я. – Ты был в маршевой колонне, я бежал навстречу, помню как сейчас. И у тебя в правой руке был факел, и ты, кажется, из-за меня даже обжегся?
И тут Вилли помрачнел вдруг. И так же неожиданно дал задний ход, причем в грубой форме:
– Врешь, Ханс. Ты нагло врешь. Не было. Я не хожу в колоннах, и, надеюсь, бог избавит меня от ваших маршей с факельной подсветкой!
– Вилли, не зарекайся, – сказал я.
– Не будет этого! – закричал усач и кулак поднял, на всех сразу замахиваясь.
Вилли без ухмылки. И страдание на лице даже… Я смотрел, не узнавая. Нет, не Вилли это был.
– Я не тот парень, который ходит в ногу!
Он ушел в дом, громко хлопнув за собой дверью.
– И трезвый ведь, что интересно, – заметила Грета.
А Отто будто и не слышал, он все смотрел на меня. Грете жестом показал: и ты иди. И она двинулась вслед за разгневанным усачом, но все на меня оглядывалась.
Мы остались с Отто вдвоем. И тут вдруг кашель меня сумасшедший настиг. Пополам согнуло, я надрывался в нескончаемом стоне, ослепнув уже от слез. Отто терпеливо ждал, по скрюченной спине гладил меня, жалея.
– Живы, друг Ханс? – спросил он.
И не знал, что сказать. И сказал:
– Ваши мотивы для меня загадка, Ханс. Я не хочу вдаваться. Видимо, это что-то такое, что мне не по уму. То, что с вами происходит.
Он помолчал, но ответа не дождался.
– Ханс, выстрелов было два. И третья пуля уже ваша, тут не должно быть иллюзий. Выбор за вами.
– Нет выбора, Отто, – отозвался я.
Он пошел к дому, обернулся:
– Мне будет жаль. Кажется, мы уже стали друзьями.
– Так и есть, Отто.
В дверях он обернулся снова, напомнив:
– Смена, Ханс.
Ушел. А я все у дома столбом стоял.
26
Я вспомнил о Вилли, едва дрезина тронулась.
– А где же усач наш сердитый?
– Своим путем, как всегда. Пешком усач то есть, – сообщила Грета.
– Не в ногу ходит, слышали, – кивнул Отто.
Петляли по территории к цеху, теснясь в прицепе. Визжала музыка узкоколейная. Отто бормотал, как молился:
– Сегодня узнаем, чего мы стоим. Важный денек, дай господи.
Я на пассажиров смотрел: кто стражи теперь мои, те, эти или эти с теми вместе, и сразу все они вокруг меня, свои с чужими? Свои, родные, Отто с Гретой без Вилли, даже не заметили простодушно, когда я с прицепа на разъезде спрыгнул и в другой на ходу забрался. Чужие засуетились бдительно, и двое сразу за мной рванули и тоже следом в новый транспорт полезли, начеку были.
И росло их число в пути, ученых этих конвоиров. Видно, важной я птицей стал, до края своего дойдя. Вот двое еще запрыгнули, а потом и трое даже сразу, толпа целая вокруг меня собиралась.
Следили теперь, что же делать буду. А я только локтями работал, ничего не делал. Пробирался, рабочих сонных тесня, и всё локтями, локтями. Прицеп весь пока не прошел, от начала до конца, и в спину такую же рабочую не уткнулся, замерев. И не понимали стражи, зачем и куда я, и точку особенно эту последнюю, во что уткнулся. Маневр, конечно, и впрямь чудной был, если стражей глазами.
А я из женщины в телогрейке женщину выжимал, знал, что делал. Руки вдоль боков протиснул и давил, давил, за поручень для упора схватившись. Много на работнице чего надето было, но я тряпки ее насквозь прожигал, штаны даже ватные, несмотря на июнь. Так ехали мы, ехали, в цеха залезая и на пространство опять выкатываясь, свет плясал по затылку в платке с тенями вперемешку. Может, ей так лучше было – чувствовать мой напор и не знать, кто напирает, не видеть. И она ладонями кулаки мои с силой сжала, подтверждая, что лучше.
И тут машинист затормозил резко, и мы в полутьме вдруг встали, в тоннеле коротком застряв между цехами. Суета сразу началась, крики, беготня в неразберихе возле прицепа. И вроде протащили мимо кого-то, чертыхаясь. И усы даже знакомые мелькнули, показалось.
Среди стражей очкарик тот самый был, переводчик смышленый. Он и перевел, запричитав по-немецки для меня специально, чтобы сомнений не оставалось:
– Усатый ваш, он это! Под колеса сам вдруг! Он! Сам прямо! Усатый этот ваш!
Женщина всем телом ко мне обернулась, темнотой пользуясь. А когда светло опять стало, поехали мы, спрятаться уже не сумела, не смогла сама. Тесней, наоборот, все прижималась, на лице мука настоящая была. И задрожала в руках моих, ток побежал по ней, я удерживал ее едва. И тут же от себя отталкивать стала, и лицо, вздохнув, спрятала у меня на плече. Снова встрепенулась было, пытаясь из плена выбраться, но я не отпустил, нет. И опять она затихла. Лошадь, конечно, была, кто же еще.
Стояли, обнявшись, в прицепе уже полупустом. Кто мы, что, не знали. Но жизнь целую за минуты прожили, больше рельсы не отвели нам, какие крученые ни были. Она подняла глаза, пытаясь меня запомнить. И я понял, что сейчас уйдет. Заплакала, и у меня что-то с лица смахнула, слезу тоже, наверно.
Сердиться стала, что не отпускаю, и руки сильными сделались, в грудь толкали мощно, как копытами били. И, из объятий выдираясь, в цеху на ходу спрыгнула, и как не было, след простыл.
А я остался, узкоколейка визжала. Нет, я тоже спрыгнул.
Догнал. И заплакала опять, что догнал, к себе притиснул, и вскрикнула даже радостно, услышав, как хрустят ее косточки.
Бежала по цеху и ладонями лицо прикрывала, стыдясь, что ли, или сама себе не веря. А я стоял и смотрел вслед, пока среди телогреек навсегда не пропала.
И за плечо кто-то тронул робко.
– Ау, Ханс! В лаборатории давно вас ждут, милости прошу! – сообщил очкарик, усмешку деликатно пряча.
27
Я замер за спиной Отто. Шептал профессор недоверчиво и восхищенно: “Неужели, Ханс, неужели?!” Оторвавшись от прибора, встал и уже во весь голос сказал:
– Ханс, неужели?!
И обнял меня растроганно:
– Это ваша линза, друг Ханс.
Я плечами пожал:
– Делал, что мог.
Отто подмигнул:
– Мы поняли друг друга.
Я следом приник к окуляру. Теперь Отто был у меня за спиной.
– Ну, Ханс? Не слышу! Молчите почему? Ханс, скажите: браво!
И я сказал:
– Браво!
28
Увидел себя офицером в коляске мотоцикла. Бинокль к глазам был приставлен. Я передал бинокль фельдфебелю, он тоже стал смотреть, за спиной водителя сидел.
– Знаменитые линзы Отто, те самые?
– Те самые, – кивал я.
Он языком зацокал:
– Сила!
Мы ехали по проселку. Впереди нас такие же мотоциклы и позади тоже. И на соседних проселках, всюду. Трехколесные букашки, тарахтя, ползли армадой по бескрайнему, залитому солнцем пространству. Пилотки пассажиров покачивались мерно в такт движению. Фельдфебель все мусолил в руках бинокль.
– На производстве вроде жертвы были, слышал.
– Вроде да, – кивал и кивал я.
И он бубнил и бубнил:
– Зато теперь меньше будет. С оптикой такой, верно?
Я отобрал у него бинокль, не игрушка.
– Неверно. Больше, надо полагать.
– Ваша правда, господин оберст-лейтенант, – поддержал меня водитель.
Я приказал ему:
– Смелее, Карл! Не сомневайся! Полный вперед!
Лес непролазный на пути встал. Но нашлась дорога, деревья перед нами раздвинулись. И мы свернули на нее, поехали.
– Ваша правда опять, – кивнул водитель.
Когда в речку уперлись, он уже не раздумывал, повинуясь моему жесту. И мы промчались по мелководью, взметнулись снопы брызг.
– Опять, что ли, моя? – засмеялся я.
Ехали. За спиной кавалькада целая катилась. Догнал офицер знакомый в коляске такой же, прокричал:
– Не знаю, как ты тут ориентируешься, но я, Ханс, по тебе!
– Правильный выбор, Томас! – подбодрил я.
– По пятну родимому на щеке!
– Не ошибешься!
Весело стало в тряске сумасшедшей на ухабах. Другие офицеры тоже за мной гнались в колясках своих, много нас в лесу дремучем вдруг оказалось.
– За меченым! Не отставай! Все за меченым!
Встали колонной посреди дороги, из колясок полезли на обочины по малой нужде. Зашипел лес.
И тут из-за деревьев собака на нас выскочила. Заорали мы голосами дурными, к мотоциклам бросились, снаряд будто просвистел. В панике в ширинки принадлежности свои запихивали. И я громче всех кричал, не веря:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!