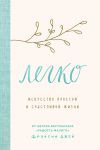Текст книги "Таганка"

Автор книги: Александр Минкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Александр Минкин
Таганка
И гуляли от рубля!
Высоцкий
Издатели предложили написать про какой-нибудь район Москвы.
– Можно Таганку?
– Конечно.
Отлично! Поехали. Посмотрите на лево: улица Александра Солженицына, а на самом деле Большая Коммунистическая. И если десятки лет ходил по ней, и бегал, и катался на велосипеде, то не смотришь на табличку, ты ж не турист. Ты просто знаешь: это Большая Коммунистическая, а посредине – храм Святого Мартина Исповедника, всегда запертый мрачный склад запрещенной литературы, спецхран. Может, теперь там молятся…
Посмотрите направо: Таганская улица – от Таганской площади до Абельмановской заставы. Таганку мой дядя и его друзья-хулиганы называли «дистанция пять по сто», такая эстафета вроде бы. Потому что на Таганке было пять киосков, где водку продавали в разлив, на закуску сушка. Пробежал дистанцию пять по сто – и начинается прекрасный романтичный вечер с непредсказуемыми незнакомками и вполне предсказуемой дракой…
Теперь Таганка – трезвенница, даже пива не выпьешь. Можно, конечно, купить бутылку или – прогресс! – банку, можно зайти в какое-нибудь заведение, но просто так – стоя на улице, из кружки – нет.
Нет, изображать обычный путеводитель неохота. «Посмотрите направо», «посмотрите налево». Там, конечно, и Театр на Таганке, старое здание и новое. На Таганке была тюрьма, давно снесли, но она осталась в прекрасной песне:
Таганка, все ночи, полные огня,
Таганка, зачем сгубила ты меня.
Таганка, я твой последний арестант.
Погибли юность и талант
В стенах твоих.
И стало понятно, что гораздо интереснее писать путеводитель не в пространстве, а во времени.
Во дворах Таганки появлялись замечательные люди: старьевщик, стекольщик, точильщик.
Этих профессий больше нет. Этих людей нет. А ведь это были уникумы – частники в стране победившего социализма. Он всех победил, кроме старьевщика, стекольщика, точильщика. «Частник» стал ругательным словом.
Точильщик тащил на спине (ремень через плечо) тяжеленный деревянный станок, Кричал нараспев: «Точить ножи-ножницы-бритвы-править!», ногой ритмично жал на педаль, на оси крутились точильные камни, от прижатого к камню лезвия летел сверкающий сноп искр, руку подставить страшно, а подставишь – не горячо.
Старьевщик приезжал во двор, лошадка тянула тележку. На тележке – мешки, баулы. Старьевщик кричал: «Старье берем! Старье берем!» – счастливый призыв!
Надо было немедленно выпросить у бабы Розы (на самом деле это была моя прабабушка; днем остальные все на работе) старое драное пальто или одеяло, или какую-нибудь рвань, а если она не дает, если говорит «нету», – обмануть, украсть, потому что время не ждет, старьевщик уедет! А у него в тележке потрясающие вещи: мячики на резинке, еще какие-то чудеса, а самое прекрасное – пистолет! Металлическая вещь, стреляет пистонами, звук оглушительный, восхитительный запах пороха. Самый дорогой пистолет стрелял пробками – но не бутылочными, не теперешними; это были какие-то глиняные цилиндрики, которые взрывались.
Детские болезни
Споры кончались по нарастающей:
– Честное слово!
– Честное ленинское!!
– Честное сталинское!!!
И всё. Честнее некуда. Хотя и остальное – не вранье.
Больше всего на свете я любил болеть. Честное сталинское! В школу не ходить! Помойку не выносить! Уроки не делать!
Лежи – читай. Счастье!
Вечером, конечно, приходят, начинают мучить. Таблетки, горчичники – это полбеды, это простуда. А если воспаление лёгких – тогда уколы. Хуже всего, если живот болит. Тогда – клизма.
– Трусы спусти, ляг на левый бок, коленки к животу, дыши глубже.
– Ой, не надо! Ой, скажи, чтоб уборную не занимали!
– Не займут, не займут. Дыши.
Но это – краткие страдания. Дешевая плата за драгоценное удовольствие – целый день свободы!
В столовой, в стене – книжный шкаф. Там – всё что хочешь: капитан Немо, Морис-мустангер, Пышка, Тимур, Миледи и судьба барабанщика.
В квартире, кроме меня, прабабка и нянька. Но они бесправные. У них надо мной власти нету. Одна молилась по-еврейски, другая – по-русски. Обе (дуры) не знали, что никакого Бога на небе нет. Посему их угрозы (мол, он накажет) были ничтожны.
И было любимое, главное. Освоенное лет с пяти. Как все уйдут (дед, бабка, мать и дядя), найти ключ (его иногда перепрятывали), отпереть маленькую верхнюю дверцу шкафа, а там – коробочки!
А в коробочках – ордена и медали. Красного знамени, Красной звезды, За оборону, За освобождение, За взятие, За Победу, За войну, За доблестный труд – всего штук двадцать. Прикалываешь медаль на пижамную курточку, привинчиваешь ордена, находишь место для цветных наборов орденских планок – и готово: комдив, комкор, маршал бронетанковых.
Потом – у зеркала – для себя:
– Пара-а-ад, смир-на!
Ну как же не спасибо за наше счастливое детство? Если б не доброта, если б не доблесть товарища Сталина – не было б у меня столько орденов!
Потом – на подоконник – для всех.
Квартира на первом этаже, проходной таганский двор. Стоишь на подоконнике, стуком в стекло и криками привлекаешь внимание прохожих. А когда обернутся – тогда гордо молча стоишь, пузо вперед, взгляд в небо, великий и скромный.
Бедные прохожие! 1952 год. За стеклом ребенок в полосатой концлагерной куртке, увешанный орденами. Люди отводили глаза и молча шли дальше.
…Через много лет я понимал Брежнева как никто.
Мы были богатые.
В доме 22/24 по Товарищескому переулку (бывш. Дурной), что идет от Таганской улицы до Андроновки, которую только кондукторы в трамваях называли официально «Площадь Прямикова» (я всю детскую жизнь думал «Пряникова» – в честь пряника)… Весь остальной народ говорил «Андроновка», потому что там, на горе над Яузой стоял Андроньевский монастырь; посмотрите направо: музей Рублева, иконы, еще не все украли и вывезли…
Дом 22/24 по Товарищескому переулку – кирпичный пятиэтажный, пять подъездов по десять трехкомнатных квартир.
Из пятидесяти квартир только две-три были отдельные. Одна из них – наша. А может, и вообще одна, ибо других отдельных я не знал, а только предполагаю. Остальные – коммунальные, по две-три семьи.
Даже кагэбэшник З-н в квартире № 11 (на одной площадке с нами) делил квартиру с Кабашкиными. У З-ных было две комнаты, у Кабашкиных – одна. Фамилия их была Ю-ы, но все звали Кабашкиными (от кабана). И почему-то они действительно были явно Кабашкины.
У высокопоставленной прокурорши Александры Васильевны Сергеевой (чуть не замгенпрокурора СССР) – тоже коммуналка. Мужа расстреляли, ее сослали, а моя бабушка кормила ее дочерей: Майю, которая стала врачом, и Галю, которая стала артисткой, одной из жен народного артиста Якута. Вернувшаяся из ссылки суровая прокурорша была категорически против этого брака и Галю выгнала, поэтому свою очередную свадьбу великий Якут справлял в нашей квартире, было очень много вкусного, а потом Галя развелась и окончательно вышла замуж в Германию…
Из Парижа приехал в СССР Ив Монтан, а у нас – первых на весь дом – телевизор «КВН-49»; экран с пачку «Казбека», а видеть хочется всем. Приставили огромную линзу (внутри глицерин, тоже не просто было достать), сели: Соня, дед, мать, Вовка, баба Роза, я и Александра Васильевна. А Монтан поет с микрофоном в руке и ходит по сцене! А надо стоять неподвижно, приклеив зад к роялю.
МАТЬ. Ах, как это прекрасно! (ни слова по-французски она не знала).
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА (тоже по-французски ни бэ ни мэ). Безобразие! Мерзость! Похабщина! Порнография!
У-у, какой был скандал из-за Ив Монтана.
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА. Ноги моей здесь не будет!
Грохнула дверью, чуть с петель не сорвала.
МАТЬ. Ха-ха-ха!!!
А я узнал и запомнил бессмысленное тогда слово «порнография».
Мостовая в Товарищеском была булыжная, в футбол играть неудобно, но играли. Когда весь двор завешен сохнущим бельем – там не поиграешь.
Веники ценились. Веник, стертый почти до ручки, потерявший все тонкие кончики, все еще работал на кухне и в коридоре. А новый веник, которым мели в комнатах, еще целый год назывался новым – то есть чтобы объяснить, какой надо, говорили: возьми новый веник.
Бутылки ценились. Все бутылки сдавали. Досадно, если открыл бутылку – а там скол на верхнем валике горла. Приемщик проводил пальцем по краю горлышка каждой бутылки, сколы замечал, ставил бутылку обратно на приоконный прилавок. Он там в этом окошке в темноте склада был почти не виден. Только руки появлялись и исчезали, забирали бутылки, сыпали мелочь в протянутую ладонь.
Очередь огромная. Или «Закрыто», или «Обед», или «Нет тары» – то есть пустых ящиков, или «Сдаю товар» – погрузка полных ящиков в грузовик, или «Сдаю кассу», или «Принимаю тару», да еще норовил обсчитать.
Поллитровка – 12 копеек, 0,75 и 0,8 (противотанковая) – 17 копеек, чекушка (0,25 литра) – 9 копеек. Банки: поллитровая – пятак, литровая – гривенник, двухлитровая – 20 копеек, трехлитровая – 40. Пустая трехлитровая банка – две буханки серого.
Надо было «подгадать»: знать не только часы работы, указанные на табличке, но и «обыкновение». Дед говорил: «Я побегу, займу очередь», а я через полчаса волок туда сумки с бутылками и банками.
С бутылок надо было соскоблить этикетки и начисто отмыть оставшиеся следы, а иначе: «Грязная посуда!» – не брал. Если же пробка вдавлена внутрь, то засунуть в бутылку шпагат, сложив вдвое, и образовавшейся петлей поймать пробку (перевернув бутылку горлышком вниз) и, накинув, тащить. При этом в бутылке должно быть сухо, иначе бумажный шпагат моментально размокнет и порвется.
Поллитровые молочные бутылки резко отличались от водочных и пивных – широкое горлышко. Закрыты эти бутылки были колпачком из фольги – нажми большим пальцем, середина колпачка вдавится, а края задерутся, и легко снять. На молоке колпачок белый, на кефире – зеленый. Цена содержимого и посуды была одинаковая – 15 копеек, очень удобно. Сдаешь две молочные бутылки – взамен тебе дают одну полную. И сдавать легко: ни разу молочная продавщица не сказала: «Нету тары». Но такое молоко – дорогое. Получается, что литр – 30 копеек. А разливное-то – 22.
Некоторые бутылки использовались для постного масла (его продавали в розлив), почти всегда они были очень грязные – не отмыть.
Продавщица ставила бутылку на весы и совала в горлышко воронку, и все это еще качалось, а она уже зачерпнула жестяным ковшом масло из 40-литрового бидона и льет масло в воронку, и стрелка весов шла для меня влево, для продавщицы вправо, и продавщица с красным лицом и золотыми зубами выхватывала воронку и, не давая стечь маслу в бутылку, воронку кидала к себе в лоток, а бутылку ставила на прилавок: вот, мол, ваши 400 грамм, а там дай бог 380, но это не докажешь, хотя и знаешь точно, что бутылка весила 370, а сейчас на контрольных весах не 770…
Затыкаешь бумажной пробкой (скрученной бумажкой, часто клочок газеты, промасленный), бутылка скользкая, масляная, надо не уронить и в хозяйственную сумку поставить, и чтоб не упала, чем-нибудь подпереть: капустой, сахаром.
Целлофановых полиэтиленовых пакетов в природе не существовало. Еду отвешивали в бумажку. В хороших гастрономах в центре сливочное масло отвешивали в тонкую, так называемую пергаментную бумагу, она почти не промасливалась, если не жара летняя. А везде – толстая, коричнево-серая оберточная – рыхлый крафт; и вес бумаги постоянно обсуждался, ибо за нее мы платили как за масло, сахар, сыр.
Продавщица на другую платформу рычажных весов должна была класть такой же кусок такой же бумаги, но там лежал маленький, размером с тетрадный лист, а еду накладывали в лист с полгазеты, да еще подвернув второй слой «для прочности».
Творог, сливочное и топленое масло, сыр, колбасу, икру, сырковую массу, сахар (песок и кусковой, и пиленый), мясо, рыбу (!!!) – всё в бумагу, а она норовила промокнуть, рвалась и расползалась, и кулек с сахарным песком надо было поставить, чтоб не рассыпался и не рядом с рыбой.
Хлеб – просто руками она (другая, но тоже с красным лицом и золотыми зубами) клала на прилавок и рассчитывалась, требуя мелочь. А ей говорили (храбрецы):
– Девушка, мне поподжаристей.
– Девушка, мне еще полкило баранок.
Раз уж выстоял очередь, жаль было уходить только с хлебом. Там и сахар, и конфеты, и пряники. Берешь всего понемножку, а народ за тобой начинает злиться. Ничего расфасованного не было, все взвешивалось: крупа, соль, всякая бакалея, печенье.
«Винный», «Рыба», «Молоко». Магазин назывался «Молоко», а говорили про него «Молочная» (она): «Пойди в молочную, пойди в рыбный (он), овощной» (а на вывеске «Овощи-фрукты»). «Культтовары», «Парфюмерия», «Ателье». На витрине любого ателье всегда висело объявление: «Из материала заказчика».
На каждой улице – мастерская «Ремонт обуви». На каждой улице – «Плиссе-гофре» (вот куда ни разу в жизни не пришлось обратиться, но нравилось, как звучит красиво).
…Сейчас подумал: вдруг это не случайно? На Большой Коммунистической не было мастерских, не было ни одного магазина. Какая торговля в коммунизме?
И мы все время знали, что мы – Великая Могучая Непобедимая страна. Об этом даже думать не приходилось. Ведь не думаешь же, что у тебя есть руки, ноги. Они всегда есть.
И сахар всегда 90 копеек килограмм, манка – 55, рис – 88, гречки могло не быть, за ней гонялись, ее давали в «заказах», но если есть – 56 копеек всегда. Батон всегда 13 копеек, буханка серого до 1961 года – 1 р. 90 к., белого – 2 р. 90 к. А после реформы 20 копеек и 28. Эскимо было 1 р. 10 к., стало 11 копеек, картошка «магазинная» – 10 копеек, ибо была и рыночная, вплоть до 50 копеек там доходила цена за «молодую».
0,75 «Цинандали», «Мукузани», «Твиши», «Саперави» и т. д. – всегда 1 р. 87 к. Пол-литра «Московской особой» – всегда 2,87, поллитра «Столичной» – 3,07, «Старка» – 3,60, коньяк «Армянский» три звездочки – 4,12. А если богатство привалило, то в Столешниковом переулке – французский «Камю Наполеон» за 9 рублей! На Таганке и в окрестностях такими изысками, слава Богу, не торговали никогда.
Какой смысл писать эту ведомость, помесь хроники с прейскурантом (в магазинах висел прейскурант и «нормы отпуска в одни руки»)?
А такой, что и в VI, и в XVI, и в XIX веке дети ели еду прапрадедов, из посуды прапрадедов, на столах и лавках, возраст которых был неизвестен – они были всегда.
А теперь дети живут в другом мире, чем деды и даже отцы, и не знают, как было.
Газировка с лотков: цилиндры с сиропом, баллон с газом, моечное устройство. Без сиропа – 1 копейка, с сиропом – 4. За 7 копеек – с двойным сиропом (не пил никогда). 7 копеек – это фруктово-ягодное мороженое в картонном стаканчике и деревянная лопаточка.
В бочках квас. Маленькая кружка – 3 копейки, большая, пол-литровая – 6 копеек. Очень вкусный.
В ларьках пиво разливное. Пол-литра – 22 копейки. В баре пол-литровая кружка стоила 28. А пол-литровая бутылка «Жигулёвского» – 37 копеек. Но если пустую сдать, то получается пиво за 25. То есть чуть дороже, чем разливное, и чуть дешевле, чем в баре.
У некоторых в квартирах, у очень немногих, на шкафу стояла коллекция пустых бутылок из-под иностранных напитков – виски, ликёры… Пустые пачки из-под иностранных сигарет – всё это на полках, на шкафах, а некоторые любовно и аккуратно приклеивали пустые сигаретные коробочки на стены – напоказ гостям и для украшения дома.
В кармане засморканный носовой платок, на ногах дырявые носки, штопка, дырявая обувь, унаследованная.
Компьютерных игр не было, поскольку компьютеров не было. Мы играли в «Чижик» (ударить длинной плоской палкой, похожей на меч, но с тупым концом, по короткой палке длиной с карандаш, заостренной с обоих концов. Ударишь правильно – «чижик», вертясь, взлетает в воздух вертикально вверх. В это время лупишь по нему плоской стороной меча, и он улетает далеко, а тот, кто водит, старается его поймать на лету, а иначе бежит искать и знает, что проиграл, даже если найдет и вернется).
Пристенок, казеночка, рас-ши-ши – это игры на деньги.
Ножички (с маялками). Маялки, маять означает мучить. Проигравший должен скакать на одной ноге так долго, пока выигравшему удается, идя по двору, на каждом шагу бросать ножик так, чтоб воткнулся в землю. А не воткнулся, упал – проигравший отмаялся.
Карбид – ценная вещь. Бросишь в лужу – булькает; подожжешь – пузыри горят. Если положить в бутылку и налить воды – взрыв обеспечен. Одному попало в глаз, все разбежались, я дома залег под одеяло, читаю, кашляю. Пришел милиционер, стал допрашивать. Я врал до тех пор, пока не выяснилось, что все остальные уже сознались и сказали, что это я клал карбид в бутылку и наливал воду. Оформили мне первый привод.
Поджига – пистолет, сделанный из металлической трубки. Один конец сплющивают молотком и загибают, чтобы он не пропускал пороховые газы. Трубка, заглушенная с одного конца, проволокой приматывается к деревянной ручке. Внешне – настоящий пистолет. Треугольным напильником пропиливается в металлической трубке поближе к заглушке крошечная дырочка, чтоб через нее поджечь. Потом берешь коробок спичек и перочинным ножиком над листом бумаги соскребаешь серу с головок и аккуратненько насыпаешь в трубочку, в пистолет. Уминаешь тонкой палочкой. Потом туда закатываешь стальной шарик из разбитого подшипника, и вот она – смерть врагам. Слава богу, обошлось, ни разу никого не убил.
Во дворе – натянутые бельевые веревки. Сохнут простыни, пододеяльники (всегда белые, цветных не было). Играть в футбол надо подальше; мяч, попав в непросохшую простыню… Ну, в общем, понятно.
Зимой ковер вытаскивали во двор, набрасывали снегу, а потом расчищали снег веником, и ковер становился чистым, а снег грязным. А летом ковер вешали на забор и лупили палкой. Пыльная работа.
Когда в квартире делали ремонт, маляров просили покрасить стены «под шёлк» – получалось с цветами (по трафарету), более светлые полосы плавно переходили в более тёмные.
Если кто-то уезжал в отпуск на юг, оттуда приходила посылка: фанерный ящик с фруктами, орехами.
Лет с восьми или с девяти, летом на даче, один (а раньше с дядькой Вовкой) каждый день встречал Соню и деда с электрички.
Вообще-то сперва это был пригородный поезд с паровозом, в дверях вагонов висели люди, спрыгивали на ходу. Отчаянные спрыгивали на быстром ходу и бежали, чтоб не упасть; я знал, что прыгать надо назад, но лицом вперед, чтобы прыжок назад погасил скорость. Потом спрыгнувшие бежали, чтоб сесть на автобусы, потому что через минуту толпа хлынет с поезда, и будет очередь, и простоишь час, а то и больше. Потом протянули ветку на Фрязино и люди бежали на Фрязинскую платформу. А еще спустя долгое время пересаживаться уже стало не нужно – поезда в Болшево просто сворачивали на Фрязино.
На Болшевской платформе (той, что на Москву) у первого вагона был табачный ларек, старик-продавец дарил изредка коробки картонные из-под трубок. А я без конца смотрел, как он торгует пачками и штучными. «Север», «Прибой» – дешевые папиросы, 1 р. 10 к. 20 штук. «Беломорканал» – средний класс 2 р. 20 к., «Казбек», «Герцеговина Флор» – дорогие, сталинские. «Казбек» – то ли 3 рубля, то ли больше.
«Казбек» мужики брали штучный – одна – две папиросы, да и «Беломор» был россыпью. А старику-киоскеру это выгодно, потому что за одну папироску платили не 1/20 цены, а на копейку больше.
Дальние электрички (щёлковские, монинские) приходили к противоположной платформе, и я с московской платформы высматривал среди толпы деда и Соню. Часто они приезжали вместе, и я даже не думал, как это сложно – встретиться в Москве… Место, впрочем, было всегда одно: под табло Ярославского вокзала.
Они шли, нагруженные сумками – у каждого по две. У деда – портфель и авоська, у Сони – сумка и авоська, и еще сумочка, и еще могли быть авоськи, если что-то удалось отхватить, поймать. Покупка продуктов – как охота: без гарантии, что добудешь. У Сони всегда одно-два яйца раздавливались в толкучке и заливали паспорт. Почему ее паспорт всегда попадал в яичницу? Это было предметом постоянных шуток.
Я навешивал все эти сумки и авоськи на руль. Велосипед становился тяжел и неповоротлив, сумки то били по ногам, то норовили попасть в спицы. А Соня с дедом налегке шли на дачу или сперва на Клязьму – купаться. Теперь там гнилой ручей. Куда делась речка?
До того как вскочить на велосипед и поехать встречать деда и Соню, я заливал ведрами бак на крыше душа (встык с гнилым фанерным сортиром). Приехав обратно, отдавал сумки бабе Розе и срочно ставил самовар, чтобы теперь залить в душ почти ведро кипятку. Получалась прекрасная теплая вода, хватало даже на троих, если экономно.
Умывальник был прибит к сосне у кухонного крыльца, там литра два воды, а снизу утолщающийся штырек – подтолкнешь его вверх, и в ладони льется вода, отпустишь – закрывается: экономия и сырости меньше. А баба Роза и в Москве, где воду не считали, не берегли, сохранила азиатские привычки: левой рукой открывала кран, в пригоршню правой набирала столовую ложку воды, закрывала кран, умывалась, и – снова и снова; на умывание вряд ли уходил стакан.
Невероятно: Соня – замначальника ЦПК (Центрально-проектный кабинет) ВГОЛПИ ТЭП (Всесоюзный государственный ордена Ленина проектный институт «Теплоэлектропроект») – там проектировались все тепловые и атомные станции СССР и соцлагеря, большая зарплата. Дед (после понижения) – директор маленького завода порошковой металлургии. Благополучные начальники. Они ехали на дачу в электричке, нагруженные авоськами, стоя, 45 минут, и хорошо, если удавалось повесить сумки на крючки. Ни разу дед не использовал для езды домой директорскую персоналку.
Пятидесятые, начало шестидесятых. Ставились два стула сиденьями друг к другу. На спинки клалась большая чертежная доска, рейсшина, готовальня, рейсфедер, балеринка, циркуль, измеритель, центр (кнопка с ямкой в центре для множества концентрических окружностей), ватман, калька, лезвием бритвы заточка карандашей – круглая заточка для обычных линий, плоская – для волосяных… Потом появилось гениальное устройство: на чертежную доску натягивалась леска, устанавливались ролики и рейсшина двигалась по этим струнным рельсам. Потом – венец цивилизации: кульман с двумя линейками под абсолютно точным прямым углом и поворотная ручка с угловыми градусами. Карандаши «Кохинор» – великая ценность, у нас, школьников – «Сакко» и «Ванцетти» и прочие похуже. И никому тогда не надо было объяснять, что Сакко и Ванцетти – два пролетарских героя, казненных в проклятой Америке за верность идеалам коммунизма.
А еще были чернильные карандаши. Если такой послюнявить, он писал как чернилами, и такую надпись гораздо труднее стереть, если надо подделать бухгалтерскую ведомость.
Квитанции выписывались чернильным карандашом под копирку. Почтальонша приносила на дом (на дом!) пенсию бабе Розе – за погибшего на фронте сына. Моя пенсия – за погибшего отца – 96 рублей, после 1961 года – 9 р. 60 к. Открывалась квитанционная книжка, между двумя листиками вкладывалась истертая копирка, почтальон выписывала, баба Роза расписывалась и один из двух листиков отрывали и оставляли нам. Уж не помню, первый или второй экземпляр.
Почту обычную приносили три раза в день, клали в почтовый ящик: в семь-восемь утра, примерно в час дня и около семи вечера.
Было очень волнующе трижды в день искать в почтовом ящике письмо от любимой девушки. Туда же, в почтовый ящик, совалась «Правда», журналы «Новый мир», «Иностранная литература», «Знамя», «Техника – молодежи», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь», «Знание – сила», «Пионерская правда» (недолго). А раньше, помню, дед говорил: «Побегу за газетами» – и бежал в ближайший киоск и приносил газеты. «Правда» – 3 копейки, «Известия» – 2. А что там было читать?
Вывески были понятны и неграмотным. «Продовольственный» – красные буквы. «Парикмахерская» – всегда зеленые. «Культтовары» – синие. Точно так же издали вечером и ночью можно было понять, какой идет трамвай: 20-й или 36-й, каждой цифре соответствовал фонарь своего цвета над кабиной вагоновожатой.
В «Парикмахерской» на Таганской улице мастер, чтоб не сгибаться в три погибели, клал на ручки кресла досочку. Я садился на доску, ноги ставил на сиденье, машинка ужасно щипалась. Под бокс, под полубокс, под полечку. Скобка – это взрослая стрижка. Летом малышей стригли налысо, под ноль или под ноль с чубчиком (от солнца). Деда брили опасной бритвой – ритуал. Мастер шел за кипятком, взбивал в чашке пену, помазком мылил деду щеки, брил, снимая с бритвы на салфетку пену со щетиной, потом еще раз шел за кипятком, намачивал полотенце, отжимал и этой огненной тряпкой накрывал лицо – компресс.
Рядом с «Парикмахерской» на Таганской улице – окошко в стене (Пушкинский васисдас). Бублики горячие с маком. Маленький – 3 копейки, большой – 6. Никогда нигде уже не было потом таких. Разрезаешь его вдоль, мажешь маслом (мама: «Зачем ты мажешь так толсто?»).
С Воронцовской улицы – трамваем на площадь Ногина (теперь Славянская), на Маросейку к логопеду, который велел говорить «лыба» (рыба), «луки» (руки) и – научил не картавить, а р-р-р потом пришло само. И дворовые мучители уже не требовали повторить за ними: «На горе Арарат растет крупный виноград». А раньше это были слезы, когда пойманный у подъезда… то есть я не успел убежать домой. Им, видимо, нравилось смотреть, как жертва плачет, хотя что уж тут красивого.
Самое страшное – зубная боль. Проходным двором на Большой Рогожский в детскую поликлинику (построил ее до революции какой-то купец-благодетель, двухэтажный особняк, на антресолях квартиры для врачей; в советскую эпоху они стали кабинетами, из зубного постоянно доносились вопли и вой; теперь в особняке – вообразите! – Музей кулинарного искусства).
Жуткие инструменты в лотках с отбитой эмалью: козья ножка, сверла. Бормашина, которую крутила врачиха ногой, качала педаль, как у швейной машинки. Точно так же педалью крутились точильные камни точильщика. Сверла, которые врачиха выбирала из кучки и, посверлив, бросала обратно в эту кучку, – общие. И зонды – общие. О стерильных инструментах тогда и мысли не было. Впрочем, и СПИДа тоже не было, только сифилис. Лишь вата со слюнями и кровью выплевывалась и не использовалась вторично.
Всё использовалось. Учебники, ветошь, бумага, распрямляли ржавые гвозди, делали «жука в пробку» – наматывали проволоку на перегоревший фарфоровый предохранитель.
465-я школа в Большом Факельном. Директор – бывший военный – шел по коридору, командуя: «Руки! Чище! Лучше!» Никто не знал, что делать. Ловил, больно бил по темени костяшкой пальцев (хуже, если ключом), приговаривая: «Вызови мать. Ты меня понял? Ты меня понял? Деда не надо. Вызови мать». Директор знал, что дед мне всё прощает.
Военное дело: вслепую разбирали и собирали винтовку Мосина (думаю, и сейчас справлюсь не глядя).
Билеты в кино, дешевые в первые два ряда – 30 копеек, вечером в середину жутко дорогие – 45. Непонятно, кто их покупал. Берешь билет за 30 и идешь в десятый ряд, как король. Билет в театр – 1 р. 20 к. На премьеру – 1 р. 50 к. В театральном буфете за 1 р. 20 к. наливали 100 граммов коньяку, никто не спрашивал: мальчик, сколько тебе лет?
Мечты о коммунизме привели к упразднению контролеров. В трамваях, автобусах, троллейбусах поставили кассы, куда надо было кинуть денежку и самому себе открутить билет. Добровольные контролеры возле касс следили, сколько ты кинул денег, сколько собираешь сдачи. Потому что публика делилась на честную, которая платила, нечестную, которая ехала без билета (как я), и бесчестную, которая стояла возле кассы и собирала сдачу, сколько могла. Кинет пятачок, а собирает полтинник.
Из школы в Сыромятниках можно было проехать две остановки на трамвае до Андроновки. Моторный вагон и сзади еще два. Если гурьбой сесть в третий вагон, столпиться на задней площадке и начать ритмично подпрыгивать, вагон начинал страшно раскачиваться, мог сойти с рельсов. Мы ликовали. Публика угрожала побить.
Москва была набита китайцами. Праздничные демонстрации 1 Мая и 7 Ноября часами текли по Таганке и спускались по Радищевской к Яузским воротам. По пути все покупали на улице китайские игрушки: свистульки «Уйди-уйди», цветные шары, которые меняли форму, пропеллеры, вертушки, которые крутились от ветра, мячик на резинке: кидаешь, а он возвращается в ладошку.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!