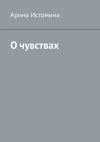Читать книгу "Непридуманное"

Автор книги: Александр Пензенский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Спасибо!
Это то, с чего я не просто хочу, а должен начать эту книгу.
Спасибо моей любимой жене Анюте за то, что не просто терпела моё клацание по клавишам, а потом читала сырые тексты, а за её неизменную фразу «Пиши дальше».
И даже больше за её более ранние слова: «Когда ты уже напишешь книгу?» Я так спешил с первым романом, что там спасибо ей не сказал. Вот, исправляюсь.
Спасибо тебе, любимая.
Ещё одно спасибо.
Эта книжка состоит из абсолютно правдивых жизненных историй, случившихся со мной или моими друзьями. За свои истории хочу сказать спасибо господину Случаю, а за истории друзей благодарности будут персонально-поимённые. Итак, вот они, герои следующих страниц, где-то поименованные, где-то безымянные:
– Евгений Бай,
– Алексей Реснянский,
– Фёдор Володин,
– Кирилл Перегудов,
– Артём Бай,
– Томас Фальц,
– Маркус Блюм,
– Николай Каравашкин,
– Евгений Власов,
– Елена Медведева,
– Ольга Герасименко,
– Илья Пушков,
– Алексей Сапрыкин.
Спасибо вам, друзья, за то, что вы были, есть и, надеюсь, будете в моей жизни.
Красивая фамилия
Историю эту я знаю не совсем из первых уст, а за давностью и самого события, и даже того момента, когда она была поведана мне, обросла она без сомнения и моими ложными воспоминаниями. Потому прошу главное действующее лицо на меня не сильно сердиться, равно как и остальных безымянных и поименованных героев её. Тем более, что рассказал мне всё это его самый что ни на есть ближайший родственник – сын, наследник и продолжатель того самого рода, о фамилии которого и пойдёт сейчас речь.
Дело было во времена уже почти доисторические, практически былинные – в предыдущую эпоху стабильности и долгого пребывания у кормила государственной власти руководителя, любившего не только вручать, но и получать блестящие награды.
Тогда свои первые шаги по коридорам громадного здания, на фасаде которого гордо смотрели в сторону Кремля три лепных ордена, опирающиеся на циклопических размеров буквы «Известия», делал молодой выпускник факультета журналистики Института международных отношений Женя Бай.
Не смотря на свою не вполне московскую фамилию, Женя был самым настоящим столичным аборигеном. Экзотической фамилией его предков наградил во времена бурные и революционные какой-то торопливый и невнимательный канцелярист из паспортного стола, видно, в целях экономии казённых чернил – товара в те времена безумно дефицитного, Пастернак ведь врать не стал бы? – лишив родовую фамилию окончания «ев». Вот так вот росчерк пера – точнее, его отсутствие, – превратило какого-то Баева в Бая. Надо сказать, что историями о каких-либо злоключениях, ставших следствием этой описки, ни один из известных мне носителей этой краткой и звучной фамилии со мной не делился. За исключением описываемого случая.
Так вот. Семидесятые. Сытые, ленивые, достаточно свободные. От сводов длинных коридоров издательства мирового уровня отражаются эхом лёгкие шаги молодого и полного надежд и веры в себя журналиста. Шевелюра его густа, спина крепка, а перо бойко и талантливо. Он спешит к своему редактору, в кожаной папочке у него его первый материал, гордо подписанный «Евгений Бай». На самом деле, чёрт его знает, была ли у него кожаная папочка, но очень уж мне хочется, чтоб была. Так и видится, как он в предвкушении похвал и восхищений временами срывается на легкомысленный полубег, а в моменты особо волнительные подбрасывает эту самую папочку к высокому потолку, ловко не даёт ей упасть и широко улыбается. Именно так должна вести себя молодость в любой стране мира и при любом властвующем режиме.
Вот он уже сидит на крайнем из длинного ряда стульев, та самая папочка зажата между колен. Справа от него двустворчатые массивные двери, через которые он только что попал в приёмную, напротив секретарша в больших очках с затемнёнными на треть стёклами с химическими кудрями а-ля Анджела Дэвис и большими красными пластмассовыми жемчужинами в ушных мочках сосредоточенно грохочет по печатной машинке, время от времени с лязгом передвигая каретку, а слева ещё одни двери, ведущие к успеху, большим гонорарам и командировкам в капстраны.
Вот он уже на другом стуле, ближнем к столу того самого редактора. Папочка – уже пустая – покоится на лакированной поверхности стола для совещаний, приставленного к главному ножкой буквы «т» (нет, наверняка была у него папочка!). Он ждёт, напряжённо наблюдая за движением торчащих из-за желтоватых листов с его статьёй бровей, по дёрганью очков в толстой роговой оправе, загнанных на лысину, уверенно выбивающуюся из-под зачесанных сбоку прядей, он силится угадать настроение и впечатления хозяина этих бровей, очков и лысины. В этом немолодом уже гражданине нерелигиозному (помните же, тогда это было непринято) Евгению видится сам апостол Пётр, а ручка с золотым пером в его деснице – ключами от врат в те самые, обетованные.
Последний лист перевёрнут, гражданин кладёт бумаги на стол, возвращает очки на место и вперивает пронзительный (по его собственному суждению) взгляд в юного сотрудника. Я не знаю, как выглядел этот человек. Но мне он почему-то представляется следующим манером: немолодой, лет под пятьдесят. В толстых очках, как уже было сказано ранее, с лысиной, которую уже не получается скрывать. В костюме неопределённого цвета, пошитого на фабрике «Липчанка» и купленного по случаю по месту производства в 68 году во время командировки «в поля». На шее галстук с громадным узлом, а под столом ноги в синих носках, обутые по летнему времени в плетёные «скороходовские» сандалии. Гротескно и ненатурально? Может быть. Вы можете представить его себе как-то иначе, но воспоминания из моего детства нарисовали почему-то такой образ.
И вот этот усталый человек, которому давно уже тесен этот кабинет, смотрит с грустной тоской (как будто бывает весёлая, да?) на пышущего светом и задором юнца, принёсшего ему довольно неплохой текст, и думает, устроить ли ему профилактическую экзекуцию или же признать, что статья достойная, в номер поставить можно, да и отправить восвояси – глядишь, и выйдет из парня толк? В этих раздумьях снова берёт в руки последний лист, вяло скользит глазами по строчкам, не сняв очков с дальнозорких глаз – и спотыкается на подписи.
– А что это вы, молодой человек, так подписались-то?
– Так меня так зовут – Евгений… – несколько оторопев, возражает Женя.
– Я помню, я прекрасно помню, как вас зовут. Но в нашей газете есть своё правило – полным именем не подписывается никто.
– Но…
– Но-но! Ни-кто! Даже заслуженные журналисты у нас умеют обходиться лишь первой буквой имени и фамилией. Это незыблемо!
Редактор собирает в одну стопку все листки, черкает подпись на первом и протягивает Жене.
– Ступайте. Пойдёте в завтрашнем номере.
Ошарашенный Женя выходит в приёмную, растерянно топчется несколько мгновений, переводя взгляд с подписи большого человека на круглые очки секретарши, затем порывается было вернуться в кабинет, но его хозяин уже с кем-то беседует по телефону без наборного диска. Женя обречённо выходит в коридор.
На следующий день газета «Известия» печатает первую статью молодого журналиста, которому предстоит в будущем стать одним из её ведущих специалистов по капиталистическим странам, собкорром на Кубе и в Вашингтоне. Под статьей стоит гордая и даже мотивирующая подпись «Е. Бай»!
PS. Конечно, эта скандальная подпись не увидела свет (хотя моя память угодливо подсказывает мне, что в первый раз Артём Евгеньевич, сын того самого Жени, именно так эту историю и закончил). Подпись всё-таки разглядели во время предпечатных подготовительных мероприятий. Но что есть правда неоспоримая, так это то, что молодой корреспондент Евгений Бай был первым и, кажется, единственным пишущим сотрудником «Известий», кому от имени оставили не одну, а три буквы, и было позволено подписывать свои материалы «Евг. Бай».
Если друг оказался вдруг…
Помните фразу, вложенную в уста одного из главных героев бусловского «Бумера»: «Не мы такие – жизнь такая»? В те самые девяностые эта фраза звучала как девиз всего десятилетия, причём не только от ребят со спортивными причёсками. Да чего уж там – она и сегодня довольно часто высовывается, будто солдат из окопа, когда нужно оправдать какую-то подлость или низость.
Но что-то в ней есть. Потому что жизнь тогда и правда поменялась очень резко. Особенно сильно это почувствовали те из моих друзей, чьи семьи волею судеб и послевузовских советских распределений оказались вдали от места рождения, в братских союзных республиках. Еще недавно, во вполне обозримом прошлом, они были уважаемыми людьми, ценными специалистами, ответственными работниками, в часы досуга собиравшие за своим столом большие разномастные компании – а сегодня с ними через раз здороваются соседи и по лестничной клетке, и по тому самому столу. Как-то в один момент вдруг «братья» стали тяготиться родством. Попала в такую ситуацию и семья моего друга Алексея.
Его дед, переброшенный в свое время партией из Липецка в Туркменскую ССР, руководил цехом крупного химического предприятия в Чарджоу, имел в этом солнечном городе квартиру с собственным садом, в котором почти круглый год росло и наливалось соком всё то, зачем так стремились в 20-е годы в азиатские республики все беспризорники Советского Союза. Имелись у дедушкиной семьи и почёт, и уважение – в общем, по тогдашним меркам Борис Моисеевич был человеком из элиты.
Но случился декабрь девяносто первого, и как-то разом во всех жителях большой многонациональной страны проснулось мононациональное сознание. Не знаю, наверное, это не плохо. Но я помню, что у меня в классе в самой средней полосе РСФСР учились азербайджанец, армянин и узбек. И в восемьдесят шестом ни я не считал их какими-то отличными от меня, белобрысого и голубоглазого, ни они на меня не смотрели как-то по-особенному. А белорусов или евреев я до сих пор идентифицировать не умею ни по внешности, ни по фамилии и учиться этому навыку не планирую, уж простите.
Но вернёмся в Туркменистан. Положение ухудшалось, отношение тоже. Работы не было, платить пенсию ещё год назад уважаемому специалисту вновь образовавшееся государство не хотело. Независимость так независимость, и от обязательств тоже. Не мы такие – жизнь.
Первыми уехала дочь с зятем и маленьким Алёшей. Дедушка с бабушкой задержались в надежде всё-таки расстаться с квартирой и садом за деньги, а не оставив всё в дар бывшим соотечественникам, развешивавшим по столбам объявления с призывами не покупать у русских квартиры, а подождать, пока они их просто побросают. Какими усилиями жилплощадь была всё-таки продана, нам не важно, но совершенно ясно, что вырученных средств хватило в Липецке совсем не на хоромы. Поселилась семья моего друга в не самом приятном районе. То есть вы понимаете, что значит в середине девяностых, когда благополучным не мог считаться никакой район, выражение «неблагополучный район»? Я думаю, нью-йоркская подземка восьмидесятых или Гарлем могли считаться элитными кварталами в сравнении с нашими «Соколом», «Тракторным» или «Зоей».
С работой в Липецке было если и лучше, чем в Чарджоу, то лишь в пределах допустимой погрешности, зарплаты и пенсии за инфляцией не поспевали, потому, в очередной раз сказав вслух или про себя мантру «не мы такие – жизнь такая», старики рылись в мусорных контейнерах, спортсмены обматывали кулаки цепями, люди более мирные занимались собирательством. Очередной виток исторической спирали вернул общество к первобытнообщинному состоянию.
Друг мой Лёшка для уважаемой профессии рэкетира был на тот момент, слава богу, маловат годами. Потому с другими своими сверстниками занялся делами чуть менее криминальными – собирал металлический лом (иногда делая ломом то, что таковым пока ещё не являлось), шарил по складам со скрапом (Липецк – город металлургов). Оливер Твист и Гекельберри Финн умерли бы от зависти, слушая про то, как ребята по ночам лазали по железно-чугунным горам с магнитами, как навьюченные тяжёлыми находками (зимой было легче, так как на промысел ходили с санками) тащили свою добычу в круглосуточные пункты приёма, как прятали в снег трофеи от патрулирующих их тропы милиционеров. Но рассказ всё-таки про дружбу, а не про лихие времена.
Дело было летом. Район, в котором жил Лёшка, при всей своей сомнительной благополучности был довольно живописным: сосновый лес, искусственные озёра с песчаными пляжами. Хотя тогда это больше воспринималось не как зона для семейного отдыха, а как тихое местечко для обтяпывания всяких дел, которым не нужны были лишние глаза. И по одной из многочисленных тропинок, петляющих между высокими скрипящими соснами, тащат тяжеленый моток провода, почти целую бухту медного кабеля в изоляции два двенадцатилетних пацана – черноволосый кучерявый Лёшка и друг его Артём, сероглазый плечистый блондин с выгоревшими на летнем солнце патлами. У них очень важная миссия: нужно найти место, где драгоценную медь можно будет освободить от этой самой пластиковой оплётки. Ну то есть нужно зайти подальше, чтобы чёрный дым от костра не был виден из окон домой, граничащих с лесом. Иначе на этот индейский телеграф быстренько прилетят либо шерифы, либо конкурирующие племена, состоящие из более взрослых и физически более сильных обитателей этих прерий. Понятно, что намерения их будут недружественными.
Пока тащили, искали, плутали – начало темнеть. У Лёшки капает кровь с пальца – боевое ранение при добыче трофея. У Артёма со лба капает пот – Тёма, конечно, парень крепкий, каратист, но двенадцатилетний, а кабель тяжёлый, таскали они его долго. Все устали. Посовещавшись, участники конфессии принимают решение кабель спрятать «как он есть», необожжённым. Тем более, что и время надо выждать, а то прямо при сдаче в пункте приёма вместо кабеля могут принять самих Лёшку с Артёмом – кабель-то не сказать, чтоб совсем бесхозным был. Кинули в яму, прикрыли ветками, вышли из леса, разошлись.
На следующий день перепрятали получше – закопали, сухой хвоей присыпали, только им понятный ориентир оставили.
Пришли через неделю. Место то, хвоя на месте, а схрон пустой. Артём ахает и причитает, Лёшка молча подозревает друга. Потом начинает подозревать громко. Артём сначала оправдывается, а потом плюёт на хвою, разворачивается и уходит. Дружбе конец.
Лето было в самом начале, детвора догаджетовой эпохи по домам в хорошую погоду не сидела, пропадала чёрт знает где от звёзд гаснущих до них же, зажигающихся. Наши герои тоже помимо металлоприработков и на велосипедах гоняли, и в озёрах купались – каникулы же. Вот только если раньше они вместе держались, то теперь как-то с совместными прогулками не ладилось. Пролегла между приятелями тонкая медная проволока, разделила мир на «до» и «после».
А то, что это девяностые, все помнят, да? Не время для одиночек, особенно, если тебе двенадцать. Артёму-то попроще, он, как уже говорилось выше, в какой-то секции единоборств тренировался, потому мог домой мимо гаражей возвращаться спокойнее. А вот Лёшка занимался плаванием, навык полезный, но не на суше – во дворах тех лет нужен был либо бокс, либо бег. И вот в один из вечеров, возвращаясь уже домой, услышал Алексей из темноты самые жуткие по тем временам слова, ещё и сказанные с угрожающей растяжечкой:
– Эээ, пацаааанчик!
Красными искрами рассыпался об асфальт брошенный окурок, цыкнул плевок, защёлкали в чьих-то руках модные тогда чётки «зоновской» работы. Как говорилось в одном оскароносном советском фильме, вечер переставал быть томным. Лёшка обречённо приготовился получать по шее, мысленно попрощался с мелочью в кармане и молился, чтобы не порвали штаны или футболку, а то несчастливой шее досталось бы ещё и от мамы. В общем, ситуация была довольно бытовая, но от этого менее страшной не становилась.
И тут, словно Шварценеггер из второго «Терминатора» (только в одежде), на освещённое единственным на весь двор фонарём место вышел Артём. Последовал непродолжительный обмен любезностями, угрозы подстеречь потом по одиночке, ответные уверения в желанности этой будущей встречи – и конфликтующие стороны разошлись в разных направлениях. Дружба была восстановлена со всеми сопутствующими ей атрибутами: летними купаниями с велосипедными заездами и зимним тасканием санок с металлоломом в обход милицейских патрулей.
Артёму, кстати, потом всё-таки сильно досталось, даже в больнице полежал – оказался он как-то один на узкой тропинке с теми, чьи имена Лёшкина память не сохранила. Зато остался в его памяти моток обожжённого медного кабеля, который он видел в приёмном пункте в дни их размолвки с Артёмом. Скупщик довольно подробно описал приметы пацана, притащившего эту проволоку: повыше Лёшки, пошире в плечах, сероглазый, с белыми, выгоревшими волосами. Не мы были такими – жизнь была такая.
Павлик Морозов жив
Много чего в жизни происходит вне зависимости от наших желаний. Нечаянно. Ну вот спешишь ты куда-то и толкнул спешащего в противоположном направлении человека. Нечаянно. Буркнул «извините» – и дальше побежали оба по своим делам. Или в автобусе на ногу наступил тётеньке. Ты же не специально. Ну и нога цела, и туфли почти не пострадали. Бывает. Но один мой приятель рассказал мне историю про такое «нечаянно», что грех было бы ей не поделиться. Нечаянно.
Было это в начале девяностых, на которые пришлось и моё детство, и первые школьные годы рассказчика. Аккурат где-то перед ГКЧП и Форосом, то есть ещё в другой стране (люди помладше «погуглят», отвлекаться на пояснения не буду). Участники описываемых событий уже доросли до начальной школы, а значит, вступили в возраст первых взрослых экспериментов. Речь пока не про алкоголь и межполовые отношения, а про «дымовухи», взрывпакеты и поездки через весь город к гостинице с интуристами с целью выменять или выпросить банки из-под пива или газировки, сигаретные пачки и мелкие дензнаки. И про первые робкие затяжки, когда одна сигарета, вытащенная кем-то у курящего отца, пускается по кругу. Делалось это всегда за гаражами, которых в то время по всему городу было полно, как капитальных, так и разноцветных железных.
И вот собралась с определённой целью группка семи-восьмилетних пацанов. Кто-то, соблюдая строжайшую конспирацию (то есть оглядываясь по сторонам, тараща глаза и шепча на весь двор), показывает зажатую в потной от волнения ладошке сигарету. С фильтром! Это вам не «Прима» или «Астра» какая-то, это в худшем случае «Столичная», а то и «HB» или «Родопи»! В общем, за гаражи пошли даже те, кто до этого не пробовал курить и не думал начинать.
Сломана веточка, в неё, сложенную пополам, как в пинцет засунута сигарета – чтобы руки после не воняли. Спички в то время были в кармане у каждого «нормального» пацана, потому как вдруг попадётся стоящая дымящая линейка или строительный патрон. Итак, сигарета запалена, переходит из рук в руки. Большинство просто набирает в рот дым, но кто-то уже умеет курить по-взрослому, «в себя». Обязательно найдётся и тот, кто именно сегодня попробует сделать это в первый раз, со всеми сопутствующими ритуалу атрибутами: диким кашлем, слезами градом и полной цветовой палитрой на лице.
Трубка мира выкурена, вожди заедают запах липовыми листьями и расходятся по своим делам – кто-то собирать рябину для стрельбы через трубки, кто-то рванул на стройку за «липучкой» и «колбасой», а один из куривших направляется прямо в подъезд. Но не в свой. В этом подъезде живёт его лучший друг Фёдор. Но сейчас его дома нет, он только что курил за гаражами. Дома только его мама. Друг поднимается на четвёртый этаж, на цыпочках тянется к дверному звонку. Всё это он делает, как он потом объяснит, «нечаянно».
Мама открывает дверь. И лучший друг Феди совершенно нечаянно, преодолев до этого пешком восемь лестничных пролётов (опять-таки нечаянно), говорит:
– Тёть Наташ, а ваш Федя за гаражами курил!
Спустя несколько дней, когда Феде снова стало можно выходить во двор, он спросил у друга, почему он пошёл не с ним на стройку, а один к Фединой маме?
Друг ответил:
– Прости. Я нечаянно.
И Федя поверил. И простил. Потому что друг. До сих пор.
PS. Кстати, Федя с тех пор не курит. Осознанно, а не нечаянно.
Песня про prostitution
Все же наверняка помнят прижизненное сценическое отношение Михаила Николаевича Задорного к американцам? Не хочу говорить, что я его разделяю, да и сам Михаил Николаевич наверняка в жизни приватной, вдали от кулис, так уж сильно ярлыки не развешивал. Надеюсь. Тем не менее, следующая история связана как раз с жителем одного из соединённых штатов.
Уже однажды упоминавшийся мной мимоходом мой близкий и давний друг Артём Бай в этой вот истории принимал самое непосредственное участие. Волею судеб, чему, несомненно, в какой-то степени способствовала и специализация его пишущего для «Известий» из капстран отца, Артём Евгеньевич, а в тут пору просто Тёма, высшее образование отправился получать в США. Чем, надо сказать, обрёк себя на пожизненные упрёки своей острой на язык, но горячо любимой бабушки. Дама эта преподавала в ту пору в МГИМО, и под её внимательным взором проходил процесс профессионального оперения всех ближайших родственников, а престижный и для многих советских граждан недостижимый вуз бабушка совершенно серьёзно называла «наш институт». Артём же, нарушив семейную традицию, вот уже третье десятилетие при встречах неизменно слышит от бабули «ну ты-то не из наших». Гвозди бы делать из этих людей!
Но продолжим.
Артём был парнем видным – да и остаётся таким, не смотря на свою нынешнюю, несколько отличающуюся от студенческой, причёску. Общительным – ну это понятно уже хотя бы по тому, что он становится фигурантом уже второй главы в этой книге. На гитаре замечательно играет. Завёл американских друзей, которые звали его Арт. Женился на американке. Это, как вы сами понимаете, автоматически расширяет круг общения как минимум на её друзей (при желании список фильтруется) и родственников (принимается оптом, сортировке не подлежит).
Кухонные посиделки с гитарой и алкоголем – занятие международное, от степени развития демократических институтов практически не зависящее, что было неоднократно доказано Булатом Шалвовичем, Юлием Черсановичем и иже с ними. Прижилось такое явление и у буржуинов, хотя поют они, конечно, песни другие, до наших которым, само собой, далековато (ремарка для патриотов, а то боюсь, они до конца не дочитают).
Артём пел песни всякие – и импортные, и доморощенные. Мама его воспитала на Окуджаве и Визборе, сам он наслушался БГ с Макаревичем, а от «битлов» и Брюса Фридриховича Спрингстина так и вовсе противоядия не изобретено.
На одной из таких посиделок, когда под красное сухое и восторженные взгляды новообретённой родни пелись песни народов мира, прозвучала в числе прочих одна из известнейших песен Андрея Вадимовича Макаревича. Прозвучала – да и бог с ней. Вечер был долгим, вина было много, а песенный арсенал у Артёма неистощим. Можете мне поверить и про вино, и про репертуар, на себе испытанно неоднократно.
Как пишут все, от классиков до вашего покорного слуги, «шли годы». Ну, может не годы – месяцы. Случилось вновь свидание с роднёй. Снова позвали со стены гитару, опять разлили по мракам бокалов колдовство. Артём играл и пел, гости пели и пили. И вот в той части вечера, когда англоговорящие участники застолья уже способны были без акцента подпевать даже песне про недолгий век кавалергарда (я-то такого себе и в трезвом состоянии позволить не могу), из зрительного зала поступил заказ.
– Арт, – на слегка заплетающемся американском английском обратился к барду дядя его супруги Пит. – А спой нам песню про prostituton.
Думаю, слово prostitution переводить не надо, а то это автоматически повысит возрастной ценз этой книги до 18+.
Артём напрягся. Супруга посмотрела на него с повышенным вниманием. Дядя Пит настаивал, что песню про женщин с низкой социальной ответственностью он слышал именно в исполнении Арта. У мамы Артёма, большой поклонницы Окуджавы, на другом краю света стыдливо порозовели за сына щёки.
Стали перебирать. Газмановскую «путану» отмели сразу, ибо творчества этого автора Артём не одобрял. Других песен про жриц любви ни на русском, ни на английском тоже в памяти не всплывало. Разошлись с чувством неоконченного дела у всех и с не оформившимися подозрениями в отношении Артёма и дяди Пита со стороны супруги первого и племянницы второго (как вы понимаете, это была одна и та же женщина).
Снова замелькали какие-то временные вехи. Снова собралась родня. Дядя Пит молчал. Артём пел. Добрался до не звучавшей в прошлый раз песни А. В. Макаревича «Паузы». На словах «давайте делать просто тишину» дядя Пит вскочил, опрокинул бокал с недопитым калифорнийским и дико, но радостно выпучив глаза, заорал:
– Вот! Вот она! Песня про prostitution!
Что бы сказал Андрей Вадимович, зная, что слова «просто тишину» так неблагозвучно отпечатаются в памяти дяди Пита? Но зато и с Артёма, и с дяди были сняты подозрения в сомнительных знакомствах.
Что русскому хорошо, то и немцу сойдёт
На последнем курсе занесло меня на почти годовую стажировку в город Бостон. Тот самый, что по другую сторону Атлантического океана располагался, да и по сей день там находится. Как я там оказался, для меня до сих пор остаётся одной из главных загадок моей собственной жизни. Английский я знал плохо, Родину любил сильно, в заграницах жить не желал даже временно. Была ещё одна причина, которая вот уже почти два десятка лет сопровождает меня по жизни, эту самую жизнь украшая и наполняя яркими красками – за две недели до девятимесячной стажировки я женился, в этом состоянии с той же женщиной счастливо пребываю и ныне. Но по порядку.
В самом начале нового века, весной 2001 года, когда я худо-бедно готовился к защите диплома (для чего у меня пока имелся только дипломный руководитель, тема работы и пропуск на металлургический комбинат, по которому большинство проектов и писалось), вызывает меня тот самый, упомянутый в скобках, руководитель. И прямо без подготовки режет мне из-за толстых очковых стёкол:
– Do you speak English? – и пристально так куда-то мне промеж бровей смотрит.
– A little bit, – робко отвечаю я и добавляю. – I have no practice enough.
Если бы он знал по-английски ещё хоть одну фразу, тут бы истории и конец. Потому что последний урок английского у нашей железнодорожной группы был на втором курсе, и оба эти курса я имел у англичанки «автомат», сразив её на первом же занятии какой-то замысловатой фразой, знать которую вчерашнему школяру было не положено (спасибо нашему лицейскому педагогу, Сталине Ивановне Царьковой, за то, что вложила мне в голову пару не ученических выражений). Но к счастью, мой завкафедрой полностью удовлетворился моим ответом, и продолжил уже по-русски:
– Александр Михалович, – ещё больше насторожил он меня таким обращением. – Вы не передумали поступать в аспирантуру?
В аспирантуру я очень хотел, потому что других способов избежать армии я не знал, потому замотал головой – нет, мол, не передумал.
– Тогда мы вас рекомендуем для стажировки в США! – торжественно припечатал мой педагог.
Как я уже говорил, в США мне не очень хотелось, потому что расставание с любимой совсем не входило в мои планы. С другой стороны, это «заграничное турне» предварял подготовительный месячный этап, на котором из пары десятков других, собранных по всех русской провинции, кандидатов (на мой взгляд, все как один гораздо более достойные, чем я, плюс говорящие на английском аки на родном) должны были отобрать троих. Best of the best, так сказать. И приходился этот месяц как раз на время защиты не очень-то готового дипломного проекта. Потому участие хотя бы в предварительных прослушиваниях автоматически добавляло мне времени на подготовку, так как в этом случае защита переносилась на осень. Ну и призыв тоже уже бы закончился. Так что туда надо было попасть непременно.
Собеседовать претендентов от нашей альма матер приехали двое – американец по праву рождения Дэвид и американец по собственному выбору Сан Саныч. Первым со мной беседовал Дэвид. Мне показалось, что прошло всё неплохо. Поговорили про КВН, а других тем я не помню. Пришёл черёд Сан Саныча. Тут я и вовсе расслабился, потому как Сан Саныч, прожив почти двадцать лет в англоговорящей стране, англоговорящим был почти таким же, как и я, просто слов знал больше. С ним мы сошлись на любви к театру и поэзии, почитали друг другу собственные вирши и расстались, сильно довольные друг другом.
Спустя какое-то время позвонил Сан Саныч, побеседовал с моими родителями (я дома только ночевал, проводя всё свободное время с будущей женой), сообщив им, что меня ждут на сборах в Орле (на базе Орловского университета были организованы месячные языковые курсы). Партия сказала «надо», комсомол ответил согласием – я отбыл на Орловщину.
Возможно, то, что я не ставил себе целью непременное попадание в число счастливчиков, а просто получал удовольствие от процесса, и послужило причиной того, что за день до отъезда, уже после экзаменов, меня отозвал Дэвид (курсы вёл он, из чего можно сделать вид, что организовывающая сторона тоже не считала Сан Саныча англоговорящим) и сообщил, что он рекомендовал меня в качестве одного из тройки. Ещё выбрали парня Алексея из Твери и девушку Азу из Тюмени. Новость была, мягко говоря, неожиданная, тем более что наложилась она на моё желание – снова сейчас будет цитата из советской киноклассики – «поставить вопрос ребром» и «покончить с холостым положением». Новости вступила в конфликт с желанием. Ехать надо, но ехать нельзя.
Прилетел я в Бостон в статусе двухнедельного молодожёна, отправившись в девятимесячное свадебное путешествие в одиночку. Как принималось это решение, я рассказывать не стану. Мы с женой решили, что этот опыт будет важен для нашего совместного будущего, и я уехал. Дополнительно всё усложнялось тем, что тот самый парень из Твери задерживался на три дня, и поселили меня в международном мини-общежитии одного. Чтобы вы до конца прониклись трагизмом ситуации, перечислю его жителей: американец, техасец (как выяснилось, это не то же самое, что американец), двое японцев, трое немцев, трое корейцев, чех, китаец, двое марокканцев и бразилец! И я, боящийся издавать ртом любые звуки из страха ляпнуть что-нибудь идиотское. И конечно же, мне в соседи по комнате достался американец, при котором, как мне казалось, я вообще никогда не решусь что-либо сказать!
Я уходил из дома с первыми лучами солнца (разница во времени всё равно спать не давала) и молча ходил по городу. Как не заблудился, вообще загадка, потому что в этом случае надежда была бы только на полицейских, которым можно было бы сказать заученный адрес и посмотреть на них глазами кота из «Шрека». Хотя нет, не вышло бы – Шрека нарисовали только через полгода. В общем, я был как собака с адресником на шее – понимал почти всё, а ответ из меня в тот момент не вытащил бы никакой дрессировщик, ни Дуров, ни Багдасаров, ни Запашный.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!