Читать книгу "Время золотое"
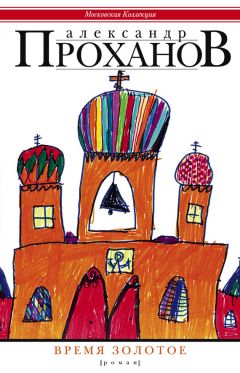
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Андреевич Проханов
Время золотое
Часть первая
ГЛАВА 1
Иван Градобоев набирал полную грудь студеного воздуха. Накалял вздох своей огненной яростью. Жарко выдыхал в микрофон. Железный звук летел над Болотной площадью, рассекая, вспарывая, вырывая из толпы вопли страдания и ненависти. Градобоев жадно глотал эту ответную ярость, пил пьянящий настой. Делал вздох, поднимая высокие плечи, сливая свою огненную силу с гулом и ревом толпы. Направлял грохочущие слова в черное колыхание площади.
– Чегоданов вор! Царь воров! Он украл наши нефть и газ! Наши лес и алмазы! Превратил Россию в пиратское королевство, которым управляют бандиты и христопродавцы! Он украл нашу свободу, подсовывая на выборах фальшивые бюллетени, где вписано его ненавистное имя! В пятый, десятый, двадцатый раз он будет назначать себя президентом, пока от России, как от мертвой рыбы, не останется обглоданный Уральский хребет! Пусть Чегоданов покажет свои счета в американских и швейцарских банках, в банках Гонконга и Сингапура, в офшорных банках Кипра и Каймановых островов! Пусть скажет, какая доля принадлежит ему в газовых и нефтяных компаниях, какие отчисления идут ему от торговли оружием, сколько платят ему губернаторы, получая ярлыки на кормление! Пусть расскажет, кто взорвал дома в Москве, кто убил и продолжает убивать неподкупных журналистов! Люди, хотим ли мы вора-президента? Хотим ли мы жить в обезьяннике, в который превращают Россию?
Градобоев метал в толпу тяжкие, как булыжники, слова, и они оставляли вмятины. Толпа стонала от боли, содрогалась от страшных слов. Глухо ревела в ответ:
– Нет Чегоданову! Вор не пройдет! Градобоев – наш президент!
Градобоев чувствовал могучую слепую силу толпы, которая колыхалась на Болотной площади, как черный вар в накаленном котле. Его слова, как языки пламени, лизали стены котла, и толпа вскипала липкими пузырями, чавкала, чмокала, одевалась туманом, в котором мутно белели лица, струились флаги, качались транспаранты. Кинотеатр «Ударник» в вечернем воздухе начинал ртутно светиться. Вода в канале крутила золотые отражения фонарей. Мостик через канал был облеплен людьми. Над крышами домов, алый, близкий, дышащий, возносился Кремль, а с ним белоснежные соборы, золото, лучи прожекторов, в которых клубился синий осенний туман. И снова площадь с толпой, похожей на зверя, по спине которого пробегала больная судорога, волна серебристого меха.
Градобоев любил толпу. Страшился ее. Чувствовал ее непредсказуемый нрав. Ее вероломство, ее ненасытность. Повелевал ею, навязывал свою волю и был в ее власти. Как сказочный царевич, питал ее своей плотью, кидал ей в пасть сочные, вырезанные из тела ломти, боясь, что зверь с окровавленными ноздрями кинется на него и сожрет. И в этом было упоение, несравненная сладость, неутолимое сладострастие.
– Чегоданов думает, что мы насекомые, лишенные смысла и воли! Мыши, поедающие крохи с его барского стола! Но мы не мыши, мы птицы! Несем весть о Русской Весне! Мы вольные граждане великой страны, которая сбросит с себя иго жуликов и воров! Иго временщиков и захватчиков! Нет Чегоданову! Его место не в Кремле, а в тюрьме!
Он водил по толпе огромным плугом, прокладывал борозды, выворачивал пласты. Чернозем шевелился, дышал. Градобоев вспарывал его отточенной сталью, сеял семена своей ненависти и любви.
– Градобоев! Градобоев! – рявкала и лязгала толпа.
Он отступил от микрофона в глубину эстрады, оставляя после себя пустоту, в которую площадь тянула тысячи рук, требовала его обратно, жадно шарила в сумерках. Градобоев, задыхаясь, слушал восторженных референтов, отвечал на торопливые вопросы журналистов, поворачивался навстречу слепящим вспышкам. Искал и находил влюбленные сияющие глаза женщины, которая кивала ему, восхищалась, гордилась его отвагой и бесстрашием.
– Ну как, Елена? Они меня слышат?
– Мы все тебя слышим, Иван! – Она сжимала его руку, которая трепетала от страсти.
Косматый певец с гитарой прыгал и вертелся в серебряном луче. Кидал в толпу огненные шары звуков, и они лопались, как шрапнель, косили толпу, и она валилась из стороны в сторону. Возносила вверх руки, и они колыхались, словно трава. Певец дул на эти зыбкие стебли, и по толпе, как от ветра, струились и бежали разводы.
Кремлевские бесы, нам больше невмочь.
Вы день превратили в ночь.
Кремлевские крысы, вам сдохнуть пора.
Вы изгрызли звезду и орла.
Кремлевские трупы, вам тлеть и лежать.
Нам петь, веселиться, рожать.
Певец напрягал голое плечо с татуировкой. Блестел зубами в пышных, как у моржа, усах. Крутился, приседая. Бил кулаком в гитару. Указывал пальцем на Кремль, где лежали отвратительные трупы, которых пора вынести и бросить в осеннюю реку, где пляшут стальные вензеля фонарей.
Градобоев наблюдал толпу, ее ликование, наивную радость, детскую доверчивость. Вспышки ненависти, переходящие в веселый гогот и свист. В сумраке мерцали непрерывные искры фотокамер. Улетали в осеннее небо воздушные шарики. Над Болотной кружил вертолет с телекамерой, передававший изображение митинга в административные центры. На границах площади темнели военные фургоны, грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа. И все это громадное скопище, это чудовищное существо было подвластно Градобоеву. Он сотворил его легким нажатием клавиш, летучим моментальным касанием портативного ноутбука, из которого летели бессловесные призывы, бестелесные приказы. Как порох, они воспламеняли людские души, изнывающие среди тоскливой бессмыслицы выборов, дурных правителей, лживых лукавцев. Градобоев разглядел в этих душах мучительные центры страдания, волокна боли, импульсы протеста и раздражения. Нашел среди истертых и замусоленных слов неповторимые, пламенные слова и обратился с ними к народу. Призвал к восстанию. Как загорается на обочинах сухая трава, опаляет кусты, перекидывается на деревья, превращаясь в ревущий пожар, так его пламенная проповедь собрала этот протестующий митинг, в котором, среди воздушных шариков, забавных плакатиков, шутейных прибауток и песенок, таился бунт.
– Иван, иди! Опять твой выход! – произнесла Елена, глядя обожающими глазами. – Ты гений, герой! Ты президент! Люблю тебя! – Она прижалась к нему, а потом легонько толкнула вперед, перекрестила.
Музыкант, задыхаясь, раздувая моржовые усы, проволок по эстраде гитару. Градобоев ринулся вперед, навстречу площади, которая, ахнув, приняла его в объятия. Сотрясая стебелек микрофона, он снова рыхлил толпу, кидал в нее раскаленные булыжники, и они шипели, погружались в гущу.
– Чегоданов считает вас трусливым стадом, которое можно запугать, разогнать бичами, приручить жалкой подачкой! Он сунет вам избирательные бюллетени, куда уже заранее внесено его имя! И вами вновь будут править воры, изуверы и негодяи! Но вы не стадо! Вы самые лучшие, умные, трудолюбивые люди России! У вас чистые руки и безупречная совесть! У вас воля к свободе и справедливости! И эта воля превратит в пепел фальшивые бюллетени, воровские счета в зарубежных банках, всю пиратскую власть Чегоданова! Сейчас он наблюдает за нами, сотрясаясь от страха и ненависти! Скажем ему: «Чегоданов, долой!»
Градобоев воздел кулак, рванул вниз, словно вырывал клок неба. И площадь, стеная, раскачиваясь, глухо и беспощадно вторила:
– Долой! Долой!
Над черными крышами, в меркнущем небе, озаренный, дышал Кремль. Градобоев чувствовал его близость, его пленительную доступность. Кремль манил розовыми зубчатыми стенами, драгоценной белизной соборов, ослепительным золотом. В нем таилась загадочная грозная сила, сокровенный магнетизм княжеских и царских надгробий, расписных палат и блистательных залов. Кремль был вместилищем таинственных гулов, которые катились из века в век в угрюмых руслах истории. Был средоточием власти, чудовищной, непомерной, управлявшей континентом среди трех океанов. Градобоев жадно взирал на Кремль, стремился в него, знал, что войдет в него и займет свое место среди великих вождей и правителей. Ненавидел Чегоданова, мелкого и ничтожного, обманом захватившего священную обитель. Предвкушал, как выбьет его из дворца, станет гнать по винтовой лестнице на самый верх колокольни Ивана Великого, сбросит на брусчатку Ивановской площади под восторженный рев толпы:
– Долой! Долой!
Толпа была в его власти, радостно ему подчинялась. Он сотворил ее, собрал по крупицам, вдохнул в нее свой жар, наделил пламенной душой. Толпа ждала от него приказа, завороженно внимала рокотам его голоса, обожала его, видела в нем вождя. И мгновенная искусительная мысль, сладкое безумие, перебой сердца, когда в горле заклокотал, забурлил звук, готовый вырваться яростным воплем, грозным приказом – идти на Кремль. И толпа всей своей многотысячной мощью двинется вслед за ним, опрокидывая железные грузовики, втаптывая в асфальт пятнистые тела полицейских. Через Каменный мост, в полукруглую арку, навстречу пулеметам, ребристым бэтээрам, опадая окровавленными клубками, заливая черной магмой озаренные дворцовые залы.
Звук пробурлил и умолк. Градобоев отшатнулся от черты, которую кто-то провел перед ним стеклорезом. Ушел, качаясь, в глубину эстрады, откуда наблюдали за ним испуганные глаза влюбленной женщины.
– Ты настоящий рыцарь! Настоящий Иван Великий!
Теперь на эстраде танцевала панк-группа «Бешеные мартышки», три шаловливые плясуньи в разноцветных колготках. Их лица были размалеваны краской, из-под мини-юбок выплескивались хвосты. Они скакали, делали сальто, гибкие, верткие и смешливые.
Мы безумные мартышки,
У нас бритые подмышки.
Мы проворны и ловки,
У нас бритые лобки.
Чегоданов, Чегоданов,
Подари нам сто бананов.
Получи от нас привет,
Посмотри на свой портрет.
Танцовщицы задирали мини-юбки, выгибали спины, открывали выпуклые ягодицы, на которых был запечатлен портрет Чегоданова. Толпа свистела, хло пала, поощряла проказниц. А те скакали, ходили колесом, маленькие, гибкие, неутомимые.
Градобоев испытывал торжество. Он был властелин, кудесник, бесстрашный оппозиционер, который сумел разбудить сонные души, оттеснить утомленных и блеклых вождей оппозиции, нанести удар в самое сердце неповоротливой и ленивой власти. Пресыщенная, безнаказанная, власть собиралась в очередной раз праздновать победу над изнуренным и понурым народом. Теперь эта власть ошеломленно и тупо взирала, словно бык, получивший удар кувалдой. Со своими армиями и полицией, банками и корпорациями, ядовитыми телеканалами власть была бессильна перед легким нажатием клавиши, которая включала таинственную музыку, рассылала незримые позывные, собиравшие на площадь тысячи протестантов. И вот они, молодые и талантливые, веселые и непреклонные, явились, чтобы услышать своего кумира, показать ненавистным кремлевским зубцам свои стиснутые кулаки.
Градобоев почувствовал, как могучая и слепая стихия, веселая и страшная, упоительная и роковая, подхватила его и вынесла к микрофону, на самый обрез эстрады. Площадь взорвалась ликованием, замерцала бессчетными вспышками, заволновалась флагами. Он был любим, был долгожданный пророк, неподкупный и бесстрашный воитель.
– Настал наш час – час непокорных! Час бесстрашных! Час патриотов! Нам не нужен президент-землеройка, который подгрыз все живые корни страны! Нам не нужен президент-червяк, источивший волшебное яблоко русской жизни! Нам не нужен Чегоданов, который, как моль, проел все ткани народной жизни! Нам нужен другой президент!
– Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! – ревела площадь.
Он чувствовал единение с тысячами обожавших его людей. Он чувствовал свою уникальность, неповторимость, свое предначертание, свою грозную и восхитительную миссию, которую возложила на него судьба. Он воздел кулак, обращая лицо к Кремлю:
– Чегоданов, ты слышишь меня? Выходи на бой! Я сорву с тебя твой черный пояс, и все увидят, что это корсет от грыжи!
– Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! – грохотала площадь.
– Люди, верьте мне! Я пойду до конца! Поведу вас к победе! Мы соберем наш митинг на Ивановской площади и назовем имя нашего президента!
– Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!
Он испытывал сладость и муку. Сердце стало огромным и любящим. В горле клокотали колокольные звоны. В глазницах копился свет. Он смотрел на темное московское небо, под которым сияли соборы Кремля, бежали огни по Каменному мосту, волновалась черная площадь. И в небе возникла серебристая точка. Малая лучистая звездочка. Приближалась, росла. Превращалась в бриллиант, который, как око, взирал на него из небес. Выбрал его единственного из миллионов людей, устремил на него свои божественные лучи.
Градобоев смотрел на бриллиант, зная, что это знамение, предсказывающее ему ослепительную судьбу.
– Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! – ликовала площадь.
Он покинул эстраду. Окруженный охранниками, протиснулся сквозь толпу репортеров. Уселся в «мерседес», в теплый душистый салон, где ждала его любимая женщина. Поцеловал ее жадные жаркие губы.
ГЛАВА 2
Премьер-министр Федор Федорович Чегоданов, экс-президент и новый кандидат в президенты, решивший после четырехлетнего перерыва снова вернуться в Кремль, находился в своем кабинете в Доме Правительства. Когда-то, в кровавом октябре девяносто третьего, когда танки стреляли по осажденному Дому Советов, сюда, в кабинет, залетел снаряд и расплющил баррикадника, превратив его в огромную кровавую кляксу. Это кровавое пятно на стене тщательно соскабливали, закрашивали, покрывали слоем белоснежных обоев. Но пятно упорно проступало, как тени испепеленных людей на фасадах Хиросимы.
Теперь, окруженный советниками, помощниками, членами избирательного штаба, Чегоданов наблюдал по монитору митинг на Болотной площади. Черная, казавшаяся необъятной, толпа колыхала знамена, плакаты, неистово и страстно скандировала:
– Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!
Изображение на монитор поступало с вертолета, и открывалась вся устрашающая грандиозность митинга, переполненная площадь, набитые людьми набережная, окрестные улицы, Каменный мост с мерцающими огнями машин. Другие изображения приходили с телекамер, расставленных в разных местах площади, и тогда были видны молодые веселые лица, плакаты с карикатурами на Чегоданова, хлесткие надписи: «Вор должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме», «Чегоданов – Магаданов», «Страна Чегодания». Телекамера нацеливалась на трибуну, где сильный, подвижный оратор мощно двигал спортивным телом, возносил кулак, выдыхал металлические рокочущие слова, от которых площадь плескалась, ходила ходуном, восторженно ревела.
Чегоданов сжал ручки кресла тонкими цепкими пальцами. Наклонил вперед заостренную, с редкими волосами голову. Стиснул губы трубочкой, как всегда в минуты душевного напряжения. Не мигая, выпуклыми голубыми глазами гипнотизировал монитор, стараясь поймать взгляд бушующего на эстраде оратора. Окружающие члены штаба сравнивали яростного тяжеловесного Градобоева с невысоким, изящным и легким Чегодановым. Упрямый, бычий напор оппозиционера с манерой Чегоданова тушеваться, уходить от прямых столкновений, уступать пространство сопернику, чтобы внезапно, со стороны, нанести ему разящий удар. Сравнивали молодой азарт и бесстрашие оппозиционера, его честолюбивый натиск, огненное красноречие трибуна с вкрадчивой осторожностью Чегоданова, его нелюбовью к публичным выступлениям, которым он предпочитал ироничные высказывания в узком кругу журналистов.
Клокочущий на трибуне оратор вызывал в Чегоданове острую неприязнь, мучительную ревность, чувство опасности, с которой Чегоданов прежде не сталкивался и которую рождала черная гигантская толпа, бог весть откуда взявшаяся. Казалось, ее выдавила из московских домов неведомая сила. Эта черная влажная мякоть была добыта из камня, переполняла площадь, как виноград переполняет давильню. Происходящее ничем не напоминало прежние тщедушные митинги оппозиции, которые рассеивались малыми силами полиции. Все негодующие протестанты помещались в десяток полицейских фургонов. Явление этой громадной толпы было внезапным, ее не предвидели, о ней не предупредили спецслужбы, и Чегоданов чувствовал себя обманутым. Чувствовал загадочную реальность, перед которой были бессильны прежние, испытанные технологии. Появился противник, обладавший неизвестным оружием, превосходившим все, имевшиеся в арсенале, средства.
Глава Администрации Любашин, невысокий, печальный, в черном застегнутом пиджаке, негромко поговорил по телефону правительственной связи. Отвлек Чегоданова:
– Федор Федорович, поступили замеры из городов-миллионников. Результаты неутешительны.
– Какие? – Чегоданов испытал больной перебой в сердце, готовясь услышать неприятное известие. Любашин, с черными сросшимися бровями и печальным смуглым лицом, напоминал агента из бюро ритуальных услуг. – Каковы результаты? – повторил Чегоданов, и все, присутствующие в кабинете, оторвались от экранов и прислушались.
– Ваш рейтинг, Федор Федорович, снизился с тридцати восьми процентов до тридцати шести. Рейтинг Градобоева подрос до шестнадцати процентов. Пока Градобоев, в любом случае, вам не соперник.
– Вы понимаете, что мы идем к катастрофе? – тихо, почти шепотом, произнес Чегоданов, с теми шелестящими интонациями, что напоминали едва уловимый свист бритвы. – Вы обещали мне шестьдесят процентов и победу в первом туре. Если Градобоев начнет ко мне приближаться, то все эти ручные животные, которые кормятся из моих рук, все эти дрессированные думские оппозиционеры сорвутся с цепей, объединятся и растерзают меня. Где ваши дутые политологи? Ваши фальшивые политтехнологи, которые все лето гоняли меня по заповедникам и заставляли целовать в животы разных мохнатых зверушек? Вы действительно считаете, что русский народ – это народ-зверовод? А оказалось, что русский народ – это народ-градобой. Сколько людей на площади?
– Пятьдесят тысяч, Федор Федорович.
На экране толпа опять вскипела черными пузырями, скандируя:
– Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!
Все удрученно молчали.
– Надо что-то делать! – нервно воскликнул глава предвыборного штаба режиссер Купатов. Он был вальяжен, лыс, с благородными усами, в клетчатом пиджаке и с шелковым шарфом на шее. Утонченный ценитель дорогих вин, красивых женщин, создатель нескольких ставших классическими кинофильмов, в которых героизм советских чекистов сменялся воспеванием златоглавой России, погубленной большевиками. Осуждение бандитской либеральной власти сочеталось с хвалебными одами в адрес кремлевских лидеров. В предвыборный штаб он был приглашен как респектабельная артистическая фигура, способная внести в политический театр яркие нетривиальные краски.
– Что вы предлагаете, Ярослав Аркадьевич? – тихо спросил Чегоданов.
– Ну, я не знаю. Ну, какое-нибудь встречное действо. Ну, может быть, митинг в Петербурге на Сенатской площади, у подножия Медного всадника. Ваше выступление. Чтобы возникла ассоциация с преобразователем России.
– Извините, Ярослав Аркадьевич, – тихо произнес Чегоданов. – Вы мыслите в системе советских театрализованных представлений. А сейчас не время массовиков-затейников, а эра Интернета. Побеждает тот, кто господствует в Интернете. Интернет взорвал Северную Африку, а теперь взрывает Россию. Этот разъяренный бык на Болотной – на самом деле изощренный технолог, господствующий в Интернете. Там создаются образы русского Ильи Муромца Градобоева и Соловья-разбойника Чегоданова.
Режиссер Купатов обиженно умолк. Отошел в угол кабинета и закурил трубку, выпуская душистый дым, мрачно сияя лысиной и оскорбленно шевеля усами.
– Разрешите, Федор Федорович, перейти к интернет-атакам. – Начальник Федеральной службы охраны Божок насмешливо посмотрел на режиссера Купатова, только и умевшего, что выпускать из себя синий дым. Начальник охраны был высок, почти вдвое выше Чегоданова. У него мясистое, словно из сырого теста, лицо, белесые брови и маленькие синие глазки, то злые, то озорные, в зависимости от того, как падал на них свет. – Без Интернета и социальных сетей Градобоев как конь без яиц. Выведем из строя сайты либеральных радиостанций и телеканалов, и пусть они аукаются в пустоте.
– Ты хочешь, Петр Степанович, чтобы все блогеры мира предали меня анафеме? Чтобы Европарламент начал слушания о свободе слова в России? Ты полагаешь, это повысит мой рейтинг накануне выборов? – Чегоданов язвительно посмотрел на телохранителя снизу вверх, словно соизмерял крупные габариты его тела с мелкой, только что озвученной мыслью.
Божок проглотил обиду и, как верующий человек, поискав и не найдя в кабинете икону, перекрестился на крестовину окна, за которым угасала сырая лимонная заря, высилась черно-малиновая гостиница «Украина» и через мост, над стальной рекой, летели без устали воспаленные огни.
– Федор Федорович, мне кажется, у нас нет оснований беспокоиться за результаты голосования, – степенно заметил председатель центральной избирательной комиссии Погребец, с крупным лбом, металлической бородой, чем-то похожий на старообрядца. – Важно не кто голосует, а кто считает. Обещаю, мы натянем нужный процент, несмотря на веб-камеры, орды наблюдателей и прозрачные урны.
Чегоданов внимательно посмотрел в серые спокойные глаза председателя, стараясь углядеть в них мимолетную искру вероломства. Но взгляд оставался чистым, спокойным и преданным, и Чегоданов с мягкой иронией заметил:
– Вы, Сергей Артамонович, являетесь главным стратегом битвы, которую нам предстоит выиграть. И достойны самого высокого полководческого ордена. Но слишком большой разрыв между истинными и мнимыми цифрами выявляется с помощью современных математических средств. Градобоев объявляет выборы фальшивыми, президента нелегитимным, а это и есть момент безвластия, к которому ведут все «оранжевые» революции, будь то Сербия, Грузия или Украина.
Погребец промолчал, спокойный, с величественной старообрядческой бородой, хранитель сверхмощного оружия власти, которое, он знал, рано или поздно будет пущено в ход.
– А не проще ли, Федор Федорович, – вмешался министр внутренних дел Закиров, генерал, чьи погоны с четырьмя звездами напоминали ванночки с уложенными в них морепродуктами, – не проще ли, не дожидаясь критического момента, ликвидировать подобные митинги? Вверенные мне подразделения разработали соответствующую тактику. Мы, при вашей поддержке, обзавелись современными спецсредствами. Наша агентура успешно работает во всех оппозиционных организациях. Можно спровоцировать беспорядки, что даст нам право применить силу. Все эти разговоры о «софт пауэр» хороши до поры до времени, пока не наступает потребность в «харт пауэр».
– Отдаю должное, Руслан Ахметович, вашей осведомленности в политологических категориях. Ваша стажировка в Соединенных Штатах пошла вам впрок. Но вы должны знать, что в «оранжевых» революциях столкновение с полицией или армией – желанный момент, после чего мировые телеагентства показывают бойню в районе Кремля, пробитые головы демонстрантов, десяток убитых мужчин и женщин, и тогда Чегоданов объявляется палачом, от него отворачивается мир, и миллионы восставших устремляются в Кремль его свергать.
За всем, происходящим в кабинете, чутко наблюдала молодая красивая женщина с черными, блестящими, как стекло, волосами. Ее глаза вздрагивали радостным блеском, когда Чегоданов осаживал очередного советчика. Ноздри трепетали негодованием, когда звучал очередной несостоятельный совет. Малиновые губы что-то шептали, когда говорил Чегоданов, и казалось, что она подсказывает ему нужные слова. Белые длиннопалые руки, усыпанные перстнями, ласкали одна другую, словно она возбуждала себя этими касаниями. Ее звали Клара, она входила в близкий круг Чегоданова, но не имела определенного статуса. Ее считали чародейкой, обольстившей Чегоданова своими чарами, влиявшими на принятие важных решений.
Все смотрели на экран, где тонконогие плясуньи скакали по эстраде, пели срамные куплеты, бесстыдно крутили ягодицами с портретом Чегоданова.
– Надо отложить выборы. – Начальник охраны Божок принялся нервно ходить по кабинету, раздражаясь бессовестным зрелищем, на которое был бессилен воздействовать. – Авария на АЭС, или прорыв волжской дамбы, или покушение на президента. Нельзя допускать выборы в условиях падения вашей популярности, Федор Федорович!
Чегоданов посмотрел на него исподлобья злым, волчьим взглядом, от которого телохранитель ссутулился, издал звук, похожий на тихий визг, и стал креститься на оконную раму с черно-фиолетовой громадой гостиницы.
– В конце концов, – министр внутренних дел Закиров пришел на помощь своему посрамленному коллеге, – если этого Градобоева не удастся остановить политическим путем, его может остановить дорожно-транспортное происшествие или финка какого-нибудь кавказца, которого мы станем судить открытым всенародным судом.
Все тот же волчий, угрюмый взгляд синих, вдруг потемневших глаз заставил министра сжаться, отчего звезды на его погонах зашевелились, как ожившие моллюски.
Толпа на экране рябила плакатами, флагами, тряпичными чучелами Чегоданова, рисунками, где, трусливо озираясь, Чегоданов тащил на плече куль наворованных денег. Все это видел Чегоданов, испытывая больное недоумение, мстительную неприязнь к людям, которые еще недавно обожали его, славили, складывали в его честь верноподданнические песенки, демонстрировали преданность и любовь. Он привык, что ему рукоплескали при появлении на публике. Что во время телемостов ему задавали комплиментарные вопросы. Что женщины писали ему любовные письма. Что ведущие издания мира нарекали его «Человеком года». Что на выборах он побеждал с заоблачным превосходством. И в сознании народа утвердился его образ спасителя Отечества, победителя в кровавой кавказской войне, укротителя еврейских олигархов. Что же случилось? Когда покачнулось вероломное общественное мнение? Когда народ отказал ему в любви? С какого момента, с какой нелепой пиар-акции он вдруг стал сначала смешным, потом раздражающим, а теперь ненавистным? Быть может, с момента, когда, покидая Кремль после второго президентского срока, он поставил вместо себя мнимого президента Стоцкого, управляя послушной марионеткой? Или когда во время кризиса, спасая банки-банкроты, насытил деньгами одних, забыв о других, и эти, забытые и обиженные, начали спонсировать оппозицию, создавать телеканалы, радиостанции и газеты, демонизирующие его, Чегоданова?
Сцена на Болотной, озаренная прожекторами, парила над сумеречной площадью. Казалась фантастическим ковчегом, спустившимся из осеннего неба в центре Москвы. Этот ковчег доставил на землю загадочного пришельца, чтобы тот отнял у Чегоданова власть. Мощно и яростно Градобоев возносил кулак, издавал громогласные рокоты, и толпа заколдованно и восторженно вторила пришельцу.
– Чегоданов вцепился во власть, как клещ, набряк русской кровушкой, но все не может отпасть! Мы поможем ему! Его власть превратится в дым, который вьется над трубкой смехотворного режиссера Купатова. Все его прихвостни, миллиардеры, чекисты, вороватые чиновники, телохранители, все эти Любашины, Погребцы и Божки сбегут от него, и он останется один, голый и жалкии, перед лицом разгневанного народа! – Градобоев умолк, и Чегоданов почувствовал, что с экрана на него устремлены насмешливые беспощадные глаза. – Чегоданов, я знаю, ты слышишь меня! Ты видишь меня! Посмотри мне прямо в глаза!
Лицо Градобоева увеличилось, заняв экран. Чегоданов видел его сильные, широкие скулы, бычий лоб и яростные немигающие глаза. Блестящие белки, черные зрачки, которые, как раскаленные спицы, пронзали Чегоданова… Он вдруг испытал ужас, темную неодолимую бесконечность, которая открылась в глазах ненавидящего человека. Потрясенный, отвернулся от монитора.
Послышалось легкое похохатывание, щелканье каблуков. В кабинете появился президент Валентин Лаврентьевич Стоцкий. Его голова с выпуклыми влажными глазами, сытыми щеками и вьющимися приглаженными волосами была слишком велика для маленького изящного тела и делала всю его фигуру неустойчивой, шаткой. На нем был щегольской костюм, изысканный галстук, носки туфель слегка загибались, и было что-то мальчишеское в его щегольстве и что-то карикатурное в непропорциональном сложении. Он появился внезапно и своим жизнерадостным видом нарушил общую тревогу и подавленность. Приблизился к Чегоданову, небрежно положил руку ему на плечо, насмешливо уставился на экран.
– Птичий базар! Кулики на болоте! А эта птица покрупнее кулика! – Он весело вслушивался в слова Градобоева, который грозил вынести Чегоданова из Кремля.
Чегоданов раздраженно повел плечом, стряхивая руку Стоцкого. Ему почудилось злорадство в словах президента, которому нравилось слушать, как хулят Чегоданова. Весь его легкомысленный вид, повадки плейбоя, сияющие выпуклые глаза казались оскорбительными Чегоданову в этот тревожный, грозный момент. Мир начинал колебаться, власть ускользала, и внезапно появился опасный враг, который собирал вокруг себя все больше сторонников.
– Им не откажешь в остроумии. – Стоцкий не замечал раздражения Чегоданова. Со смехом рассматривал плакатик, на котором Чегоданов, вооруженный гаечным ключом, завинчивал гайку на лбу несчастного интеллигента.
Все вскипело в Чегоданове. Все было неприятно, почти отвратительно в Стоцком. Мучительный клубок сомнений и подозрений зашевелился в душе. Мнительность и ожидание вероломства проснулись в нем. Обнажились весь риск и опасность интриги, связанной с выдвижением в президенты Стоцкого, когда у Чегоданова истек второй президентский срок и Конституция возбраняла избираться на третий. Тогда, убоявшись западных ненавистников, не желая прослыть узурпатором, он вверил власть своему приближенному, полагаясь на его верность и преданность, веря, что через четыре года тот вернет ему власть. С того момента, когда Чегоданов отступил на второй план и возглавил правительство, он не ведал покоя. Ждал президентского указа, которым Стоцкий вышвырнет его из политики. Следил за либералами, которых принимал под свое крыло Стоцкий. Читал донесения агентуры, в которых передавалось содержание тайных переговоров Стоцкого с лидерами Америки и Европы. Все это теперь вскипело в нем, и страхи, исходящие с Болотной, слились с мучительными страхами в ожидании предательства Стоцкого.
Но Стоцкий, в своем инфантильном самодовольстве, не замечал состояний друга.
– Да, кстати, хотел тебе сообщить. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с нашей германской подругой. Она просила пересмотреть некоторые контракты, связанные с нефтью и сталью.
– Как ты сказал? Вчера? – глухо переспросил Чегоданов.
– Ну да, вчера. – Стоцкий, улыбаясь, смотрел, как над площадью поднимается воздушный шарик с надписью: «Я – Чегоданов».









































