Текст книги "Истории без географии"
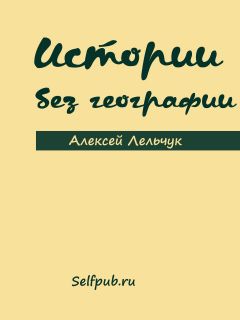
Автор книги: Алексей Лельчук
Жанр: Жанр неизвестен
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Перекресток «яблочко»
Ночь. Тишина. Темно и пусто. Вдали на шоссе вынырнули из-за поворота фары.
– Едет, ― послышалось сзади. Кто-то из солдат загремел каской о скамейку.
– Рано еще. Шхемский идет, ― с видом знатока проговорил шофер и посмотрел на часы.
– Шхемскому тоже рановато. Эй, воины! Встаньте на дороге! Этого тормознем! ―― крикнул сержант и высунул в приоткрытую дверь винтовку.
Двое молодых нехотя выбрались из джипа, напялили каски и встали с винтовками наперевес посередине шоссе. Через несколько минут, приблизившись к посту, фары переключились на ближний свет, и стало ясно, что это не автобус, а длинный арабский «мерседес». Замедлив скорость, он съехал на обочину метрах в десяти от джипа и остановился. Открылись две задние двери.
– Закрой двери! ― сразу заорал сержант. ― Приказываю закрыть двери! Воины, чё встали! Чёрт бы вас подрал! Бегом, проверка документов! Двери открывать запрещается, все разговоры через окна!
Он выскочил из джипа и побежал к машине, подгоняя солдат подзатыльниками. Все трое, щелкая затворами и поднимая винтовки «на грудь», окружили мигом захлопнувший двери «мерс». Из окон к ним протянулись руки с паспортами и какими-то бумагами. В джипе зашипела рация:
– «Василек», говорит «яблочко». Что у вас там, Ари? Прием.
– Ари побежал играть в войнушку. Документы проверяет. Это Миша. Прием.
– Миша, отвечай по коду. Тут тебе не литературная гостиная. Доложите об окончании знакомства. Как принял? Прием.
– Хорошо.
– Не «хорошо», а «принял верно», ― рявкнуло «яблочко» и заглохло.
Миша вылез из-за баранки и, обойдя тяжелую дверь, забрался с ногами на капот. Ари с видом «терминатора» возвращался к джипу, за ним плелись молодые. Из открывшихся шести дверей «мерседеса» вылезли человек десять.
– К автобусу приехали, ― кинул на ходу сержант и полез к рации докладывать «яблочку» об окончании проверки. Арабы расселись на бетонных блоках, огораживающих автобусную остановку.
Тем временем начало светать, и Миша стал наблюдать за небом. Он очень любил палестинские рассветы. В России такого не было, или он просто никогда не обращал на это внимания. Ах да, в России ему никогда не приходилось встречать рассвет. А тут ― через день. Расписание романтики.
Сначала темнота на востоке разделялась на две части. Под черным небом с яркими южными звездами вдруг вырастала еще более черная неровная масса, тянущаяся огромными волнами с севера на юг. Потом разом проступала четкая граница между верхней чернотой и нижней, а звезды как-то незаметно начинали тускнеть и пропадать. Потом становилось ясно, что это не звезды тухнут, а небо за ними становится светлее, ясно очерченное снизу неровной линией покатых Шомронских гор.
Из-за гор во все еще темное небо просачивался багровый цвет восходящего солнца, а сверху проступала из черноты темная синь зенита. В какой-то момент, когда то и другое уже достаточно светлело, Мише удавалось разглядеть над горами тонкий оттенок зеленого, который тут же пропадал, заливаемый снизу и сверху красным и голубым. Затем становились видны очертания окрестных склонов и дорога.
Миша спрыгнул с капота и пошел пообщаться с арабами. Коренные израильтяне сочли бы это дикостью, для них арабы ― враги, но Миша за несколько лет жизни в Израиле так и не смог развить в себе бдительность и чувство патриотизма настолько, чтобы они пересилили элементарное любопытство. Тем более, ему, с винтовкой М-16 на шее и тремя вооруженными до зубов солдатами и бронированным джипом за спиной, ничто не угрожало. Он как бы невзначай присел на один из бетонных надолбов у остановки и стал рассматривать ждавших автобуса.
Несколько парней в дешевых джинсах и ярких рубашках, наверно, едут на работу. Может быть, в Рамаллу, а может и в Иерусалим. С ними старший ― коренастый араб в заношенной одежде неясного цвета и вязаной советской шапочке с помпончиком. Чуть в стороне от них ― девушка, закутанная в темное широкое платье до пят и белый платок, так что видно осталось только бледное гладкое лицо. По обеим сторонам девушки две бабки ― уселись прямо на грязный бетон роскошными бархатными платьями до пят, с вышитыми на груди замысловатыми узорами.
Вышивкой арабки украшают любые выходные платья, даже те, что носят на базар, но бархат ― значит едут в важные гости. И родственницу молодую везут. На смотрины, что ли?
– Салям алейкум. Вы куда? ― небрежно обратился Миша в сторону бабок, как бы приглашая их к разговору, но как бы не обязывая их отвечать.
– В Рамаллу, милый, в Рамаллу, ― ответила одна из бабок на неожиданно хорошем иврите. ― А ты русский, небось?
– А вы откуда знаете? ― Миша даже опешил от такого быстрого развития разговора.
– Уж насмотрелась я на вас, ― вздохнула бабка вышитой грудью. ― Да и не стали бы эти с нами говорить. У ваших-то хоть душа есть, не то что у этих.
– Ну, положим, и наши бывают разные… ― неопределенно протянул Миша, не решаясь задать бабке следующий вопрос и ожидая, что она сама выберет тему разговора.
– И дались вам эти евреи! Что в них хорошего! Вот, красавица тоже, ― она махнула рукой на девушку, ― везем брату, как скажет, так пусть и будет.
Девушка метнула в бабку пронзительный взгляд. Та замолчала, но видно было, что ей не терпится излить душу. Вторая бабка достала из складки платья семечки.
– Ты вот зачем сюда приехал? Из Москвы? ― начала опять первая.
– Да я ведь тоже еврей, хоть и из Москвы. Моя страна, захотел и приехал.
– Была я в вашей Москве… Да какой из тебя еврей? Видала я настоящих евреев… Там тебе плохо жилось, что ли? А, скажи? Здесь-то чем лучше?
Миша задумался. Это вопрос он и сам себе задавал не раз, но ответа пока не нашел. Бабка замолчала.
Голубая и красная половины востока, перемешиваясь, блекли, светлели и разливались по всему небу светло-охристой пеленой, оставляя лишь на западе, над Тель-Авивом, темно-бурый осадок ночи. Линия гор на востоке становилась все чернее, все чётче, все ярче наливалось оранжевым цветом небо над ней, и вдруг, как огромный прорвавшийся волдырь, в нем появился и начал прямо на глазах расти сочно-красный край солнца.
Половина долины напротив них окрасилась в оранжевый цвет. Перекресток с автобусной остановкой и бетонными блоками, которые ставились посередине дороги во время беспорядков, а сейчас были сдвинуты на обочину; тяжелый, откинувшийся назад под весом брони, джип; боевая точка на склоне на другой стороне дороги, загороженная такими же блоками и обложенная мешками с песком; торчащие из нее крупнокалиберный пулемет «маг» и каска пулеметчика; кое-как накиданные бетонные плиты, ведущие к въезду в роту «яблочко», окруженную двухметровым бетонным забором с колючей проволокой наверху; сторожевую вышку в одном из углов забора, с израильским флагом над крышей и веселым мишкиным приятелем внутри.
А дальше ― мягкие плавные линии шомронских холмов, округлые, как грудь царицы Савской, и старые, как история про эту царицу; серые валуны, как упрямые кулаки, торчащие из желтой земли; темно-зеленые пучки несчастной зелени, выбивающейся из-под камней на выложенных столетия назад каменных террасах; ряды узловатых кудрявых олив, никак не желающих расти прямо, но переживших в своем упрямстве не одно царство; вьющиеся между холмов дороги на север и на запад, носившие и Авраама, и Магомета, и нынешних незадачливых их последователей; отара овец, будто по каплям стекающая с крутого холма; арабская деревня, белые дома которой, как ступеньки выложили низ долины, с карандашом мечети посередине.
– А как вы оказались в Москве? ― решился продолжить разговор Миша.
– Училась, ― нехотя начала бабка. ― Мужа моего учиться к вам направили, на инженера, ну и там всякое другое, знаешь… Лично Арафат его послал, делегация, великий человек, великие дела делал. Ну и я с ним поехала, тоже училась там всяким делам.
Внучка опять с ужасом посмотрела на бабку, и та опять запнулась.
– Сейчас что говорить? Все пропало уже, все пропало… Надежды всё, дорогой, сладкие надежды, а теперь вот ― сиди тут, да показывай этому остолопу бумаги, ― она махнула рукой в сторону джипа.
Теперь, видимо, кончилось терпение у девушки. Она вскочила с бетона, подскочила к бабке и быстро и рьяно стала что-то говорить ей по-арабски. Та отвечала ей с не меньшим темпераментом. В конце концов, девушка обиделась, отошла на край дороги и осталась гневно стоять там, завернувшись по самые глаза в белое покрывало.
– Ишь, строгая какая! ― сокрушенно обратилась к Мише бабка. ― Вижу, парень ты хороший, наш парень, поймешь. Дед погиб, отец погиб, ладно, решили мы их в свет вывести, в Иерусалиме все учатся. Сестры и братья у нее, как люди, а эта одно заладила себе ― люблю и все! И где ж она его встретила-то, окаянного? Из этих… тьфу!
Помолчав, бабка добавила:
– Брат у меня остался, в Рамалле живет. Пусть он и решает.
Вот тебе и Монтекки, вот тебе и Копулетти, только и оставалось подумать Мише.
В джипе опять на весь перекресток заголосила рация:
– «Василек», говорит «яблочко». Длинный зеленый через точка один. Длинный желтый через точка ноль. Как принял? Прием.
– Принял верно, ― ответил Ари и погнал солдат на проезжую часть.
– Из Шхема автобус через пять минут придет. Тель-Авивский опаздывает, ― перевел Миша военный код на нормальный язык, давая бабке понять, что оценил ее доверие. Из-за дальнего поворота показался старый автобус. Парни и дед с помпончиком потянулись к проезжей части.
– Ладно, милый, Аллах велик! ― в последний раз вздохнула бабка, поднялась с бетона и пошла к мужчинам. Вторая бабка и незадачливая Джульетта поплелись за ней.
2005
Демобилизация духа
Какой-то евпаторийский раввин, к которому многие ходили судиться, всегда говорил (грустно и нежно) и спорщикам, и свидетелям: «И ты не прав, и он не прав, и они не правы. Идите с Богом».
― Иван Бунин. «Дым без отечества»
Я тонул, ощущая, что выживу, потому что видел чёрное дно и пробивающуюся через воду молочность солнца.
― Некрас Рыжий. Чешежопица. Очерки тюремных нравов.
1.
Его звали Отамбеков. Младший сержант Отамбеков. Имя, наверно, я тоже вспомню, но пока хватит и фамилии. Перед дембелем Башка дал ему сержанта, так что Серёга Куликов нашивал Отамбекову на дембельский китель три лычки. Но всё время в части он был младшим сержантом.
Когда мы в первый раз его увидели, он сидел в тапочках на крыльце узла связи и ковырялся в ноге. Он ходил тогда в тапочках, не в ботинках. В тапочках разговаривал с немцами, в тапочках ходил в столовую, в тапочках стоял на разводе. Тапочки ― это статус. Формально его тапочки объяснялись тем, что у него болела нога. Но нужно иметь статус, чтобы больная нога дала тебе тапочки.
Отамбеков был единственным южным человеком в нашей штабной роте. Так что у нас был всего один чурка, да и то он был, по выражению Сашки-артиста, «цивилизованным чуркой». Отамбеков учился в университете в Душанбе. На узле связи ему доверили дизель. Родом он был из горного села на Памире. Он дал кому-то свой адрес, когда уезжал.
Отамбеков всё приставал ко мне, чтоб я научил его английскому. Я был бы рад. Может быть, у меня от этого тоже появился бы статус. Конечно, о тапочках тогда я не мог и мечтать, но учить английскому человека, который ходит в тапочках ― это тоже статус. Но дело не шло дальше вялых напоминаний: «Ляля, ну когда ты научишь меня английскому?»
Как же звали младшего сержанта Отамбекова? О-там-бе-ков… беков … бек… Бек! Отамбекова звали Бек! Точно. Сержанта Кузнецова звали Кузя, лейтенанта Дубова звали Дуб, а Отамбекова звали Бек. Когда мы из войскового приёмника в первый раз шли в столовую, и дерьмо-сержант потащил нас по жаре вокруг всей части, Бек в своих оранжевых тапочках сидел на крыльце узла связи и грел на солнце больную ногу, иногда ковыряясь в ней пальцем. Мы строем проходили мимо. Дерьмо-сержант махнул ему рукой, и Бек кивнул в ответ вяло и значительно. Мол, я ― цивилизованный чурка, сижу в тапочках на узле связи, а ты, знай себе, духов еби. Духи грянули: «Распрягайте, хлопцы, коней…» Дерьмо-сержант побежал заворачивать колонну правое плечо вперёд в столовую. Бек опять вернулся к своей ноге. За узлом каменистая степь дышала ковылём на ветру.
В войсковом приёмнике все сержанты были чурки. Из Станов ― Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. А все духи ― русские. Сержанты говорили на своих языках, которые, по-видимому, все одного корня, так что они друг друга прекрасно понимали. И нас понимали. А мы ни слова не понимали из их перекриков. Ощущение было такое, будто кучка восточных оккупантов командует покорённым народом. Или, если учитывать, что действие происходило тоже в Стане ― Казахстане, ― что беки командуют взятыми в плен северянами. Причем, сдали северян в плен их же собственные северные генералы.
Я не стесняюсь здесь называть представителей южных республик так, как мы их называли в армии, так, как все их называют ― чурками. Дело не в южности, а собственно в чуркости. Южане тоже называли русских чурками, во всяком случае, когда хотели это выразить по-русски. Разумеется, это название оскорбительно, но я не выкину его из рассказа, чтоб у читателя не создалось впечатление, что в жизни можно обойтись без оскорбительных названий. Злоупотреблять им я тоже не буду. Мне стыдно, что мне приходится писать это слово, но изменить я ничего не могу.
Разумеется, мое представление о Средней Азии основывается в первую очередь на историях о мудром Ходже Насреддине и на стихах не менее мудрого Омара Хайама. А представление о Кавказе ― на рассказах Искандера, Думбадзе, рисунках Пиросманишвили и стихах Шота Руставели. В Новосибирске я знал немало студентов из южных республик, и ни один из них не был чуркой. Но когда на тебя накидывается свора подлецов, ты имеешь право назвать их чурками. Мы находились с южанами в состоянии постоянной вражды, никаких омар-хайамов среди них я не заметил. Все наши южане были чурками, кроме, может быть, Бека.
Кроме «чурок» в терминологии нашей части были также «чурбаны». Чурки ― это выходцы из Средней Азии. Чурбаны ― с Кавказа. Отличие было очень существенное. Если чурки были мелки ростом и силами и набрасывались на врага стаями, то чурбаны все были богатыри, как на подбор, и дрались один на один. Кроме того, чурки вели себя, как трусливые собаки, и при появлении немцев или превосходящих русских или кавказских сил всегда сматывали удочки. А чурбаны бились до последнего. Я даже видел однажды, как армянин из первой роты чистил физию Башке ― майору Очеретину. Чурки или целые стаи чурок часто были в услужении у крупных чурбанов. Чурбаны занимали стратегически важные позиции ― баню, прачечную, пекарню, котельную. Впрочем, кажется, как раз в пекарне сидел крупный чурочий барон. Шофёрская рота вся была чурочьим царством, и немногие служившие там русские жили, как грешники в аду.
Но трагедия всей этой истории состоит в том, что русские вели себя и хуже чурок, и хуже чурбанов. Они били друг друга ― сильные слабых и старшие младших; они никогда не выручали друг друга в драках с чурками и чурбанами; они всегда боялись немцев и сдавали им и чурок, и чурбанов, и своих. Впрочем, в силу вялого северного характера, русские били своих духов реже, чем чурки своих. Половина русских были студенты из Новосибирска и Томска, и, таким образом, вполне подтверждали высказывание Ленина, что интеллигенция ― не мозг нации, а говно нации. Вторая половина русских были трактористы с Дона и, таким образом, наводили на мысль, что говно нации ― это не только интеллигенция.
Тогда-то я и задумался: если все подлецы, то как же отличить хорошего человека от плохого? Есть ли границы у зла и есть ли какой-нибудь закон в природе против подлости? И, в конце концов, пришел к выводу, что в природе нет никакого закона против подлости и что любой, самый хороший человек при определённых условиях может стать подлецом. А значит, следить за порядочностью нужно самому, ни на что и ни на кого не надеясь. Это убеждение помогло мне в жизни потом, после армии: я никогда не строил иллюзий и очень редко тратил время на обиды. Недостаток этого убеждения всего один: я никому не верю, а это очень трудно. И это тоже своего рода подлость.
Одним из как бы друзей, со временем превратившихся во врагов, был Жук, Колька Жуков. Он не был силен физически, но был высок, широк в плечах и смотрел на мир широким крестьянским лицом. Попал в армию он после первого курса нашего института. В духах и молодых он ходил как и все мы, шуршал на полах, стоял наряды через день, чистил сортиры. Но уже через полгода деды и фазаны стали его прикармливать: освобождать от нарядов, откладывать ему жареной картошки с кухни, делиться ворованными посылками. Почти перестали тыкать в зубы, разве что для профилактики, чтоб не зазнавался. Дедам всегда нужен полицай, чтоб присматривать за младшими. Самим им лень не только заниматься чёрной работой, но даже думать о том, кто будет ею заниматься за них. Думает об этом обычно прикормленный подлец из младших. Он тыкает в зубы своих подопечных, и при случае сам получает по зубам от своих патронов. Так что Жук стал покрикивать на нас, спихивать наряды, «делиться» с нами нашими посылками и так далее. Мне уже нáчало здорово от него доставаться. Спасла нас обоих только досрочная горбачёвская демобилизация.
Упоминавшийся выше Башка ― это начальник связи, майор Очеретин, наш командир, тиран и покровитель. Башкой он был прозван еще в незапамятные времена, вероятно, за невиданный размер головы, который визуально усугублялся красным цветом лица. Красный цвет лица физиологически усугублялся невиданным количеством алкоголя, которое майор Очеретин поглощал во внеслужебное время.
В соответствии со своим прозвищем, Башка был довольно умным. Наверно, он был самым умным и порядочным из высшего командного состава части. Я не считаю несколько десятков майоров и полковников, которые работали на пусковых установках ― говорят, там было полно практически интеллигентных людей. Мы завидовали второй и третьей батарее, которые часто дежурили на этих установках и млели там от свободы и либерализма. Ещё мы завидовали штабным, которые тоже млели от свободы, но уже не на основе либерализма, а на основе протекционизма и халявы. Тут можно порассуждать о двух возможных источниках свободы: мозги и волосатая рука ― и прийти к тем или иным философским выводам. Читатель может заняться этим сам.
Так что можно сказать, что на территории части Башка был самым умным командиром. От этого он часто уходил в запои и ещё чаще был просто не в духе. Он защищал нас от начальника штаба, дубоголового майора Демчука, не отдавал нас в наряды по части, распинал сидящего на коммутаторе негодяя Ситникова и так далее.
2.
Я служил в Советской Армии один год ― с 30 июня 1988 года по 17 августа 1989 года. Это был весь девятнадцатый год моей жизни. С тех пор прошло ещё двенадцать лет. Пожалуй, армейский опыт всегда был для меня тем самым чёрным дном, которое упомянуто в эпиграфе. После армии я знал, что вряд ли ещё раз окажусь в ситуации более мерзкой. Армию я пережил. Значит, переживу и остальное. Это придавало мне смелости для нетривиальных поступков. Это же обесценивало их результаты. Если подлость безгранична, если нет закона против зла, если добро не держится в мире само без постоянных усилий, ― зачем искать закон, и зачем добиваться добра?
Впрочем, наша часть была не такой уж ужасной по сравнению с другими, а наша рота была довольно спокойной по сравнению с другими. Одноклассники и сокурсники иногда рассказывали такие вещи о своей службе, что волосы становились дыбом. Да и художественная литература в начале перестройки прекрасно описала, что такое настоящая дедовщина. Так что, я не могу сообщить читателю ничего нового о теперь уже Российской Армии, чего бы он не мог почерпнуть из других источников. К тому же, бóльшую часть событий своей службы я забыл. Остались только впечатления, хронологическая последовательность которых практически безразлична.
3.
– Ты, Ляля, бля, думаешь, раз ты такой умный, йобны-врот, то все должны тут перед тобой расступаться, бля? Ебать мне, что ты меня старше, посмотри на Дюшу: он всех тут старше, старше немцев, и что? Летает! Правда, Дюша?
Так начал свою лекцию об относительности времени ефрейтор Алексей Басов, мелкий парнишка, такой же тощий, как я, но раза в полтора ниже, за время службы наработавший себе командирский голос ― не по росту, но вполне соответствующий фамилии. Бас сидел на корточках, прислонившись к тёмно-зелёной стене длинного тёмного коридора на узле связи, освещаемого единственным далёким окном в торце. Тощие басовы колени в трижды ушитых галифе торчали у него под самым носом, как у кузнечика.
Дюше было двадцать два года, он был старше всех в роте, кроме Саши Качура. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь называл его «Андрей», или как-то иначе, кроме как «Дюша». Он был одним из тех, кто «проваливается сквозь призыв»: в период «взросления» не выполняет некоторых требований, предъявляемых к будущему деду ― не буреет, как положено фазану, не давит молодых, совершает какие-нибудь явные глупости, за которые наказывают весь его призыв, сдруживается с кем-нибудь из младшего призыва, или просто не ладит со своими. Он остаётся молодым до самого дембеля: шуршит, летает вместе с младшими призывами. Младше него только духи, потому что дух ― вообще не человек. Кроме Дюши у нас в роте был ещё один провалившийся ― Серёга Куликов.
Саша Качур был перестроившимся комсомольским работником из Томска, залетевшим в армию за непокорность неперестроившемуся начальству. Ему было двадцать четыре, он выглядел солидно, хоть был мал ростом; рассказывал о жене и дочке. Деды его припахивали, но бить не били.
Немцами у нас в части называли офицеров ― наверно, за тёмную форму, и вообще за образ врага.
– Здесь время, нах, по-своему идет, ― продолжал Бас. Он неплохо владел русским языком, но для улучшения командирских свойств речи старался везде вставлять мат.
– На гражданке чтоб я чувствовал, что человек меня старше, он должен быть на пять, на десять лет меня старше. А в армии, наху-бля, год идет за десять. Поэл? Только призвался ― салабон, дух ― шурши. Пока молодой, знаешь, какая твоя главная задача? Чтоб мне, деду, ― тут Бас сделал паузу, чтоб получше прочувствовать, что он, Бас, ― уже дед, ― чтоб мне было хорошо! Учиться, бля, тебе надо! Полгода отслужил ― стольким вещам научился, можешь сам уже духов пиздить. Еще полгода ― фазан. Фазан ― птица бурая, считай, почти взрослый человек.
– Пи-и-издец, не рубишь ни ху-у-уя ты, Ляля! С кем ты разговариваешь! Ты понимаешь, салабон, насколько я больше тебя всего знаю, насколько я опытней тебя, насколько я старше тебя? Я сам, наху-бля, не могу даже представить себе, чтоб был таким, как ты.
Все понимали, почему Басу трудно представить себя в моём положении. Это были бы для него слишком болезненные воспоминания. По рассказам дембелей, на своём первом году службы Бас летал от параши к параше, как птичка.
– Дальше сам знаешь, Ляля, ― дед, дембель и домой, ― Бас по-ленински протянул руку на северо-запад, где за три с половиной тысячи километров стояла его родная Москва.
– Армия ― это жизнь внутри жизни, ― под конец Бас неожиданно перешёл на литературный язык. ― Два года прожил ― время другое, законы другие, люди другие, всё другое. Вышел ― как метлой по памяти ― всё забыл и живешь дальше, только, может быть, станешь чуть умнее.
Мне кажется иногда, что та жизнь, которую мы называем реальной ― это своего рода «армия» в большой жизни вечной души. Душа свободна, живёт и дышит, и растёт и умнеет по своим скоростям и причинам, но в какой-то момент её запихивают в физическое тело, которое стройно марширует по времени от рождения к смерти. И душа вместе с телом вынуждена маршировать, и есть баланду, и косить траву лопатой, и смотреть архивное кино, и так далее. И ей не дано практически никаких возможностей вспомнить и связаться со своей настоящей жизнью. Ближайший город ― триста километров на север, телефона нет, увольнительных нет, а право переписки дано лишь очень немногим ― художниками, поэтам, экстрасенсам, царям и, в порядке исключения, красивым женщинам.
Разве что иногда приходят странные открытки с той стороны ― сны. И все.
4.
Ехал в армию я очень долго. Сначала долго ждал: шесть дней сидел на пересылочном пункте около Новосибирска, и казалось ― ну, скорей бы закончилась эта неизвестность. Как и все остальные, я не знал до последнего момента, куда меня возьмут. Неизвестность мучила, изматывала, хотелось ясности, тлела надежда, что ясность будет светлой. Что возьмут в приличные войска. Ясность наступила.
Солдат грузят в плацкартные вагоны по девять человек в купе. Без белья и подушек, только матрацы. Что дают есть ― не помню. Помню, что катастрофически не хватало воды: было очень жарко. Помню, что гуляния на нижних этажах мне быстро надоели, я залез на багажную полку и почти четыре дня провёл на ней. Помню, что на моей гитаре народ посреди ночи давал «Наутилуса»: «Я так хочу быть с тобой…», что звучало очень актуально. «Наутилус» в 1988 году был свеж, оригинален и потрясающе злободневен.
Потом, уже в части, с «Наутилусом» была еще одна история, когда результатом очередного налёта начальника штаба майора Демчука на нашу казарму был приказ смотреть ежевечерне программу «Время». В первый же день сразу после «Времени» шёл концерт «Наутилуса». Деды позволили молодым вылезти из коек. «Наутилус» пел про гороховые зёрна: «Нас выращивают ― смену, для того, чтоб бить об стену…» Казалось, что это революция, что наутро всё будет по-другому. Наутро всё оказалось как всегда. Но революция произошла ― через несколько месяцев студентов отправили домой, на год раньше срока. По-моему, эта горбачевская «амнистия» была самым человечным эпизодом перестройки. Возможно, единственным человечным. Без политики, без философии, без расчётов. Просто вернуть детей матерям. Теперь «Наутилус» поёт как все.
А в том плацкартном вагоне все пели как «Наутилус».
Нам не сказали, куда мы едем. По солнцу и по названиям станций мы понимали, что едем на юг. Иногда стояли посреди степи. Через три дня доехали до Алма-Аты. Постояли на вокзале, увидели вдалеке горы. Потом поехали на север, еще дня полтора. Высадились на станции с казахским названием. Потом оказались в пыльном городе, в огромной четырехэтажной казарме с внутренними залами размером с баскетбольную площадку. Проторчали там дня два. Вымылись в душе.
Нашу партию стали разбирать по частям. Мы узнали, что попали на большой полигон в центре Казахстана, у озера Балхаш. Что город называется Приозёрск, секретный. Что можно остаться в городе в учебке, получить за полгода младшего сержанта и потом поехать в часть. А можно сразу попасть в часть. И что можно попасть в большую часть, а можно ― на маленькую точку. Гадали, что лучше. Играли в карты, играли на гитаре, знакомились, трепались, обменивались адресами и телефонами. Иногда в зал выходил офицер, зачитывал фамилии, люди брали свои вещи и уходили. Навсегда. Приходили новые партии из других городов.
Интересно наблюдать, как через пару дней общения в незнакомой толпе, как в кювете с проявителем, начинают проступать отдельные характеры, истории, личности. Становятся уже почти видны лица. Вдруг почти проявившееся лицо вытаскивают из кюветы и кладут на его место новый снимок, еще совершенно белый. И он тоже начинает медленно проявляться в разговорах, играх. А какие-то лица, которые залежались в кювете, уже проявились окончательно, всем видны.
Потом набрали автобус таких же, как я, и мы поехали. Ехали часа три. Сначала вокруг мелькали воинские части, развалины, аэродром, мастерские, опять развалины. Потом пошла голая пустыня с невысокими холмами. На некоторых холмах торчали антенны и пара домиков. Потом въехали в белёное КПП, сделали круг по части, вылезли из автобуса. В бане разделись, бросили свои вещи и больше никогда уже их не видели. Оказались в чёрном заплесневелом каземате. Получили три машинки для стрижки волос и указание побрить друг друга наголо. Я взялся за одну из машинок, получалось неплохо.
Помылись из чёрных кривых кранов холодной водой с хозяйственным мылом, получили х/б. Когда вышли бритые, в одинаковом х/б, на свет божий, выяснилось, что все незакреплённые черты лица новых почти товарищей почти совсем смылись ― опять все на одно лицо. Стали заново проявляться. Но уже в другом проявителе.
5.
Первый месяц мы провели в войсковом приёмнике. Сейчас я понимаю, что это был всего месяц, но за этот месяц прошла целая жизнь.
В роте сто двадцать человек. Четыре взвода по тридцать человек. Во взводе три отделения по десять человек. Все солдаты оказались русские. Все сержанты ― как я уже написал.
Подъём за сорок пять секунд. Можно успеть, если не надевать носков, не завязывать шнурки на ботинках, ремешок просунуть в петлю, застегнуть штаны на одну пуговицу, а х/б ― на две. Но не у всех это получается сразу. «Отбой!» ― сорок пять секунд, чтоб всё снять и влететь в койку. «Подъём!» ― «Отбой!» ― «Подъём!» На десятый раз этому научиваются все, кроме нескольких тормозов, которые сразу идут в наряд. Пять минут на умывание и уборку постелей. Можно успеть, если бежать в умывальник по очереди с двумя нижними койками, а застилать постель и шнуровать ботинки по очереди с соседом. Два торса не вмещаются в проход между койками, так что, пока один убирает свою постель, второй шнурует. Потом ― наоборот. Еще несколько человек не успели ― эти будут мести плац вместо политзанятий.
По лестнице вниз ― бегом. В колонну пóчтыре (по четыре) становись. Дерьмо-сержант щеголял изъятыми у кого-то из духов электронными часами с секундомером. Если мы не успевали за минуту, звучала команда «Рота, на центряке в шеренгу по три становись». Центряк ― это центральный проход в казарме, на втором этаже. Полетав по лестнице вверх-вниз, мы трогались к столовой. Три раза вокруг казармы с песней. Раз, раз, раз, два, три. Потом команда «делай раз». На «делай раз» вытянутая левая нога поднимается на уровень колена и ждёт команды «делай два». Ждать может долго. Минуту, две, пять. Дерьмо-сержант гарцует вокруг строя. Ноги тяжелеют и гнутся к песку. Дерьмо-сержант высматривает опустившиеся ноги вдоль рядов, подбегает, пинает, орёт. Жара. Ноги опять опускаются. Сержант опять подскакивает и пинает. Мимо марширует другая рота. Её сержант орёт что-то нашему. Потом проходит ещё одна рота, с русским сержантом, который орёт так, что мы можем понять:
– Эй, дерьмо, кончай их ебать, голодные останутся. Дёма тебе по уши вставит.









































