Текст книги "Дети Арбата"
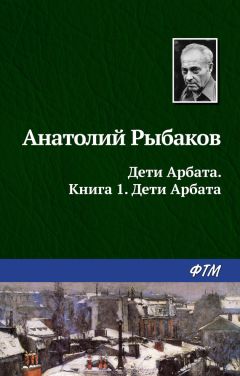
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
18
Нина вернулась из школы в пять часов. Возле дверей на ступеньках лестницы сидела Варя с Зоей, своей подругой.
– Дверь прихлопнула, а ключи забыла.
Ключи забыла… Все врет. Запрещено приводить Зою в дом, вот и уселась на лестнице – лестница не твоя, как ты можешь запретить?
– Даю полминуты на размышление, две минуты на исполнение, – сказала Варя Зое.
И этот цыплячий язык.
– Была у Софьи Александровны?
– Была.
– Все купила?
– Все.
– Карточки?
– Отоварила.
– Сколько у тебя осталось денег?
Варя протянула сдачу.
– Я взяла пятьдесят копеек на каток.
– А уроки?
– Сделаю.
Каждый должен выполнять свои обязанности. Сама Нина работает как вол, пообедает и в вечернюю школу, не может отказаться от полставки. А у Вари каток, театр, кино, подруги, значит, не так много времени отнимает хозяйство.
– На ужин разогреешь кашу, я оставлю на сковородке, масло в буфете, – сказала Варя.
– Позже одиннадцати не возвращайся, – предупредила Нина, застегивая пальто.
Дверь за ней захлопнулась, Варя позвонила Зое:
– Приходи, Нинка укатилась.
Она убрала со стола, приготовила ужин, помыла посуду – порядок. Нинка никогда ничего не положит на место.
Раздался телефонный звонок. С полотенцем в руках Варя взяла трубку.
– Наташа, ты?
Это мальчик, с которым она познакомилась по телефону, но ни разу его не видела, и он ее не видел. Его звали Володей, а себя она назвать отказалась.
– Может быть, Наташа?
– Пусть будет Наташа.
Так он и стал ее называть. Но каждый раз спрашивал:
– Наташа, как тебя все же зовут?
Ей нравился его голос, она была с ним откровенна – никогда его не увидит и может рассказать все. Он тоже уверял, что ни с кем так не откровенен, как с ней.
– У Наташи должны быть светлые волосы.
– У меня как раз светлые.
– А глаза?
– Оранжевые с голубым небом.
– Бывают ли такие? Как ты провела вчерашний вечер?
– Великолепно. Были в одном техникуме на танцах, играли все такое, под что хорошо танцевать румбу.
– Завидую. А я делал уроки.
– Учись, мой друг, учись, старайся, ученье – сладкий плод, ученье – верная дорога, она из тьмы на свет ведет…
– Когда мы встретимся?
– Никогда.
– А вдруг мы полюбим друг друга?
– Нет, у нас с тобой слишком одинаковые взгляды.
– Что ты сегодня собираешься делать?
– Иду на каток.
– На какой?
– При заводе.
– Каком заводе?
– Мыльно-гвоздильном.
– Возьми меня, я хорошо катаюсь.
– А я плохо, тебе будет неинтересно. И прощай, ко мне пришли.
Зоя явилась в белой шапочке и длинных шароварах под юбкой, угреватая – цветок помойки, как называла ее Нина. Зоина мать, билетерша кинотеатра «Карнавал», пропускала ее и Варю без билетов в кино.
– Зачем ты надела белую? – спросила Варя, разглядывая Зоину шапочку. – Ведь договорились.
– На красной резинка лопнула. Надень ты красную, она тебе идет.
– К белому свитеру надеть красную шапочку?! Ты наденешь мою красную, а я белую.
– Почему всегда должно быть по-твоему?
– Не по-моему, а как договорились.
Зоя обиженно пожала плечами:
– Ну, если ты очень хочешь…
– Не делай мне одолжения! Я вообще не пойду на каток.
Варя сбросила туфли и с ногами взобралась на кровать.
– Глупо, – пробормотала Зоя, – хорошо, я надену красную.
– Не пойду на каток.
Некоторое время они сидели молча, Зоя, растерянная, жалела, что из-за пустяка они повздорили.
– Пойдем, – жалобно уговаривала она.
– Я никуда не могу идти, когда он там.
– Ведь ты собиралась.
– Собиралась, а теперь передумала.
Арест Саши сразу выделил Варю среди подруг. Теперь она одна из тех, дружки которых вдруг пропадают, потом снова возникают, подруги их ждут, а если ждут нечестно, с ними жестоко расправляются. Все знали, что она танцевала с Сашей в «Арбатском подвальчике», их там видели и драку видели. Теперь Варя дружит с Сашиной мамой, возит передачи в тюрьму…
Варя уезжала рано утром, занимала очередь, выстаивала на морозе, потом приезжала Софья Александровна, и они вместе двигались к окошку. Софья Александровна не умела спорить, боялась рассердить того, кто сидел за окошком, стеснялась задерживать очередь – усталых людей, с пяти часов утра стоявших на улице вдоль высокой, длинной и холодной тюремной стены. Варя никого не боялась, не стеснялась. Они искали Сашу по всем тюрьмам. В окошке им давали анкету: фамилия, имя, отчество арестованного, адрес. Софья Александровна заполняла анкету, они снова стояли в очереди, сдавали анкету, ждали ответа два, а то и три часа… «Не здесь…» И тогда Варя дерзко спрашивала: «А где?» – «Неизвестно». – «А кому должно быть известно? Вы его забрали, вам и должно быть известно».
Она прислушивалась к советам, которые давал всезнающий арбатский двор. Одна девчонка с Новинского бульвара, ее парень сидел в Таганке, показала, как вложить в белье записку, сказала, что надо посылать побольше сахара и яблок, они там из сахара и яблок гонят вино. Софья Александровна слушала ее, качала головой.
– Нет, Варенька, не нужно Саше вина…
За одну ночь из красивой пожилой женщины Софья Александровна превратилась в седую старуху. Первое время ей казалось, если она предстанет перед теми, кто арестовал Сашу, их сердца дрогнут, ведь у них тоже есть матери. Потом увидела много таких матерей – их вид не трогал ничьих сердец. Они стояли в длинных очередях, и каждая боялась, что та доля сострадания, которая еще, быть может, теплится за глухими дверьми, достанется не ей, а той, кто пройдет в эту дверь раньше.
Увидела часовых с винтовками, неприступные каменные стены, за ними Саша, ее мальчик лишен того, на что имеет право каждое живое существо: свободно дышать воздухом земли. Какую участь ему готовят? Ночью она не спала – на чем спит он? Не могла есть – что ест он, сгорбившись над тюремной миской, он, живое и дорогое ей существо, ее жизнь, ее кровь? Подушки пахли так, как пахла его головка в детстве, ботинки – сухой землей, по которой мальчишкой он бегал босиком, стол – чернильным запахом его школьных тетрадей.
Она ходила по улице, надеясь увидеть тех, кто перед арестом следил за ним. Они знают, что ему грозит, в чем он нуждается. Если она встретит того маленького, в бобриковом пальто, подойдет и спросит про Сашу. Скажет, что не имеет на них зла, у них такая работа. Но когда они уже сделали свое дело, они могут быть милосердными, ведь им теперь все равно. Она ходила по Арбату, и по той стороне, и по этой, заходила в магазины, делала вид, что стоит в очереди. Но ей не попадался ни маленький в бобриковом пальто, ни тот, в шапке, ни третий, высокий и злой.
Окоченевшая, угнетенная сознанием своего бессилия, она возвращалась домой, в пустую комнату, и там, одинокая и страдающая, возносила молитвы Богу, которого давно покинула, а сейчас молила, чтобы дух добра и милосердия, вездесущий и всепроникающий, смягчил сердца тех, кто будет решать Сашину судьбу.
По утрам стук почтового ящика поднимал ее с постели. Она ждала ответа из прокуратуры или письма какого-нибудь тайного, но влиятельного доброжелателя, ждала письма от самого Саши, переданного им с человеком, сидевшим вместе, но уже высланным, из ссылки письма доходят. Такие случаи бывают, ей рассказывали. Читая газеты, она всматривалась в портреты Сталина: скромная одежда, добрые морщинки возле глаз, мудрое, спокойное лицо человека с чистой совестью. Недавно праздновали его пятидесятилетие, ему сейчас пятьдесят четыре, нет, пятьдесят три года, как и Павлу Николаевичу, ее мужу. Его старшему сыну, наверно, столько, сколько и Саше, и есть еще один сын, и дочь, он понимает, что такое дети, знает, что такое семейное горе – совсем недавно потерял жену. Только бы Сашино дело дошло до него. Все надежды она возлагала на Марка.
Марк расскажет Сталину о Саше. Сталин потребует его дело, может быть, даже вызовет к себе. И Саша ему понравится. Саша не может не понравиться.
Приехал Павел Николаевич. Он был огорчен, естественно, но катастрофы не видел. Сашу не расстреляют, к пожизненному заключению не приговорят – у нас нет пожизненного заключения. Он молод, все у него впереди. Да, надо действовать. Но помочь могут только высшие инстанции. Он не имеет к ним доступа. Доступ к ним имеет Марк. Как она не может, не хочет понять этого! Павел Николаевич ехал с твердым намерением быть терпеливым, даже добрым. Но как только он вошел в этот постылый дом, увидел старуху, некогда бывшую его женой, услышал требовательные интонации в ее голосе, как только увидел упрямое, кроличье выражение на лице, а оно появилось у нее от попытки преодолеть страх, когда он увидел все это, он опять преисполнился раздражением, нетерпимостью и злобой. Это она во всем виновата, она и ее братец воспитали Сашу.
И вот они сидят друг перед другом: она – седая, с трясущимися губами и трясущейся головой, он – гладко выбритый, холеный, с серыми раздраженными выпученными глазами. Сидят за столом, за которым сидели много лет, покрытым все той же клеенкой, под тем же круглым матерчатым абажуром. Софья Александровна нервно проводит по клеенке ладонью, разглаживает ее, хотя разглаживать нечего, и этот жест раздражает Павла Николаевича.
– Ты хочешь, чтобы я ходил по учреждениям? Это бесполезно, я тебе объяснил. Апеллировать можно, когда будет решение. Решения еще нет, идет следствие.
Не хочет ли она воспользоваться этим и вернуть его?
– Чего ты добиваешься? Чтобы я ушел с завода? Меня не отпустят. И я не собираюсь возвращаться в Москву, запомни! Что?
Ему послышалось, будто она сказала что-то, нарочно тихо, чтобы он не слышал. Но она ничего не говорила, только беззвучно шевелила губами.
– Ничего… Я слушаю.
– Ну да, ты слушаешь… Ты слушаешь и думаешь: отец, мерзавец, не хочет хлопотать о сыне. Ты всегда обо мне так подло думала и эту подлость внушила сыну.
Она и раньше невыносимо страдала, слушая его брань, его упреки, сейчас это страдание вернулось к ней, она с ужасом чувствовала, что по-прежнему не может преодолеть страха перед ним, особенно унизительного сейчас, когда речь идет о спасении сына, их сына. В его словах она услышала неприязнь к Саше, он хочет отгородить себя от его страданий. Как смеет он сейчас предъявлять свои обиды, свои претензии? И как может она бояться его, когда дело идет о жизни Саши?! Она никого не должна бояться, не имеет права бояться, она мать!
– Если бы при тебе его уводили…
Она сказала это с горечью. Но с ним приходилось говорить громко, надо было почти кричать, чтобы он услышал.
– Конечно-конечно, опять виноват я, только я… Ты мученица, страдалица, а я негодяй, развратник, гуляю, пьянствую…
Боже мой! Даже такая беда не меняет его, так же багровеет, надувает губы, передразнивает ее. Она ждала его приезда, надеялась на помощь – отец, мужчина! О чем он может думать, кроме Саши?! Он не имеет права думать ни о чем другом. И она заставит его думать. Софья Александровна подошла к письменному столу, вынула заявление прокурору.
– Посмотри!
На его лице появилось недовольное, брезгливое выражение. Опять эта вздорная женщина вынуждает его заниматься бесполезным делом. Кому нужно ее заявление, кто станет его читать?
Но он не мог не прочитать. Ссору с ней в такую минуту осудят все. А для всех Павел Николаевич хотел оставаться порядочным человеком и отцом. Он не даст ей повода сказать: «Даже заявления не хотел прочитать».
Что она здесь понаписала! «Вам пишет мать… Верните мне моего сына…» Наивно, сентиментально, неубедительно. «Я обращаюсь к нашему справедливому и милосердному правительству» – слова, слова… «Я знаю, мой сын ни в чем не виноват» – кто этому поверит?.. «Если он и совершил ошибку, то без всякого умысла, ведь он ребенок…» Двадцать два года – не ребенок! И какие ошибки? Зачем косвенно подтверждать его вину?!
Софья Александровна сидела на Сашином диване, опустив голову, слушала эти замечания, не обращая внимания на их язвительность, которая должна была доказать ее глупость: заявления и то написать не может. Пусть! Пусть исправит, лишь бы помогло Саше. Она положила перед ним бумагу, поставила чернильницу.
– Напиши, как нужно.
Он растерянно поглядел на нее, понял, что вел себя глупо. Заявление бесполезно, не все ли равно, как оно написано. Теперь придется писать самому, а что вообще можно написать, не зная, какое обвинение предъявлено?
– Видишь ли, – сказал Павел Николаевич, – можно послать и так. Разве убрать фразу насчет ошибок и эту: «Верните моего сына». А в остальном… Да, можно послать и так.
– Хорошо, – сказала она, забирая заявление, – я исправлю.
Ничего другого она и не ждала. И все равно без Марка заявления не пошлет.
– Когда ты уезжаешь?
Он опять взорвался:
– Ты, кажется, знаешь, что завтра я должен быть на работе?
– Оставь, пожалуйста, денег, – твердо сказала она, – для передачи я покупаю все в коммерческом магазине.
Он чуть было не разразился бранью. Он рядовой инженер, получает зарплату, но денег не жалеет. Его только возмущает этот тон, эта требовательность, он всегда был ей нужен только для денег. Он вынул сто пятьдесят рублей.
– Больше дать не смогу.
19
И опять ночь. Опять Сашу разбудил металлический скрежет запора. Появился вчерашний конвойный, и они снова долго шли по бесчисленным коротким коридорам. Так же на ремне у конвойного побрякивала связка ключей, так же стучал он ключом о ручку двери или о металлические перила лестницы, предупреждая, что ведет заключенного. Но теперь Саша считал подъемы и спуски и убедился, что они пришли на первый этаж. За открытой в конце коридора дверью слышались голоса, даже смех, пахнуло другой, не тюремной, жизнью.
Дьяков не осветил его на этот раз лампой, видимо, употреблял этот прием только при первом знакомстве. Он был сегодня не в военной форме, а в коричневом пиджаке, надетом на синий свитер. Рукой указал Саше на стул, а сам продолжал писать. Писал, перечитывал, снова писал, не обращая внимания на Сашу, наклонив голову к столу. Его и Сашу разделял только массивный чернильный прибор и такое же массивное пресс-папье. Саша подумал, что совсем не трудно схватить пресс-папье и расшибить им Дьякову голову. На этом стуле сидят разные заключенные, среди них может найтись такой, кто захочет это сделать. Все здесь предусмотрено, каждый шаг, каждое движение, а это не учтено. Или они никого не считают способным на такой поступок? А может, есть какой-нибудь тайный механизм, срабатывающий, когда дотронешься до чернильницы? Конечно, отсюда не убежишь, но человек может это сделать в порыве отчаяния. И все же Дьяков этого не боится. А может быть, настоящих заключенных допрашивают не здесь?
Дьяков собрал исписанные листки и вышел из комнаты, оставив дверь открытой. На нем были валенки с заправленными в них коричневыми брюками. И от того, что Дьяков был так тепло одет, Саша в своих ботиночках сразу ощутил холод цементного пола.
Все по-другому, совсем не так, как в прошлый раз. Казалось, Дьяков занят более важным и срочным делом и Сашу привели сюда только потому, что вызвали раньше, когда Дьяков еще не знал, что будет занят другим. В штатском и в валенках он выглядит простым и неофициальным, выходит и оставляет Сашу одного перед столом, на котором лежат разные бумаги, не боится, что Саша в них заглянет, как не боится и того, что Саша ударит его тяжелым пресс-папье.
В коридоре послышалось хлопанье двери, голоса, Дьяков с кем-то разговаривал, потом вернулся, неуклюже ступая в своих чесанках, прикрыл дверь, сел за стол, порылся в ящике, вытащил тоненькую папку – в ней лежали листки прошлого допроса, – потом поискал еще что-то и так, продолжая рыться в ящике и не глядя на Сашу, спросил:
– Так, Панкратов, что вы сегодня скажете?
Он задал этот вопрос как-то между прочим, спокойно, даже дружелюбно, будто не помнил, о чем они говорили в прошлый раз.
– Видите ли… – начал Саша.
– Ага! – Дьяков наконец нашел нужную бумагу и опять вышел с ней.
Потом вернулся, стоя сложил бумаги в ящик стола, сел, раскрыл Сашино дело.
– Так, Панкратов… Подумали вы над тем, что я вам советовал?
– Да, подумал. Но я не знаю, о чем идет речь.
– Плохо! – Дьяков качнул головой. В его голосе слышался упрек, сожаление, даже сочувствие: мол, не жалеешь ты себя, браток!
Он задумался, кивнул на папку с Сашиным делом.
– Хотите резину тянуть?
– Я не знаю, о каких контрреволюционных разговорах вы говорили в прошлый раз.
Дьяков нахмурился.
– Вы неискренни, Панкратов. Вы хотите, чтобы мы занимались не главным, а вашими институтскими делами. Но даже в этом вы оказались нечестным. Многое утаили. И это вас тоже характеризует.
– Что я утаил? – удивился Саша.
В эту минуту в комнату вошел пожилой человек с эскимосским лицом, одетый в темно-синий костюм, хорошо и ладно сидевший на его плотной, даже грузной фигуре.
Дьяков поднялся. Кивком головы человек предложил Дьякову сесть и сам опустился на стул рядом с ним.
– Продолжайте!
И пристально посмотрел на Сашу. Саша понял, что это начальник Дьякова, но в его взгляде Саша почувствовал нечто большее, чем обычный казенный интерес к очередному подследственному. Мелькнула надежда, что этот человек изменит его судьбу.
– Итак, Панкратов, – сказал Дьяков, – на чем мы остановились?
– Вы говорите, будто я что-то утаил. Что я утаил?
– Для этого достаточно посмотреть протоколы партийного собрания. Вы даже прибегали к протекции высокопоставленных лиц…
Дьяков выжидательно, испытующе смотрел на Сашу.
Так. Все ясно. Дело в Марке, в Будягине или в обоих вместе. Намек понятен. Он нарочно сказал: не «высокопоставленные товарищи», а «высокопоставленные лица». И фамилий не назвал. Нет, пусть назовет фамилии. От Саши он этих фамилий не услышит.
– Кого вы имеете в виду?
– Панкратов!..
Губы Дьякова скривились в брезгливой и осуждающей усмешке.
– …Стыдно, Панкратов! Не играйте с нами в кошки-мышки. Мы осведомленнее, чем вы думаете. Вы хотите вынудить говорить нас, а мы хотим, чтобы говорили вы, это в ваших интересах. За вас хлопотали Рязанов и Будягин, вы сами признали это на партийном собрании, а здесь вола крутите.
И опять не «товарищи Рязанов и Будягин», а просто – Рязанов и Будягин.
– Я не прибегал ни к чьей протекции, – возразил Саша, – я рассказал обо всем моему дяде Рязанову, но не просил его вмешиваться. Он сам, без моего ведома попросил Будягина позвонить директору института Глинской.
– Допустим, – согласился Дьяков. – Но почему вы не рассказали об этом в прошлый раз? Почему не назвали именно эти фамилии? Вы назвали кучу людей, – он вытащил из дела Саши узенький листок, Саша его раньше не видел, – Баулин, Лозгачев, Азизян, Ковалев, а вот Рязанова и Будягина не назвали. Почему?
Саша лихорадочно соображал. Теперь каждое его слово может оказаться роковым и для Марка, и для Ивана Григорьевича. В них все дело – это ясно. В чем их обвиняют?
– Не придавал значения. Это чисто родственные связи. Я даже не понимаю, почему это так привлекает ваше внимание.
Он сказал твердо, как говорят о предмете, который не хотят и не будут обсуждать. Дьяков указывает путь, по которому он должен пойти, но по этому пути он не пойдет.
Дьяков посмотрел на него, как показалось Саше, внимательно, заинтересованно, даже опасливо.
– Разбор дела у Сольца тоже устроил ваш дядя?
– Никто не устраивал. Я сам пришел к Сольцу.
Дьяков усмехнулся:
– Люди месяцами ждут приема, а вы пришли, и готово: тут же принял, тут же разобрал. Кто вам поверит, Панкратов?
– И все же это так, – сказал Саша, – так получилось. Я зашел в кабинет, он меня увидел, спросил, в чем дело…
– Счастливый случай помог?
– Возможно… Неужели я не имел права обратиться в ЦКК? Неужели мой дядя не имел права за меня хлопотать? В чем тут моя вина? И за это вы меня здесь держите? Ни за что ни про что!
На лице Дьякова мелькнула гримаса. Но он ничего не сказал, только скосил глаза на своего начальника, точно приглашая его убедиться, с кем он, Дьяков, имеет дело, а может, ожидая, что тот сам что-либо скажет. Но человек с эскимосским лицом ничего не сказал, грузно поднялся и вышел.
Дьяков нахмурился и уже другим тоном объявил:
– Ваша вина в том, что вы неискренни, нечестны перед партией. Вы утаили и многое другое. Вы называли всех своих обвинителей, но ни разу не упомянули своих защитников. А ведь по вашему делу проходили многие люди… Ну, хотя бы тот же Криворучко…
Саша почувствовал опасность. Все может прорваться в самом неожиданном месте. С Марком и Будягиным ясно, ничего их компрометирующего он сказать не может и не скажет. Но Криворучко… «Сей повар будет готовить острые блюда…» Криворучко сказал это про Сталина. Упомянув его слова, Саша не только запутается сам, но и предаст Криворучко. Умолчав же, станет на путь неискренности и неправды.
– Я был у него два раза. Первый раз он ставил мне печать на документах об исключении, второй раз оформлял мое восстановление.
Дьяков засмеялся:
– То исключаемся, то восстанавливаемся, то в тюрьму попадаем… И он вам ничего не говорил?
– Он мне показался угнетенным, ведь его исключили из партии.
– И вас исключили. Неужели он не нашел, что сказать вам?
Дьяков по-прежнему не сводил с него взгляда. Знает он что-нибудь, догадывается или нащупывает, быть может, почувствовал его растерянность?
– Неужели никак не выразил своего отношения к тому, что вас исключили, а потом восстановили? – настаивал Дьяков. – Неужели даже ничего не спросил? Тем более что на партбюро вы его защищали.
– Я просто рассказал, как было дело…
– Вот видите… И он просто хлопнул печатью.
Нет, нельзя поддаваться! Он его прощупывает, ловит, отвлекает внимание от главного, от Марка и Будягина, запутывает…
– Никакого особенного разговора не могло быть. Он замдиректора, я рядовой студент.
Дьяков пронзительно смотрел на него.
– А мы имеем сведения, что с другими студентами Криворучко вел антипартийные разговоры. А вот вам, человеку, обиженному да еще защищавшему его, ничего не сказал. Странно!..
Криворучко знаком с Марком, передавал привет. Нет, нельзя говорить.
– Это так, – сказал Саша.
Дьяков продолжал неотрывно смотреть на Сашу, и вдруг злорадная улыбка разлилась по его лицу. Так злорадно улыбаясь, он притянул к себе чистый бланк допроса.
– Ладно, мы народ терпеливый, подождем, когда вы наконец решите быть честным, когда вспомните, что вам следует вспомнить.
То, что записал на этот раз Дьяков, начиналось словами: «В дополнение к данным мною ранее показаниям…» – и содержало признание того, что Саша бывал в кабинете Криворучко и выступал на партбюро в его защиту, а Янсон и Сиверский выступали в защиту Саши. О Марке и Будягине в протоколе не было ни слова.
Все записано правильно, но, как и в прошлый раз, что-то вызвало в Саше смутное ощущение опасности. В чем эта опасность, он не мог сообразить. Только потребовал добавить, что заходил к Криворучко по делу.
– Вы студент, ясно, что заходили по делу.
«Черт с ним!» Саша подписал протокол.
– Я не получаю передач от матери, и меня это беспокоит. Кроме того, я прошу газеты и книги из библиотеки.
Дьяков покачал головой.
– Пока идет следствие, ничего этого не разрешается. Если бы вы вели себя откровенно, мы бы с вами все закруглили и тогда вы получили бы то, что просите. И учтите, Панкратов, следующая наша встреча будет последней, – он поднял палец к потолку, – с меня тоже спрашивают. И я хочу кончить дело благоприятно для вас. Не упустите этой возможности.
Или Марк, или Иван Григорьевич, или оба вместе. Честные, преданные партии коммунисты! Он мало знает Будягина, но Марка он знает хорошо, ручается за него, не допускает и мысли о чем-либо. Арест Марка – такое же недоразумение, как и его арест, даже больше: за ним хоть есть эта несчастная история в институте. За Марком ничего не может быть: крупный инженер, прекрасный хозяйственник, бескорыстный человек, настоящий коммунист, вся его жизнь – работа, работа и только работа. И его посадили? Может быть, он где-то близко, в этом же коридоре, совсем рядом? Марк, близорукий, с больным сердцем, здесь, в такой же камере?
Ни о какой вине Марка он не знает, убежден в его честности. И если сочтут, что он покрывает Рязанова, пусть! Он готов разделить с Марком его участь. Так сложилось, навалилось, ничего не поделаешь, надо выстоять, придет время, и он и Марк докажут свою невиновность.
Все ясно, ему нечего ломать голову. Он честен перед партией, ничего не утаивает, не скрывает, он не может сказать ничего плохого о Марке. Все. Точка.
Только одно мучило… Криворучко… Единственный пункт, где он чувствовал себя уязвимым. Как там ни говори, а утаил. Может быть, неважное, несущественное, а утаил. Он хочет, чтобы совесть его была чиста. Криворучко мешал этому ощущению чистоты и ясности.
Днем явился незнакомый надзиратель с листком бумаги и карандашом в руках.
– Пишите требование в библиотеку.
Библиотека разрешена! Саша не знал, сколько книг и на какой срок можно взять. Но ничем не выдал своей неосведомленности. С опытным заключенным персонал считается больше, чем с неопытным.
Толстой – «Война и мир», Гоголь – «Мертвые души», Бальзак – «Утраченные иллюзии», Стендаль – «Пармская обитель», последние номера журналов «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Звезда»… Он писал, не задумываясь, думать было некогда, человек ждал, заключенный должен заранее решить, что ему требуется, он писал то, что приходило в голову, важно получить книги, книги потолще, чтобы хватило до следующего раза, который неизвестно когда будет.
Только одно он потребовал обдуманно – «Уголовно-процессуальный кодекс». Он не получит его. И все же написал: «Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР», выразив хоть этим протест против своего положения.
Почему Дьяков разрешил ему получать книги? Хочет задобрить? В его интересах сделать Сашино пребывание здесь невыносимым и вынудить к признаниям. Боится нарушить закон, по которому полагаются книги? Жалость? Когда обвиняют в контрреволюции, нет места жалости. Может, это совершилось помимо Дьякова, так же случайно, как и душ вне очереди? Жаль. Ошибку обнаружат, и книг ему не принесут.
Однако на следующий день явился новый надзиратель, в руках у него был пакет, обернутый белой чистой тряпкой с желтыми следами ожогов. Саша сразу узнал эту тряпку, через нее он дома утюжил брюки. Значит, разрешены не только книги, но и передачи.
– Фамилия?
– Панкратов.
– Распишитесь.
Надзиратель протянул ему опись передачи и огрызок карандаша. Опись была написана маминой рукой, широко, неразборчиво, и только «шоколад» дописали незнакомым, четким, будто каллиграфическим почерком. Половину описи вымарали чернильным карандашом.
Саша перебирал кульки и пакеты, аккуратно сложенные мамой, а потом раскиданные чужими руками… Белый батон, сыр, отварное мясо, колбаса – все это разрезано на куски при осмотре, масло в пергаментной бумаге, сахар, смена белья, носки, носовые платки. Итак, мама жива, выстояла, знает, где он.
– Можно отослать белье?
– Заворачивайте.
Он завернул грязное белье в тряпку. Этот обожженный утюгом кусок белой материи донес до него запах дома, его дома.
– Напишите, что просите.
На обороте листка Саша написал: «Все получил. Ничего не присылай, кроме белого хлеба, мяса и белья. Все хорошо, здоров, целую. Саша».
– Карандашик! – потребовал надзиратель.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































