Текст книги "Дети Арбата"
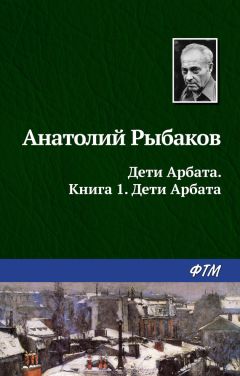
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
22
Саше принесли четыре книги, среди них ни одной, что он выписал, хотя библиотекарь и соблюдал некоторую приблизительность. Вместо «Утраченных иллюзий» – «Цезарь Бирото», вместо «Войны и мира» – «Детство», «Отрочество» и «Юность», журнал «Природа и люди» за 1905 год, «Красная новь» № 2 за 1925 год. Все зачитанное, истрепанное, с синим овальным штампом: «Библиотека Бутырской городской тюрьмы». Бальзак издания 1899 года, Толстой – 1913 года. Многих страниц не хватало, опись недостающих страниц в конце книги была неточна. И все же предстояла неделя праздника. Саша просмотрел сначала журналы, потом прочитал книги, потом опять журналы. В «Красной нови» нашел стихотворение Есенина «Синий туман. Снеговое раздолье…». Саше оно раньше не попадалось. «Цезаря Бирото» он читал, тогда история этого незадачливого парфюмера показалась ему мелодраматичной, а сейчас тронула… «Несчастье – ступень к возвышению гения, очистительная купель – для христианина, клад – для ловкого человека, бездна – для слабого». Он не гений, не христианин, не ловкий и не слабый человек. Но все же почувствовал что-то в этих словах важное для себя.
Неделю он наслаждался книгами, свежим бельем, лакомствами, присланными мамой. Он опускал кусочки мяса в суп и, согрев таким образом, добавлял к каше – обед становился съедобным. Утром и вечером делал бутерброд из булки, масла, колбасы и сыра – запах школьного завтрака отбивал запах тюрьмы. Сытый, разомлевший, укладывался он на койку и читал. Лежать днем запрещалось, но Саша не обращал внимания на замечания коридорных, и они оставили его в покое, становились настойчивыми только когда приближалось начальство.
Неделя сытой, ленивой жизни с книгами, колбасой и шоколадом. Казалось, он привык, пообжился, притерся… «Все успокоились, все там будем, как в этой жизни радей не радей…» Это не убеждало, но убаюкивало.
Жизнь в книгах и журналах не имела ничего общего с его нынешней жизнью, да и с прошлой тоже. Все, исполненное страдания в «Детстве» и «Отрочестве», было не таким, как в его детстве и юности.
Он сказал тогда отцу:
– Я не позволю обижать маму.
Отец смотрел на него серыми выпученными глазами, потом опустил голову на руки.
– Хороший сын… – и заплакал.
Отец есть отец. Пусть у него холодная рука, но ее прикосновение он запомнил с детства. Хотелось утешить его, попросить прощения. Отец отнял руки от лица. Глаза были злые, сухие.
– Кто тебе дал право вмешиваться?!
– Это моя мама.
Несколько дней отец молча вставал по утрам, брился, долго умывался, одевался, разглядывал себя в зеркале, молча садился за стол, молча ел, собирал бумаги в портфель, что-то бормотал, не попрощавшись, уходил на работу. Возвращаясь, он окидывал комнату злым взглядом, обедал, не произнося ни слова, со стуком отодвигал тарелки, не отвечал на робкие вопросы матери. Только поздно вечером, когда он и мама уходили в их комнату, Саша слышал оттуда его приглушенный голос, а мама молчала и молчала, и Саша боялся, что от этого молчания у нее разорвется сердце.
Потом он сказал Саше:
– Мне надо поговорить с тобой.
Они вышли из дома и пошли по Арбату. Снежинки роились в свете уличных фонарей. Отец был в высокой меховой шапке, из того же меха воротник на шубе, он шел рядом с Сашей – высокий, красивый, гладко выбритый, категоричный, не терпящий возражений.
…Он не хотел вмешивать сына в их отношения, это она с детства внушала ему неприязнь к отцу. Она виновата в их разладе, она не разделяла его стремлений, его интересов, ей были ближе сестры и брат. Ревность – только на это и способна.
Безысходная тоска охватила Сашу. Что может он возразить отцу здесь, на улице, отец плохо слышит, надо кричать.
И Саша сказал только:
– Если люди не могут жить вместе, они должны разойтись.
Через месяц отец уехал на Ефремовский завод синтетического каучука. Так в шестнадцать лет Саше пришлось все взять на себя.
Дьяков Сашу не вызывал, и это его не волновало. Первого допроса он ожидал с надеждой, второго – со страхом, теперь не испытывал ни надежды, ни страха. Только мысль о Криворучко не давала ему покоя. Могут арестовать Криворучко, и тот признается, что сказал Саше эту фразу про повара. Тогда Сашу уличат во лжи, а уличенному во лжи, ему уже не будет доверия в главном, что касается Марка.
Ну зачем Криворучко это сказал? В какое глупое положение его поставил. Болтун! Как бы Саша поступил, если бы вопрос о Криворучко обсуждался на партийном бюро? Там бы он не утаил этой фразы… Пусть товарищ Криворучко разъяснит, что он имел в виду! Почему же здесь он должен поступать иначе? Почему должен покрывать Криворучко?
Он расскажет все, как было, и снимет с себя тяжесть. Совесть его будет чиста, а там пусть решают… «Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири…» Откуда это?
Живет же он в тюрьме, лежит, читает, лакомится колбасой, шоколадом, поет каждую ночь под горячим душем, думает, вспоминает. У него отросла борода, он уже поглаживает ее, хочется посмотреть, каков он с бородой, но нет зеркала.
Опять явился надзиратель с карандашом и бумагой, забрал книги. Саша написал новую заявку. Он выписал на этот раз десять книг, авось какая-нибудь из них окажется на полке. Повторил «Войну и мир» и «Утраченные иллюзии», выписал толстые журналы за январь, февраль, март, Стендаля, Бабеля, «Историю падения и разрушения Римской империи» Гиббона – незадолго до ареста он начал ее читать, выписал Гоголя, которого любил, и Достоевского, которого не любил, – надо все же одолеть. И опять кодекс, пусть знают, что он его требует. Безусловно, его заявки просматривает Дьяков. Так вот, пусть Дьякову будет известно, что он хочет знать свои права.
Два дня без книг вернули его в прежнее состояние. Снова глухие стены, гнетущая тишина, следящий за ним глазок; оправки в уборной, снова тяжелая пища и изжоги – присланные мамой продукты кончились.
Он думал о Кате, вспоминал ее горячие руки, сухие, обветренные губы. Он не мог спать, вставал, ходил. Но надзиратели запрещали ночью разгуливать по камере.
– Заключенный, ложитесь!
Он ложился, не мог заснуть, если засыпал, то видел томительные сны, изнуряющие видения, как когда-то, в семнадцать лет…
Когда ему было семнадцать лет, он ездил с мамой в Липецк. К хозяйке, у которой они жили, приехала невестка из Самары, муж ее служил там на железной дороге. Звали ее Елизавета Петровна – худенькая блондинка в халатике, едва запахнутом на голом теле. Она смотрела на Сашу узким, косоватым взглядом, двусмысленно улыбалась, жеманилась, маленькая мещаночка из Самары. И все же ее двусмысленная улыбка, ее тело, видневшееся сквозь полураспахнутый халатик, дешевые духи волновали Сашу. Днем она обычно лежала в саду, расстегнув халатик и подставив солнцу белые стройные ноги. Саша не смотрел в ее сторону, только чувствовал под яблоней белое пятно подушки, пестроту халатика, голые стройные ноги с круглыми коленями, чувствовал на себе ее косой взгляд, ее улыбку.
– Са-шша… – сказала она однажды, растягивая букву «ш».
Он подошел, сел рядом.
– Саш-ш-ша, – тянула она, поворачиваясь к нему, халатик ее распахнулся, обнажив белое худенькое плечо и маленькую грудь. – Саша… Где вы гуляете весь день? С девушками? Расскажите мне…
Он не мог выговорить ни слова, смотрел на ее плотно сжатые ноги, на маленькую белую грудь… Солнце пекло сухо, жужжала оса, пахло яблоками, Саша не мог встать, не мог пошевельнуться, со стыдом чувствовал, что она все видит, все понимает, улыбается своей двусмысленной улыбкой и в душе посмеивается над ним.
– Все читаете, читаете, совсем зачитаетесь.
Она взяла из его рук томик Франса.
– Не отдам!
И спрятала книгу за спину. Он потянулся за книгой, их руки сплелись, его обдало жаром ее тела, она бросила вороватый взгляд на калитку, откинула голову, тяжело задышала, на лице ее появилось что-то отрешенное, тайное. Она охватила его шею горячими руками, притянула к себе, губы его коснулись ее губ, и она опустилась на спину.
Потом она заглядывала ему в глаза и смеялась.
– Смотри, что наделал… Теперь придется застирывать. А тебе неприятно, скажи?.. Ничего, миленький, это только в первый раз неприятно, ты ведь в первый раз, ну скажи, правда?
Ему было стыдно, он избегал ее, но на следующий день за обедом она сказала:
– Саша, будьте мужчиной, покатайте меня на лодке.
– Поезжай, Саша, – сказала мама, горевавшая, что в Липецке Саше скучно.
Они переехали на лодке на другой берег Воронежа – так называется река в Липецке, – и здесь, на лугу, она рассчитанно и деловито отдалась ему.
Ночью она пришла к нему, он спал в столовой на диване, и приходила каждую ночь, а днем увозила на другой берег Воронежа.
– Связался черт с младенцем, у, потаскуха, – шипела свекровь.
Мама ничего не замечала.
Приехал муж Елизаветы Петровны, подозрительно смотрел на Сашу, видно, узнал что-то от своей матери. Елизавета Петровна разыгрывала нежную жену, а Сашу представляла безнадежно влюбленным мальчиком. Растягивая слова и посмеиваясь, говорила при муже:
– А вот и мой кавалер…
Саше было противно ее жеманство и то, как шептались и смеялись они с мужем в их комнате. Впрочем, вскоре ему надо было поступать на завод, и, оставив мать в Липецке, он уехал в Москву. Долго после этого избегал женщин.
Как-то на заводе устроили субботник, убирали территорию, разгружали дрова, вывозили снег. Аппаратчица из третьего цеха, Поля, высокая красивая девка, работала рядом с ним, шутила, заигрывала, а когда кончили субботник, тихо сказала:
– Пойдем ко мне, погреемся. – И еще тише добавила: – Одна я сегодня.
Он не пошел тогда, слишком намеренно она предложила это. Сейчас он жалел, что тогда не пошел…
Кровь бурлила в нем, не давала покоя, он знал, к чему иногда приводит одиночество, и боялся этого. Он делал зарядку утром, вечером, днем не ложился, ходил из угла в угол, установил дневную норму – десять тысяч шагов, душ принимал совсем холодный, ложился спать возможно позже, вставал возможно раньше.
Через два дня принесли книги, и он снова погрузился в чтение. Только читал не лежа, а сидя, даже стоя, прислонясь к стене. Ему прислали два первых тома Гиббона, «Братьев Карамазовых» и вместо «Мертвых душ» – «Тараса Бульбу».
Появился у него сосед – худой, изможденный парень в потертом демисезонном пальто, рваных ботинках и кепке. Его ввели в камеру, потом принесли кровать, матрац и одеяло.
Звали его Савелий Кусков, студент третьего курса Московского педагогического института, сидит в Бутырках уже пятый месяц. Пробыл он с Сашей два дня, потом его увели, а кровать оставили.
На Сашу он произвел впечатление человека если не окончательно свихнувшегося, то уже тронутого. Часами лежал на койке молча, неподвижно, потом вдруг вскакивал, ходил, натыкаясь на кровати, тихонько напевал: «Все васильки, васильки, много мелькает их в поле». И это монотонное бормотание апухтинского стихотворения усиливало ощущение ненормальности.
Он не вышел на прогулку, не пошел с Сашей в душ, не делал зарядку. В Москве у него ни родных, ни близких, передач не получал, но то, что приносили раздатчики, съедал не сразу, а когда и без того едва теплая еда совсем остывала, ополаскивал миску кое-как и равнодушно смотрел, как тщательно моет Саша свою. Мама передала тогда вторую передачу, Саша все выложил на стол, но Савелий почти ни к чему не притронулся. Гиббона подержал в руках и отложил. Про Гоголя и Достоевского сказал, что уже читал. Сашиным делом не интересовался, о своем рассказал равнодушно. Он из Себежского района, деревня их в пограничной полосе, он собирался на каникулы домой, мать написала, что у них плохо с разменной монетой – не купишь, не продашь, не получишь сдачи. Он стал копить серебро, при обыске нашли у него двадцать восемь рублей сорок копеек и обвинили в намерении бежать за границу, тем более что учился он на факультете иностранных языков. В предъявленном обвинении признался, следствие по делу закончилось, и теперь ждал приговора.
– Зачем же признался?
– А как докажешь, – флегматично ответил Савелий.
– Не ты должен доказывать, они должны доказать.
– Вот и доказывают: серебро копил.
Дико, нелепо. Впрочем, если кому-нибудь рассказать, что его самого арестовали из-за стенгазеты или из-за дяди, этому тоже не поверит никто.
Оживлялся Савелий, только рассказывая тюремные легенды о побегах. Перепиливают оконную решетку, выбираются на крышу, с нее на другую, потом прыгают на ограду, а с ограды на улицу. Совсем недавно убежали два валютчика, прыгнули с четвертого этажа на мостовую. И не разбились.
Как ни мало сидел Саша в тюрьме, он понимал, что убежать невозможно. Но не спорил. Только удивлялся примитивности Савелия. Пробовал говорить с ним по-немецки, помнил несколько слов еще со школы. Савелий по-немецки говорил хорошо, без запинки, устранив тем самым мелькнувшее у Саши подозрение, что, быть может, он вовсе и не студент пединститута.
С неменьшим оживлением рассказывал Савелий о тюремной больнице. Все там есть, всякие кабинеты, и электролечение, и зубной врач. Фурункул, чирей, прострел – сейчас же назначают синий свет, будут водить каждый день, а то и положат в палату, а там белые булки, молоко. Говорил он о булках и молоке с восторгом, тем более непонятным, что сам ничего не ел.
Кое-что рассказывал он и важное для Саши. Если в камеру явится врач и спросит: «На что жалуетесь?» – это значит, что приговорили к ссылке, если хочешь на юг, в Среднюю Азию или Казахстан, говори, что у тебя туберкулез, ревматизм, ишиас или радикулит, хочешь на север – жалуйся на больное сердце. А если врач не придет, значит, лагеря, тут уже куда попадешь.
Узнал от него Саша, как называется их корпус и другие корпуса и как все это расположено. Башня внутри дворика называется Пугачевской. Дворик этот – самый маленький, есть побольше, самый хороший тот, что рядом с мастерскими, где работают уголовники, через них можно передать записку на волю.
На третий день Савелия увели. Уходил он так же равнодушно, как пришел. Пришел к незнакомому и ушел от незнакомого.
Но когда Саша увидел в дверях узкую, сутулую, покорную спину Савелия и как он вышел из камеры, не оглядываясь и не прощаясь, то почувствовал бесконечную тюремную дорогу. На этой дороге он встретит еще людей. Савелий был первым.
23
– Товарищ Будягин, с вами будут говорить.
Потом хорошо знакомый голос произнес:
– Здравствуй, Иван!
Называть Сталина по фамилии Иван Григорьевич не привык, по имени не решался. И он ответил:
– Здравствуйте.
– Приехал – не заходишь, гордый стал, дорогу забыл.
– Я готов. Когда?
– Готов – приходи. Рядом живем.
Последний раз Будягин был у Сталина два года назад. Потом, приезжая в Союз, все дела решал с наркоминделом Литвиновым, который пользовался доверием Сталина.
Концепция Сталина заключалась в том, что противники Советского Союза – это Англия, Франция и Япония. Англия видит в СССР угрозу своей колониальной империи. Япония – владычеству в Китае, Франция – своему влиянию в Европе. В то же время Англия и Япония – главные соперники Соединенных Штатов на мировом рынке. Побежденная Германия противостоит победительнице – Франции.
Таким образом, все сложные проблемы просты: Англия, Франция, Япония – с одной стороны, СССР, США, Германия – с другой. Сводить сложное к простому Сталин почитал своим великим талантом.
Концепцию Сталина, сложившуюся еще во времена Веймарской республики, Иван Григорьевич считал устаревшей, способность Сталина все упрощать – катастрофой. Приход Гитлера к власти меняет расстановку сил, делает германскую проблему основной.
Литвинов, по-видимому, разделял точку зрения Будягина, но не показывал этого. Надеялся, что время изменит позицию Сталина. «Laisser passer»,[1]1
Пусть идет, как идет (франц.)
[Закрыть] – сказал он Будягину.
Сталин не знал Европы, презирал партийных интеллигентов – эмигрантов, кичливых всезнаек, сделанных из того же теста, что и западные рабочие лидеры в смокингах и фраках. Он вел в России жизнь подпольщика, его ссылали, он бежал, скрывался, а они жили за границей, в безопасности, почитывали, пописывали, становились известными. В Лондоне на Пятом съезде партии он хорошо их рассмотрел, с близкого расстояния.
До этого Сталин был за границей только в Таммерфорсе и Стокгольме. Но те съезды не шли ни в какое сравнение с лондонским, где собралось более трехсот делегатов: большевиков, меньшевиков, бундовцев, польских и латышских социал-демократов. В первый и единственный раз Сталин увидел столицу мировой державы, город, каких он не знал, капиталистический Вавилон, цитадель буржуазной демократии. Среди невозмутимых людей, выросших в непонятных, чуждых традициях, он, не знающий языка, чувствовал свою удручающую незаметность, к тому же Сталин потерял шарф, апрель в Лондоне стоял холодный, пошел с Литвиновым покупать новый, но не мог подобрать нужный, жесткая шерсть кусала шею. Купили самый мягкий, дорогой, все равно Сталин капризничал, вертел головой и ругал англичан. В районе доков Литвинов отлучился, а когда вернулся, к Сталину уже приставали докеры, возможно, что-то спросили, а он не ответил, не знал языка. Литвинов, человек смелый, разговаривающий на английском, как коренной лондонец, прогнал докеров.
Впоследствии Литвинов рассказал Будягину про шарф, но про докеров не рассказывал никогда. Сталин такого рассказа бы не простил: с детства тщедушный и слабый, он был болезненно чувствителен ко всему, что ставило под сомнение его физическую силу и смелость, – душевное состояние, из которого потом выросла подозрительность.
Еще в ссылке он говорил Будягину: грубости надо противопоставлять еще большую грубость – люди принимают ее за силу.
Как-то в один из длинных зимних вечеров Сталин сам рассказал Будягину про случай с докерами: мол, приняли его за индуса, хотели побить, но получили по морде и убежали. Он очень любил выражение «надавать по морде».
– И это хваленый английский рабочий класс, – сказал Сталин, – такие же колонизаторы, как их хозяева.
Больше года Будягин добивался свидания со Сталиным, считал себя обязанным сообщить ему свою точку зрения. Он знал, что переубедить Сталина трудно, этот человек легко отрешался от своих симпатий, от антипатий – никогда. Но он знал также, что войны Сталин опасается.
Теперь Будягин понимал, что его попытка обречена на неудачу. Время не изменило позиции Сталина, время изменило его самого. Сейчас больше, чем когда-либо, он убежден в своей непогрешимости. Иван Григорьевич отчетливо сознавал, чем все кончится, если он будет ему противоречить.
В Кремль Будягин пошел не по Воздвиженке, как ходил обычно, а по улице Герцена, пересек площадь у Манежа и вдоль ограды Александровского сада дошел до Троицких ворот, удлинил путь на несколько минут, хотел тщательней обдумать предстоящий разговор, а может, оттянуть встречу, которая, как он предчувствовал, сыграет роковую роль в его судьбе.
Иван Григорьевич всегда был далек от внутрипартийных распрей. Но он и не включился в общий хор, не славословил. Этого для Сталина было достаточно.
Будягин пошел в революцию не потому, что хотел добиться лучшей жизни, их семья жила в сравнительном достатке: и отец, и братья, и он сам – все квалифицированные кузнецы на Мотовилихинском заводе. Мотовилихинский завод, казенный, государственный, считался одним из мощнейших в стране, говорили, что его пятидесятитонный молот – крупнейший в мире. Сама Мотовилиха, расположенная на левом берегу Камы, на магистральной железной дороге, была промышленным, торговым пригородом Перми, деятельным, зажиточным и сравнительно трезвым.
Способного молодого рабочего заметил Николай Гаврилович Славянов, создатель дуговой электросварки, и привлек к первым электросварочным работам. Соприкосновение с передовой для того времени техникой, с ее блестящими представителями будоражило мысль. Будягин сошелся с социал-демократами, их было много среди заводской интеллигенции и в городе среди политических ссыльных. Иван Григорьевич тоже, вероятно, остался бы рядовым социал-демократом. Он записался на общеобразовательные курсы при Томском технологическом институте, дававшие аттестат зрелости и право на поступление в институт. Профессиональным революционером его сделала первая русская революция. В декабре 1905 года он участвовал во всеобщей политической стачке, затем в вооруженных столкновениях с войсками. Его арестовали и выслали в Нарым.
Все было понятно, пока Будягин боролся против самодержавия. Революция тоже ясна – конечная цель их борьбы, победа их идеи. Крайности неизбежны – ярость народа обрушилась на вековых угнетателей, революция защищалась.
Кончилась гражданская война, все стало на свое место. Нэп означал не только новую экономическую политику. Возникал новый уклад жизни.
Однако то, что намечалось Лениным «всерьез и надолго», продолжалось совсем недолго. Сталин ликвидировал нэп, утверждая при этом, что выполняет заветы Ленина. Он любил клясться именем Ленина, ссылаться на него. Хотя еще в Сибири говорил Ивану Григорьевичу, что Ленин недостаточно знает Россию, потому и выдвинул лозунг национализации земли, за которым, как утверждал тогда Сталин, крестьянство не пойдет. А в Царицыне он же внушал лично ему, Будягину, что Ленин мало разбирается в военных делах. Но значение Ленина, его роль в партии Сталин понимал всегда и никогда открыто ему не оппонировал. Когда в итоге оказывалось, что Ленин прав, а он всегда оказывался прав, Сталин объявлял себя его единомышленником, без колебаний проводившим политику Ленина. Он и теперь на каждом шагу клянется Лениным, представляет себя чуть ли не инициатором и вдохновителем ленинских решений. Однако вместо социалистической демократии, которой добивался Ленин, Сталин создал совсем другой режим.
Ничто не изменилось в маленькой квартире Сталина с того дня, когда Иван Григорьевич приходил сюда последний раз.
Сталин был один, сидел за обеденным столом. На столе стояла бутылка атенского вина, бокалы, фрукты в вазе, две бутылки нарзана, лежала раскрытая книга. Сталин и дома носил полувоенный костюм, брюки заправлены в светлые сафьяновые сапоги с малиновыми разводами.
Он повернул голову. Щеки и подбородок закрывали белую каемку подворотничка, френч топорщился на животе. Низкий лоб, знакомые оспинки, мягкая красивая рука. Будягин понимал, что эта встреча последняя.
Сталин медленно поднялся, не протянул руки, продолжал в упор смотреть на Будягина. Он был ниже ростом, но смотрел не снизу, даже не прямо, а как будто сквозь тяжелые опущенные веки.
Иван Григорьевич ждал, что Сталин пригласит его сесть и прекратит неловкость.
Сталин кивнул в сторону окна:
– Ругают меня там?
Он спрашивал не про ту страну, откуда приехал Будягин, и не про ту страну, где они сейчас находились, а про весь мир, про все человечество, про все, что там, за окном: в неумолимом азиатском боге проснулся одинокий ссыльный грузин в сибирской избе. Только за окном не глухая тайга, а громадная, покорная его воле страна.
Спрашивает это после своего триумфа на съезде, он по-прежнему никому не верит. И хочет лишний раз убедиться в правильности своего недоверия, своих подозрений, еще раз проверить, каков Будягин и такие, как Будягин. Он уже настроил себя против Будягина, не улыбнулся, не спросил про семью, не проявил и тени прежних отношений.
– Кто как… – ответил Будягин. – Есть и ругают.
Сталин чуть повел рукой, Иван Григорьевич сел.
Сжимая трубку в кулаке, Сталин прошелся по комнате, походка у него осталась по-прежнему легкой, пружинистой.
– Как Рязанов?
Неожиданный вопрос. Сталин принимал Рязанова, слушал на Политбюро, выдвинул в ЦК. Может быть, усомнился в нем в связи с арестом племянника?
– Деловой, знающий человек, – ответил Будягин.
– Говорят, постороннее строительство затеял? В наркомат поступил сигнал, что Рязанов самовольно строит в городе кинотеатр, спортивный комплекс, даже закладывает курорт «Уральская Мацеста».
– Пятаков направил туда комиссию, – ответил Будягин.
Сталин посмотрел ему прямо в глаза. Будягин знал, что означает этот взгляд: он означает недоверие. Сталин не удовлетворен его ответом. Почему? Будягин сказал правду. Впрочем, ему хорошо знаком этот сталинский способ смущать собеседника: выказать недоверие там, где для недоверия нет оснований, делать вид, что верит, когда есть основания сомневаться.
Сталин медленно отвел взгляд, усмехнулся.
– Серго предложил Рязанова в ЦК. Хочет, чтобы ЦК состоял из одних хозяйственников.
Он замолчал, ожидая реакции Будягина. Таков характер этого человека: Орджоникидзе, мол, предложил Рязанова в состав ЦК, а Будягина не предложил.
Повысив голос, Сталин продолжал:
– При всем нашем уважении к Серго мы не можем превратить ЦК нашей партии в Президиум ВСНХ. Центральный Комитет нашей партии – это ареопаг, в котором представлены и хозяйственники, и политики, и военные работники, и деятели культуры. В Центральном Комитете должны быть представлены все силы нашей партии. Особенно молодые силы.
Он остановился против Будягина.
– Надо посторониться и дать дорогу людям из народа. Во главе государства народ хочет видеть своих сыновей, а не новых пришельцев, новых дворян. Русский народ не любит дворян. История русского народа – это история борьбы с дворянством. Русский народ любил Ивана Грозного, Петра Первого, то есть именно тех царей, которые уничтожали бояр и дворян. Все крестьянские движения, от Болотникова до Пугачева, были движениями за хорошего царя и против дворян.
То, что он говорит, можно расценить как обычный для него исторический экскурс. Историю он знал, особенно хорошо знал историю церкви и церковных ересей. Но можно понять и так: старые кадры, такие как Будягин, это и есть новые дворяне. Это их народ больше не хочет.
Сталин продолжал:
– Почему крестьянство поддержало революцию в центральных губерниях и не поддержало на окраинах, скажем в Сибири? В центральных губерниях мужик видел помещика, дворянина, а в Сибири их не было. А когда появился дворянин Колчак, тогда сибирский мужик поддержал революцию.
Сталин смотрел на Будягина. Глаза его потемнели, стали коричневыми. Потом он отошел к окну и, стоя спиной к Ивану Григорьевичу, сказал:
– Но не все молодые люди – это НОВЫЕ силы. Я как-то летом ехал по Арбату, смотрю: на углу стоят молодые бездельники в заграничных плащах, смеются. Спрашивается: что им дороже – советская родина или заграничный плащ?
Заговорил о молодых людях. Значит, ему известно о ходатайстве за Сашу.
– Можно носить заграничный плащ и любить советскую родину, – сказал Будягин.
– Ты так думаешь? – Сталин повернулся к нему. – Я ТАК не думаю. МОИ дети не ходят в заграничных плащах. МОИМ детям нравится наше, советское. МОИМ детям негде доставать заграничные плащи. Спрашивается: откуда ТЕ их достают?
Может быть, он имеет в виду Лену? Кто-нибудь съехидничал: «Дочка Будягина ходит в заграничных платьях». Сталин всегда придавал значение мелочам, прислушивался, пускал их в ход, когда хотел показать свою осведомленность, гордился умением обобщать мелочи, делать из них выводы.
– На мне тоже заграничный костюм, – сказал Будягин, давая понять, что, прожив почти десять лет за границей, он и его семья, естественно, покупали там себе одежду.
Сталин понял намек, с насмешливой уважительностью развел руками:
– Ну… Ты ведь у нас деятель международного масштаба, где нам до тебя?..
Он медленно приблизился к Будягину, протянул вдруг руку, коснулся его головы.
– Молодой совсем, черноволосый, красивый…
Будягин подумал, как легко может быть снесена голова, до которой Сталин сейчас дотронулся. Сталин опустил руку, точно понял мысль Будягина, усмешка снова тронула его усы.
– Ты, Иван, всегда был спорщик, отчаянный, неисправимый полемист.
Он опять подошел к окну, снова стал спиной к Ивану Григорьевичу, снова заговорил:
– Мы любим нашу молодежь, молодежь – наше будущее. Но ее надо воспитывать. Молодежь следует растить, как садовник растит дерево. Ей не надо льстить, не надо подлаживаться, нельзя прощать ей ошибок…
Да, он о Саше. Показывает свою осведомленность. Малую ее часть. А когда понадобится, выложит всю.
– …Не надо искать у молодежи дешевой популярности, – продолжал между тем Сталин. – Народ не любит вождей, ищущих дешевой популярности. Ленин не искал, не расхаживал по улицам. Народ не любит вождей-краснобаев. Троцкий какой был говорун, а что от него осталось?
Этот шар пущен в Кирова. Киров ходит пешком по ленинградским улицам, Киров – лучший оратор партии. Что стоит за этим? Нет, от Кирова и Орджоникидзе он пока не откажется. Время еще не пришло. А сейчас он начинает с него, прощупывает как человека, близкого Кирову и Орджоникидзе еще со времен обороны Астрахани и военных операций на Северном Кавказе. Для этого и вызвал. Международные проблемы его не интересуют. Если бы интересовали, вызвал бы год назад.
Как всегда, в Сталине поражала откровенность высказываний о близких людях, убеждение, что его слова не будут переданы. Намекни Будягин Кирову или Серго о том, что он здесь слышал, он будет ошельмован как интриган. Ведь ничего плохого Сталин не сказал, только подметил стремление Орджоникидзе видеть в ЦК побольше хозяйственников и высказал законное опасение за свободу и открытость, с какой Киров расхаживает по ленинградским улицам.
– Кстати, – спросил Сталин, не оборачиваясь, – что за человек Кодацкий? Он, кажется, при тебе был в Астрахани?
– Да, был, ведал Облрыбой. Ты, наверно, тоже его знаешь, он председатель Ленинградского горсовета.
Сталин сделал вид, что не заметил скрытой язвительности ответа, спокойно сказал:
– А ведь Кодацкий – зиновьевец.
Будягин искренне удивился:
– Кодацкий? Он выступал против Зиновьева.
– Да, выступал как будто… – согласился Сталин. – А когда ленинградские рабочие потребовали исключить Троцкого и Зиновьева из партии, товарищ Кодацкий не проявил большого восторга. Колебался. В таком вопросе! И тогда сам товарищ Киров предложил освободить его от должности секретаря Московско-Нарвского райкома партии. Освободили. Придержали в совнархозе. А теперь выдвинули в председатели Ленсовета. Вместо председателя Ленсовета Григория Зиновьева новый председатель – тоже зиновьевец. Как это должны рассматривать ленинградские рабочие?
– Кодацкий, насколько я знаю, в оппозиции не участвовал, – сказал Будягин. – Если он проявил колебание в организационном вопросе, то от такого рода колебаний никто не избавлен ни сейчас, ни тем более восемь лет назад.
– Никто не требует крови товарища Кодацкого, – равнодушно сказал Сталин и повернулся к Будягину. – Все же в такой организации, как ленинградская, следует быть осмотрительнее в подборе кадров. Впрочем, партия доверила товарищу Кирову выбирать помощников по собственному усмотрению. Не будем вмешиваться.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































