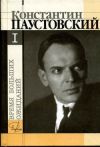Текст книги "В Батум, к отцу"
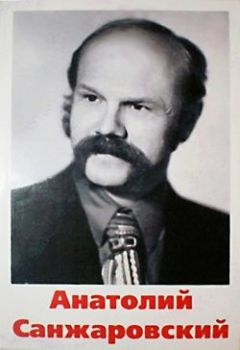
Автор книги: Анатолий Санжаровский
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
7
Беда беду выслеживает.
Беда по беде, как по нитке, идёт.
А потом был вечер, был вокзал.
Все-таки дворяне из нас не получились: на дворе не пришлось ночевать.
В зале ожидания облюбовали рядышком две скамейки, пали.
Только слышу это я сквозь сон, в рот мне норовят что-то такое затолкнуть.
Открываю глаза – здрасьте, пожалуйста! – на моей скамейке лежит валетом юная особа. Юбочка по форме, с декольте… Лежит и так это старательно водит у моего родного носа босой пяткой.
Приподымаюсь на локоть – спит. Ну, стиснул я зубы, лёг. Только она снова по-новой. Ах ты!.. Я и дай щелчка по той пятке.
Соня ойкнула. Села.
– Послушайте, какавелла, вы что?! – напылил я.
– Ax, извините, так это к вам я приставала? А мне снилось, новые туфли ни в какую не лезли… Я так старалась, так старалась…
– Скажите на милость, она старалась! Может, ещё орденок потребуете за свои старания?
Девушка оживилась.
– На орден я не замахиваюсь. А вот… – Она в морщинки собрала лоб. – Какавелла – это что будет?
– Ше-лу-ха се-мян ка-ка-о! – вытягивая голос, торжественно произнёс я довольно отчетливо. По слогам.
– На что ж вы меня так? А? Какая ж я вам шелуха?… Мария я! Савичева! Вы слышите?
Я не мог не слышать её истерического крика. Растерялся и искательно кивнул.
Видать, согласного кивка ей показалось мало, отчего уже без слов – вот тебе венец! – мне была высочайше пожалована сочная, жизнеутверждающая пощёчина.
– О времена, о нравы! – ладясь под тон светского льва, сказал Вязанка, потягиваясь со сна и спуская ноги на пол. – Мадам, насколько мне известно, хорошенькие ручки даны женщинам скорее для ласки, нежели для мамаева побоища. Зачем же попирать золотое назначение и из вполне здорового красавца делать мне инвалида первой гильдии? Я не собираюсь втягивать вас в дискуссию, только напомню с вашего позволения: с одиннадцати вечера до семи утра закон в Англии вообще запрещает драться.
– А оскорблять что, можно круглосуточно?
– Откровенно если, – сказал я Вязанке, – вина на мне. Не сдержался… Не в честь… А потому, – я повернулся к девушке, – я и прощу у вас прощения.
Она кивнула рукой.
– Да уж…
С минуту она тяжело смотрела себе на ноги. Вдруг у неё прорезалась потребность в стоне.
– Память у меня не воробьиная… Помню… Ложилась я спатуньки в танкетках… Вы!.. Ты!..
Я разозлился.
– Да опомнись! Неужели думаешь, проглотил? Потрогай живот, совсем пустой… Чего хныкать? Сходи поплачь в жилетку родной милиции. Это она не уберегла. А я тут сторона!
На шум довольно смело подошёл крутощёкий милиционер.
Что да чего да всю троицу и упрячь до утра, до выяснения, в смежные палаты с кроватями.
Мечта!
– Вы, девушка, – сказал дежурный пострадавшей, – будете одна в дальней комнате. Закроетесь на крюк. Если что, кричите. У вас, у женщин, глоточки дюралюминиевые, заслышат и мёртвые, не то что я, – и запер нас.
Немного погодя Никола, неуверенно настукивая калачиком указательного пальца по холодной оконной решётке, говорил с тревожной усмешкой:
– Слышь, как бы нам не надели тут браслеты и не пришлось бы Коле Вязанке играть по ночам на скрипке[3]3
Играть на скрипке – пилить решётку.
[Закрыть]… Как думаешь?
Я не отвечал, засыпая.
8
Даровой рубль дешёв.
– «Вставайте, сударь, Вас ждут великие дела!»
Я открыл глаза.
Вчерашняя незнакомка, вовсе и не дурная собой, как показалось мне ночью с сонных глаз, стояла у окна, заплетала косу и улыбалась, улыбалась то ли мне, то ли молодому утру, и так хорошо улыбалась на всю комнату, что я поймал себя на том, что тоже улыбаюсь.
Короткий разговор улыбок обломило мгновение, когда я вспомнил, где я и что со мной.
– Ждут великие дела? В Петропавловке?
Она рассмеялась, укладывая косу золотой короной на голове.
– Эта крепость давно музей. Раз. Во-вторых, танкетки я вчера сунула в сумку под голову и забыла. Представляете? Вот где Маша-растеряша! Я уже рассказала про всё про это дежурному. Извините меня, что вышло так. Я ухожу. Прощайте, дорогие соколки!
– Сударыня! – поднял над подушкой голову Вязанка. – Что мы в цене, мы знаем и сами. Лучше подумали бы, как из-за вашего финта ушами нас могли с дудками свезти туда, где и трудолюбивый Макарио тёлочек не пас. И тогда что, добывай мы ударно уголёк-чернослив? Покорно благодарю! Вам неохота знать, сколько у нас отняли ваши танкетки калорий? Вы ничего не желаете пожертвовать на их скромное восстановление?
Она растерянно отвернулась. Достала из-за пазухи вышитый красным платочек.
– У меня всех-то денег одни воробьи. Мелочь… так, пустяки… Рубль вот на автобус до дома…
– Это всё ж таки больше, чем ничего. – Он протянул растопыренную пятерню. – Ну-с… Смелей.
Она боязливо вернулась, тонкими длинными пальцами вбросила в ладонь смятую комочком бумажку, как бросают в урну огрызок.
– Пани! Адрес или счёт в банке!
– Это ещё зачем?
– Проценты с рубля, пока его не верну, куда прикажете посылать?
– Оставьте ваши шуточки…
– И не думал шутить. Без адреса не выпущу.
Девушка сердито хмыкнула, но назвала совхоз «Лайтурский» и в мгновение исчезла за дверью.
– Слушай! Тебе не мерзко обирать девчонок? – набросился я на Вязанку.
– Да не липни хоть ты, митрополит несчастный! И без тебя знаю, кипеть мне в пенкешеле! В этом смоловарном котле…Только против своего хобби не попрёшь. Да и зачем? Выгодная штучка! Дашь на дашь… Я галантно напомнил – мне деликатненько хрусталик на подносе.
– Эх ты!..
– Ты рублю не груби. Перед продавцом все рубли равны.
– Ну а перед совестью?
– Три ха-ха-ха, – в задумчивости проговорил по слогам Вязанка. – Твоими устами… Мда-а… Дежурный меня мучил, белянка твоя, – взгляд на дверь, – дай бог, чего ей хочется, мучила. Ты тянешь за душу. Ещё и совесть возьми меня в тиски… Не слишком ли много мучителей на одного? Никакой пропорции не вижу, отец Григорио. Или ты хочешь вбить мне, «плох тот мученик, который не рвётся в великомученики»? Посмотрим, как тебя будет терзать твоя родная совестишка, когда кинешься щи наворачивать на девчачий хрусталик, что, кстати, я обязательно верну… Айда лучше в столовую, а там и в мореходку.
9
Нужда – мать догадки.
Нужда мудрее мудреца.
В зале ожидания я навязал за рубль свою кепку слабому, на три духа, маленькому полохливому старичку с пронзительно чёрными глазами.
Этот клопик с глазками навыкате долго хлопал ресницами, растерянно перекладывал корявый посошок из руки в руку, не решаясь брать и не отказываясь от покупки вовсе.
Дед отдал мне подержать посошок, а сам долго коротким негнущимся от трудной работы пальцем всё никак не мог попасть в пистон, в узкий потайной кармашек у пояса. Наконец он выкатил оттуда шарик ветхого рубля и не отдал сразу, а минуты три, если не все пять, косясь на меня и часто моргая, рассуждал, угрюмо и сердито поглядывая на искусительницу кепку:
– Нет заговенья деньгам, ит ты, шило те в нос! Ровно твоя чистая вода, скоро расплываются… Ну да! – он решительно махнул сухой рукой. – Ну да, деньжанятки водются с расходу! – и сунул мне рубль, словно боясь себя, как бы не передумал.
Я развернул рубль.
В нём было всего понемногу: понюшка сорного табаку, синие горошинки соли, зерён так пять полбы и даже засушенная бог весть когда муха. Меня всё это рассмешило, старика же огорчило до невозможности.
– Ещё в какую давность подарил я этот рубль бабке своей на Восьмой март утром, поднёс абы глаза запорошить… Каюсь, тяжеле я, бестолковая толкушка, расстаюсь с копейкой. А всё почему? Копейка, парень, к рублю бежит. Рупь собирает! Вот так-то оно кстати всё в дело вяжется. Кстати и поп пляшет… Значит, подарил я, а сам, хотя виду и не подаю, а про себя жду-надеюсь, авось, возвернётся нехитрый капиталец мой отдарком на Победу. На Победу она мне рубаху… Шут с ей, с рубахой! Ты мне мою бумажку на ладошку положь… Уже месяцок май, голым рай, разрядил леса, встрел и проводил весну, а она про рублину ни гугу. Это ж форменный ералаш – у бабы своя от меня касса! Понимаю, дарёное напрямки вот так не взыскать. Я и прикинься, что сильно взошёл в градус, пьян то есть, и ну вьюном вокруг неё, мол, крайняя нуждица поспела, в одну душу дай, а она на мои мольбы ноль вниманья, лихорадка тя подхвати. Хужей того. Шлёпнула меня по плечу! Вправде, мазнула неболяче, как муха крылом, и говорит:
«Вот ещё баловать, пьяному давать: позабудешь, опять станешь просить».
Вот те клюква… Ну да ладно, шило те в нос, мужик я негордючий, я и с другого боку забегу. Не возленюсь… Высмотрел я, куда эта петля хитрая припрятала на память с уголка надорванный рубль мой и переложил в надёжное место к себе в кармашку. Видать, кинулась она, всё перерыла, а нашла и взять не взяла, а невестке в отместку, вишь, всего по малой малости завернула на чёрный мне день: табачку, соли, хлеба и даже мушиного мяску. Ну ехидина! В кои-то веки удалось коту с печки спрыгнуть и то лапки отшиб по ейной милости…
– Когда ж происходило дело? Не в первую ли ещё империалистическую?
– Можа, и в первую, нешь упомнишь? Дорожка загрязнилась уже… Была бы голова, а хвоста доищемся. Вот возвернусь, накручу я ей хвоста, задам баньку за таковские штуки… А можь, и не задам. В молодую, ит ты, пору не водилось боя промеж лычком с ремешком, поведётся ль нынче? Поворчу, поворчу, на той лавке и сяду, Талдон я Иваныч… горький монах в гарнитуровых штанах… А ты, сыну, не погребуй рублём моим шелудивым. Хоть впридачу он ещё и давешний у меня, как я сам, а все одно ходит в миру промеж людей на равных, а все одно цена ему красная. Цел-ко-вый!
10
Любовь начинается с глаз.
Теперь вот мы с Вязанкой квиты. Финансов у нас луковка в луковку. Копейка в копейку.
В столовке мы выбрали стол в самом углу.
Разглаживая крохотный, с пол-ладошки, блокнотик, подошла молоденькая официантка.
– А что желают орлы?
Мне понравился ее голос, мягкий, чистый. Услышать такой голос – мёду напиться.
Беспардонник Вязанка принялся как-то обстоятельно, в упор рассматривать девушку.
Смуглое, пожалуй, красивое лицо, которое несколько портила излишняя полнота, открытые в холе руки, белая тесная блузка с вышитым на груди красным тюльпаном, короткая красной кожи юбка с разрезами по бокам, прикрывавшая едва верх фильдекосовых чулок, обрисовывающих стройные крепкие ноги в шнурках-сапожках, – всё это Вязанка, казалось, видел разом, видел и плутовато улыбался, ничего не говоря.
– Ну, а всё же, что будем? – в нетерпенье повторила она, постучала карандашом по блокноту.
– Что вы будете, не знаю, – врастяжку тянул Вязанка слова. – А мы… Что это за водогон? Не на пожар, тоже мне…
– Ну, ладно, стравил – точка. Сколько можно стоять?
– А не надо стоять. Прошу. – Вязанка пододвинул девушке стул.
– Только и осталось! – всплеснула она руками, отчего блузка тонко хрустнула: официантка была в добром теле. – Лучше смотрите в меню, не то уйду через минуту.
– Слыхал? – Никола, рисуясь перед официанткой, не без фамильярности тронул меня за плечо. – Нам объявили индульт![4]4
Индульт (морское) – льготный срок, предоставляемый судну противника на выход из порта во время объявления войны.
[Закрыть] Да-а, весла по борту и – ша!
Никола повернулся к девушке.
– В таком варианте вот что… Птахи мы нехитрые, какого зерна ни плеснёте, всякое склюем. Да только обязательно запишите вот этому Колумбу, который будущий, – Никола зацепился взглядом за меня, – пирожок с таком.
– С чем? С чем?
– Не ясно, что ли? С таком. От слова так.
Она доверчиво улыбнулась, и в этой улыбке, придавшей её лицу особое очарование, обнажились два ряда ладных, снежно-чистых зубов.
– Ну хорошо, – сказала она, продолжая улыбаться в каком-то светлом изумлении и исчезая за кухонной дверью из висячих тонких бамбуков, что скрипуче прошелестели ей вослед.
11
К кому сердце лежит,
туда и око бежит.
А надо сказать, Вязанка видный собой тип.
Ему уже восемнадцать, на целых два мая – оба мы майские – старше меня. Высок (двоюродный брат каланче), размашист в кости, харчист в плечах, черноволос. Лицо тонкое, волевое, ну, как он говорит, «вылитое дитя моря».
Страшненькие поглядывают на него с завистью тихой, кроткой, даже пугливой, что ли, красивые – дразняще-вопросительно.
Никола прицокнул языком.
– С этой газелью Икс, – закипая и потирая руки, прошептал он, – Никольчик ещё…
– Ну-ну!
– Или кинешься доказывать, что она преобычная пулярка?
– Не бойся, не кинусь. Не глупей индейского петуха.
– Э-э-э! Да тебя завидки дерут! Сочувствую, но помочь ничем не могу… Скажи, а гусариха ж стимулирующая! А!?… На беду, разве что один минус – в рост не разбежалась да ещё полминуса – как полешки руки. А так всё остальное, я тебе доложу, всё при ней. Модерновой конструкции пан-ночка. И упаковочка блеск: эта юбочка, эти дымчатые шнурки-сапожки… В пограничный портовый Батум залетает-таки кое-что из вещичек маде ин оттуда… Ты хоть разглядел толком?
Я вежливо вздохнул:
– Разглядел… Покуда её обойдёшь – пряник съешь!
– Ну ты хотя бы изредка думал, городишь что! Как ни верти, а девочка на уровне моих стандартов. Мировых!
Под столом Вязанка дёрнул меня за руку книзу:
– Идёт!
Зачем-то даже приподнялся и так уставился на приближавшуюся с подносом официантку, что та в первое мгновение смешалась и ничего не нашла лучшего как, скорчив гримасу, спросила:
– Ну что смотришь, как кот на сметану?
– А то, что сметанка очень уж свежая, – с чувством проговорил Вязанка, садясь.
– А глазастый, – сказала она, ставя перед ним тарелку.
– Я и то заметил, – воодушевился Вязанка, – что ты проворна, как хризопелия!
– Как кто, кто?
– Это змея… летающая… Симпатичная такая…
– Ну что ж, комплимент вполне… И на том спасибо…
В её голосе были не только обида, досада, но и вместе с тем что-то такое, отчего было сникший Вязанка разом воспрянул духом:
– А хочешь, я про себя?…
Вязанка с бойкой проницательностью посмотрел на девушку.
– Я ж такой знаменитый да богатый! У меня с дюжину городов! Все названы моим именем. Первый вот на Чёрном море, славен корабельщиками.
– Николаев? Так ты Николай?
Вязанка почтительно склонил голову набок, подумал. Выдерживая паузу, с благоговением добавил:
– А Никополь? А Николаевск-на-Амуре? А японский Никко? А средиземноморский Никосия? А Вязники?… Вишь, сколько!.. Кончил у себя в Николаеве мореходку, прибыл по распределению. Ничего против не имеете?
– Кроме одного. А что ж в гражданке тогда?
– Э-э… У форменки сегодня отгул за прогул. Выходной!
– Надеюсь, в ней-то увижу ещё?
– Само собой! – поклялся Вязанка, наступив мне под столом на ногу. Знай наших, пузогрей!
Этого ему показалось мало. Кивнул на меня:
– А это… Братец мой, ангелочек. У него тут вот, под пиджачком, – его рука скобкой легла мне на плечи, – крылышки…
Это уже слишком!
Что было мочи пнул я его коленкой в коленку.
Усмехнулся он через силу:
– Приехал посмотреть на Батум. Любопытный…
Я сидел, как на шиле, пристально смотрел в тарелку, будто собирался пробить её взглядом.
Но как бы там ни было, а я не мог не видеть и того, как она бедром задела его за локоть, как он с рассудительным крестьянским спокойствием положил хлеб на стол, слегка занёс свободную руку погладить её раздольную спину; видел, как она, не подпуская и отводя от себя ту руку, – отводила она тяжело, будто рука была свинцовая, – сжала-таки на миг какой, не снесла искушения и тут же отбросила, словно гадюку.
– Тань, а Тань! Гайдовская! – позвали из бамбуковой двери. – Тя к телефону!
Хлопотунья наша, ступая вразлёт, заторопилась на голос.
Вязанка переломился через стол.
– Эй ты, замученный совестью смиренник, – прошипел Никола, – надо выходить из бамбукового положения. Гони валюту в общий котёл. А подать сюда твой рваный!
Я отдал.
Минут через пять наши рубли, тщательно разглаженные, – у Тани, я заметил, была привычка всё расправлять, – выглядывали у неё из накладного карманчика.
Но Таня не уходила, в замешательстве поглядывала то на меня, то на Вязанку.
– Сдачи не надо! – свеликодушничал Никола.
– Вообще-то… Вы ещё должны…
– Тем лучше! – обрадовался Никола. – К закрытию, Танёка, принесу. Без завихрений. Слово тимуровца!
– На первый раз поверю.
12
Сидит сам на рогожке,
а размечтался о ковре.
После стола потопали мы в мореходку.
Плелись медленно. Как мураши в тесте ворочались.
Было солнечно, тепло. Пожалуй, больше таки грел крепкий завтрак, не солнце.
– Слушай, – прорвало меня, – ну на что было брать такое всё дорогое? По стакану чаю и – хватило б… Какого огня швырнул весь наш капиталище? Ещё лыбится… Рад, конечно, дело сделал. Как же, надел на козу хомут… У нас денег теперь ни копья! На обед что?
– Плакаты. Высококалорийными красками писаны… Так как, хиляк, видал, как говорил мужчина большой руки? А? – посмотрел Вязанка сверху вниз. – Так-то с ними, с хризопелиями!
– Ка-ак?
– Сам же видел… Под конец вроде того и ручнеть стала, ластиться. То с одного боку заскочит постоит, то с другого забежит да опять постоит и всё жу-жу-жу… Оно вроде и идти край надо, вроде и собралась уже, пошла в шнурочках в своих, а кинулась, огляделась – всего-то а и далеко ушла, что с одной стороны стола перепорхнула на другую…
– Лёгкое ли дело уйти от Аполлона Насакиральского!!!
– Не сечёшь в сердечном карамболе, так и помалкивай. Я что?… Приглянулась какая, мизинчиком шевельни – ша, она со мной! Я вроде багра: что зацепил, то и потащил.
– И что, мимомётчик, ни разу багор не надломился?
– Как сказать…
– Как есть.
– Так я тебе и выложи! Каждый знает сам, где ему ботинок жмёт, да не всякому скажет.
13
Всем Богам по сапогам.
В мореходке со мной вышла нескладица. Дали полный отвод.
Я – в обиду, чуть тебе не в слёзы, давай им было про несправедливость речи из одних междометий пустых, а тощая, как комар, тётушка, представительная таки тётушка во всём дорогом, при золотых часах да при золотых зубах, мягко так и скажи:
– Вот и обида поспела… А подумай хорошенько, так чего обижаться? Без единого документа ну какой же разговор? В другой раз привозите. Разве вам, молодой человек, тогда хоть слово кто поперёк положит?
А Вязанке повезло. Не так чтобы уж очень повезло, а всё же…
Где-то разведал, что да чего надо в ту мореходку, мне ни гугу; в потайной час взял у матери паспорт свой, зашил вместе с 286-ой справкой в прилаженный самим с исподу рубахи кармашек. То-то в вагоне всё осторожничал, стерёгся всё…
Смотрю, у него свидетельство за восемь классов, кой-какая бумаженция ещё.
Полистали, полистали – взяли.
– На экзамены в августе.
Вязанка и спроси:
– А можно до экзаменов быть у вас? Понимаю, не положено, но в виде как исключения…
На ту пору, насколько я мог понять из услышанного, ремонтировали учебное судно, так Вязанку туда, к подсобникам, и пристегни с министерскими полновластиями на манер хватай больше, тащи дальше. Подсыпали кой-какой авансишко (деньжат тех, правда, как у воробья копытца, – не густо, а всё ж таки капиталий), определили в общее житие.
Живи не хочу!
В общежитии – теперь Вязанка сам себе голова, никому не под шапку! – наказал коменданту пускать меня даже в своё отсутствие, как есть я самый родной его брат-гостюшка, ссудил не ссудил, а дал так, молча, не ахти какую денежку – в залежи у меня и копейки не было, – сказал идти наслаждаться жизнью, а сам наладился к хризопелии к своей.
Гортанный, дурашливо-весёлый вечерний Батум, впридачу ещё щёголь, повеса, балагур и вовсе не дурак богато покутить, будто об убытках здесь ни одна живая душа решительно никогда и не слыхивала, – так вот этот Батум, бедовый, суматошливый, подбитый, и основательно подбитый ветром, размашисто, с какой-то первобытной лихостью празднующий в сумеречный час лодыря (может, только с первых глаз курортный город видится таким?) – этот Батум был мне в недоумение.
«А что же там наши?… Ма убирается с козами, пожалуй, кончает уже… Толька гремит с ведром в яр, к кринице под старым каштаном, или как сто чертей несётся на велике в лавку к Сандро за хлебом, или бьётся над уроками… А ты?…»
Я сидел у самой воды на тёплом ещё со дня высоком щербатом камне; от полной луны по-дневному было светло, хоть бисер нижи; и я мысленно шёл, не оглядываясь, по гладкой белой дорожке в даль моря, а горизонт всё уходил и уходил от меня.
«Послушай, а чего это тебе да не пойти к отцу? Не завтра утром, как про себя держал, а сегодня, сейчас, сию же вот минуту? А?…»
14
Кто кому надобен,
тот тому и памятен.
В последнем письме отец писал, как сильно потрепало его часть в бою, и вот теперь она прибыла на передышку и пополнение в Батум. Отец звал проведать его.
На ту пору мне шёл шестой год, я был выше стола на целую ладошку.
Эту дорогу от вокзала до части, пройденную тогда с матерью за руку, я запомнил; запомнил и то, как за каждым поворотом высматривал я отца, который, по-моему, непременно должен был встретить и взять меня по привычке к себе на руки…
За дождями, за годами время то пропало…
Нынче я знаю, как распорядилась судьба, но разве вправе кто заказать ждать-надеяться, разве в силах разуверить даже похоронка – могла ж, по великому счастью, быть и ошибка, и были же ошибки, пропасти ошибок, и пускай будет ошибка ещё, хоть одна одной; и я шёл, резво шёл, почти бежал; и, боясь решительно сознаться себе в том, таки ждал вполне именно того, отчего искоса, судорожно всматривался, останавливая дыхание и кусая губы, в лица встречных мужчин, готовый крикнуть сейчас в окроплённую росой белую ночь: «Па!..»
…Часть жила в казармах, срубленных на живую руку в молодом фруктовом саду, обнесённом дощатым забором. От казарм не осталось и намёка, зато деревья подросли, покрупнели, стали величественней.
Вот на этом месте под белым облаком яблони в цвету тогда лепился крохотный фанерный домик, где ма оставила меня, пока искала командира спросить позволения на свидание с отцом.
Я огляделся.
В углу возле круглой железной печки сидел на корточках и курил газетную самокрутку рябой солдат в пилотке. Перед ним возвышалась горка мелко наколотых дров.
– Ну что, сынок, ты к кому? – огладил солдат чумацкие усы.
– Я к папе…
– Как зовут твоего папу?
– Папа.
– Хо-ро-шо! – по слогам произнёс солдат. – А тебя как?
– Гриша.
– Ну так что, Гриша? А давайно попробуем растопим печку.
Он поманил меня пальцем.
Я не двигался с устали, не решался и вовсе подходить к незнакомцу.
Он улыбнулся:
– Ну ты чего запустил глаза в пол? Иль брухаться надумалось?
Я не поднимал голову. Молчал.
– Не хочешь менять быка на индюка, ну и не меняй, смотри себе, куда глазу твоему желается. А то скажешь, пристал дядько, как слюна.
Краешком глаза я таки видел: настрогал он крюковатым ножом стружек, бережно пихнул их комом в печку, кинул под бок им с ноготь уголёк, оживший от цигарки, и долго, полную вечность, дул с колен, краснея и чертыхаясь, кроша всё на свете в тыщи.
– Видишь, Гриша… Докторь по нервенному как встретит, бывалко, так всё ото наказывает-приказывает… Ты, говорит, Сербин, держи покой голове, не употребляй, говорит, креплёные слова. Как же это без крепкого слова? Без крепкого слова, доложу по правде, и печка, eй-бo, не загорится. Проверим? Сделает это Петро Сербин шито-крыто, никому и в нос не вклюнется!
Сербин, не вставая с колен, берёт из алюминиевой кружки на близком к нему подоконнике щепотку серой соли, бросает в печку.
Слышно слабое сухое потрескивание.
Заглушая его, Сербин говорит, говорит что-то в печку тихо, но куда как выразительно; потом подул раз, подул два – вот тебе и выдул пламешко такое, будто кто жёлтым платком взмахнул и спрятал, через секунду снова взмахнул и больше уже не прятал.
Показывая на пламя, что всё росло и росло, Сербин почти крикнул:
– Во! Без матюка к барыне печке и не подсукаться! Не прав стрелок Сербин? Оченно даже прав! Не станет Петро Сербин здря зубы-то мыть!
А про соль он молчал. Наверно, думал, что я не видел, как он солил дрова, отчего они сразу и вспыхнули.
Сербин согрел кипятку, налил мне полную, под края, кружку, кинул три куска сахару (и что тебе ни кусочек – со слоновий носочек!).
Стряхнул с пальцев сахарную пыль себе в кружку, подумал и себе тоже налил. Стал пить пустой чай.
– Чай пользительный, – говорит. – Пополоскаешь чаем мозги, так тогда оно само думается. Ещё чай, как пиво, разбивает желудок… А ты это чего? На-ка, промочи с дороги душу.
Он подал мне кружку. Деваться некуда. Я взял…
За чаем я дошёл до храбрости такого сорта, что даже насмелился и – корова ж мне язык не отжевала! – спросил:
– А почему вы пьёте без сахара?
– Между нами пройдёть… А потомушко, как же это без сахара? Без сахара не можно. Только я положил, как украл, мало. Чтоб покислей был чай.
Иронически-спокойный взгляд приглашал к улыбке. Я улыбнулся.
– Я б тебе рассказал что… Да ну ничего путного на дитячий слух и не знаю. Это ж Сербин! Сто рублей убытку!
Он подложил в печку дров, но дверцу закрыть не закрыл. Смотрел на пламя. Спросил:
– Дома вы тоже так, от цигарки, растапливаете?
– Неа, дядь. У нас никто не курит.
– Мда, дело, скажу я тебе, кашель. И батько не курит?
– И нам заказал. Мы с Митькой, брат это мой старший, пыхкали газетой, так он нас ремняком, ремняком…
– По «задним бюстам»?
– Ага, по задним, – подтвердил я. – Долго болело.
– Понятно, так оно надёжней урок. Не лихостной – строгий он у вас.
– Очень строгий.
– И очень хороший, – неожиданно сказал Сербин. – В струне всегда себя держит… Любо-дорого да два прекрасна – вот что я про него в мир несу, молонья тебя сожги! Я ж его подчистую знаю. И тебя хоть на мизинец, а знаю… Чуднó… Пускай мы далече не родня, так зато в близких состоим соседях, в одном бараке, дверь в дверь, живут-здравствуют своими кутками наши семейства. С батьком твоим не счесть, сколько лет чай на плантации с песняками формовали, копали, тохали-пололи. Ударила война, подвела под красную звезду – мы и тут вместе, а ты меня и знать не знаешь. Да куда, всеконечно… Ты только-только, поди, выдрался из пелёнок, когда напролом, без доклада попёр я ловить Гитлерюгу за яблочко, так, вишь, всё никак не дотянусь. Ничего, попомни моё верное слово: дай срок, и на нашей улоньке вскипит победный кумач.
Я поймал себя на том, что открыто, не таясь, смотрю Сербину в лицо и с восторгом слушаю.
Куда подевались моя робость, мой конфуз… Спервоначалу ж я не знал, что и делать с кружкой, обжигавшей руки. Пометался, пометался взглядом на все четыре стороны – пусто, некуда и поставить.
Гляжу, Сербин безо всякого ко мне внимания, будто и моего духу нету, тихо-смирно потягивает чаёк. Поспустил я с себя подпруги, отмяк, стало мне так спокойно на душе, я тогда давай и себе потихонешку отхлёбывать…
Насадился я уже, как антипов щенок, кружка моя пуста. Но я её отдавать не отдаю, боюсь, как бы из доброты Сербин не налил мне ещё чаю, а сахару у него наверно нету ни пылинки – ему будет неловко и перед самим собой, и передо мной.
Я подношу кружку с вмятиной на боку к губам, со свистом втягиваю сквозь зубы воздух – так-де жгусь.
Ломаю я эту комедию лихо, так что Сербин даже сказал:
– Не шибко горячись. Лёгкие испортишь.
Вместе с тем я во все глаза изучаю Сербина и чем больше смотрю, убеждаюсь, не такой-то он и совсем чужой.
– Дядь, – говорю я, – а я вас немножко, самую капелюшку, а помню. Вы с нашего района. Дома вы тогда были только в другой одежде, ещё не в усах тогда ходили.
– Было такое дело, хлопче, было!
– А за что вам дали на войне усы? За храбрость?
– Ну а ты как думаешь? За что ж ещё?
А можно, я потрогаю…
– Трогай, дергай, геройка! Полный короб волюшки насыпаю!
Подушечками потных пальцев я осторожно провёл по усам, потом обошёл у себя мизинцем всё то место над верхней губой. Ничего схожего!
– Дядь Петь… А что, если… Ну а если я останусь с вами, быстро вырасту и буду хорошо драться, мне, что, дадут усы?
– А почему бы и нет?
С ненастьем в глазах Сербин подошёл ко мне и – прижался, опустившись на корточки. Наверное, с усов упала тёплая капелька мне прямо на голую, как коленка, макушку: только вчера в обед ма стригла меня.
Тут вернулась легкая на помине ма.
Сербин быстро встал и отвернулся, зачем-то провёл рукавом гимнастерки по лицу. Он и маме налил чаю из опивков – по ниточке тянулось.
– Та ты шо, Петька? – Ма замахала на него руками. – Який там чай? Чи ты смиешься? Покы бигала шукала командира, так напилась душа поту, як мазница дегтю. Пиду, пиду я з малым, а то вин у тебе засидився, як та редька.
– Поля, – задумчиво-грустно, сиротливо проговорил Сербин, – успеешь к Никифору, не в дальности он… Постой минутку какую… два слова… Как там наш совхоз в Насакиралях?
– А шо совхоз? Крутится. Мужиков старше цього, – ма показала на меня, – ни напоказ, одни бабы и в дудочку, и в сопилочку. От света да света на плантации, на чаю. Як вечер – окопы рыть, а там вже нам и ночь не в ночь: в трудах всё время скачет. Даром шо бабы, а в работе ломають на всю катушку… Каждая крутится по-своему. Одна кругом, другая через голову. Их вон, – ма опять ткнула в меня пальцем, – трое. Обуй, одень, накорми, Полька! И не я одна така. Почти у каждой детворы понасыпано, как яиц под квочкой. Того-то редкая жинка приходит домой без двух норм, а больше – не три, так все четыре! На той неделе на бригадном у нас собрании стахановкам давали кому медальку, кому отрез, кому из детской одёжи шо… Теперь ты не очень со мной и с Настюхой тоже. При медалях мы! Под эти медали мы выпросили по дню, навидаты шоб вас в выходной.
– А что там Настёна моя? Как она?…
– Не хворае, робыть… Валька бóлеет всё, с Гришу вже будет. Ростэ, Петька, дочкá, там така гарнэсэнька! На личность схожа с тобой, як два глазочка… Сёни Настюха за нашими казачками приглядае. А на той выходной я Вальку возьму до себе, Настюха прииде сюда… Ой, бежу! Всё!.. Рассказала, як размазала… Ты ж не гневайся…
– Что ты, Поля! Как мёдом по сердцу помазала… Спасибствую! Лёгкой дороги тебе!
Мы пошли вприбежку.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?