Читать книгу "Нулевой том (сборник)"
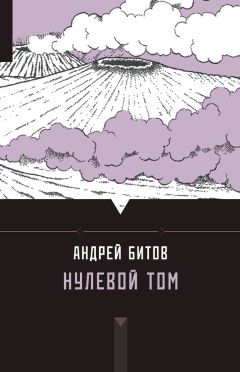
Автор книги: Андрей Битов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Субботник, или Возмещение убытков
КВИТАНЦИЯ
к приходному ордеру № 140
Принято от Битова А.Г. за изготовление разбитой им таблички кожного диспансера № 22 по счету № 522 от 19.IV руб. 66 (шестьдесят шесть)[5]5
К счастью, в старых деньгах.
[Закрыть].
22 апреля 1959 г.
Главный бухгалтер (подпись)
Коллега
Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках – неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы.
Приятели его звали запросто – Осей. В иных местах его величали полным именем – Иосиф Бродский.
Из фельетона «Окололитературный трутень».(Вечерний Ленинград. 1963. 29 нояб.)
Заслуженная кара
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания бюро секции прозы от 4/II-64 года
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Воеводин, Васютина, Дружинин, Дар, Офин, Абрамов, Фарфель, Смолян, Гор.
СЛУШАЛИ: Дополнительное обсуждение рекомендации А. Битова в Союз писателей.
РЕШИЛИ: В связи с поступлением в Секретариат ЛО Союза писателей документов о нарушении Андреем Битовым общественного порядка (Письмо Петроградского отделения Милиции от 23/1-64 г.) Бюро секции считая, что поведение А. Битова и его поступки недопустимы и не достойны члена Союза Советских писателей, – решает задержать рекомендацию Битова А. в Союз писателей и вернуться к рассмотрению этого вопроса после того, как Андрей Битов своим поведением и творческой работой докажет, что он будет достоин быть принятым в члены Союза. О настоящем решении поставить А. Битова в известность и товарищей, давших ему рекомендации на прием в Союз писателей.
Председатель секции (В. Воеводин)
Секретарь (Е. Васютина)
Выписка верна зав. секретариатом – (Арямнова)
Мое сегодня,
29 июля 1962 года
Лес, дорогаВот здесь же, в Токсове, как-то, два года назад, мне было так же, как теперь, два года спустя. Спустя-я – смешно! Не смешно. Все-таки смешно. Спустил. Спустил два года.
Конечно, мне было и не так же. Но тоже не писалось. А тогда ведь еще только кончался тот период, когда мне казалось: я хожу по рассказам, ими вымощен мир. В любой, мол, момент их под рукой тыщи – возьми любой. И я жалел, что я – это не 10 человек, а то бы и написал эти тыщи. Упаси боже! Во-первых, эти тыщи… А во-вторых: как бы они ссорились, эти десять человек! Один-то возится, как десять.
Так вот, тогда, два года назад, этот период только еще начинал кончаться, так что можно считать: он еще был. И вдруг такое чудо, что мне не пишется! Теперь-то у меня даже опыт в неписьме есть. А тогда это меня прямо ошеломило. Я кис, кис – и вдруг обрадовался: ведь я же могу написать рассказ о том, как мне не пишется. Даже название придумал: «Лес, дорога». Мол, вот лес, а вот дорога, и вот мне не пишется. И еще радовался: вот какая писатель машина – и из неписьма может сделать письмо. Впрочем, в этом и какая-то правда. Так ведь, чтобы писать было нечего, не бывает. Есть немота. Писать о немоте – это какое-то преодоление. И может, мы в основном о своей немоте и пишем. О чем же писать в такое немое время? Я кис-кис, какая писатель, сделать письмо.
Рассказа я этого не написал. Хотя кто меня, подлеца, знает…
И вот сейчас… Я болен, можно сказать… Да что там! Болен, болен. Неудовлетворенностью, неполнотой, немотой. И суетой чрезвычайной. А суета, как ее ни кляни, – вещь любимая. Она ведь на месте пустоты. И только в случае пустоты. Так что она – недаром. Мы рвемся от суеты – и попадаем в пустоту. И без суеты нет ей заполнения, этой пустоте. И мы рвемся публично от суеты, и мы бросаемся ей в объятия. Может, не сознавая?.. Ладно, не мы, не мы! Я, я!.. Нем, нем.
Во мне сейчас пустыня. Можно напиться, можно влюбиться… Если не то и не то – можно суетиться. Если уж и это отпадает – застрелиться. Конечно, лучший выход – писать. Переделывать пустыню. Дубовыми защитными насаждениями. Лес, дорога. Суховеи – сухо веют. Сухотка. Сухость мозга.
Ничего ведь не исчезает. В этом я уверен. Если б не уверен – то что же? Ничего не исчезает. Где-то это все плесневеет в мозгу, неосвобожденное, неотданное… Обрываются какие-то связи – и не извлечь. Стучись, ломись, рвись, даже жалуйся – не натянуть струн. Нет связи. Кибернетика проклятая! Кир-бир… Кир-бир…
Вырабатывается прием…
Чик-чирик!
Чик-чирик«Я еще много, пожалуй, могу извлечь из своей башки!» – так я себя часто тешу. Чешу, почесываюсь.
Прыг-скок! Прыг-скок! Брык… с коп!., ыт.
Севулямирбетроп! Севуля, Севочка! Се-ля-ви. Бетатрон. Доре-ми. Силь-ву-пле. Мир – бетон. Мир – батон.
Троп, троп, троп.
Маразм —
полнейший.
Графоман —
милейший.
Танцевальщик танцевал,
А в углу сундук стоял.
Танцевальщик не заметил —
Спотыкнулся и упал.
Я вышел из трибуны в зал,
Перевернулся и сказал:
Я помню чудное мгновенье
И мимолетное виденье.
И в этот миг
Я к вам приник.
Е-если б зна-али вы-ы-ы,
Ка-ак мне до-ароги-И-ы…
На…! На..!
Мир, труд, счастье!
Одно забыли.
Мир, труд, счастье и братство!
Опять забыли. И не забыли, а вот, попутал, не то слово вставили.
Мир, труд, счастье, братство и… братство и… равенство!
Не монтируется.
Мир, труд, счастье, братство, равенство и… и… свобода…
Наконец-то. Выдворили. Тьфу, как трудно было! Но чего-то недостает… Какой-то ясности. Определенности, так сАать. Так все есть – а чего-то и нет. Так-то так, А не совсем так. А пожалуй, что так:
Мир, труд, счастье (не достаточно ли, товарищи, и этого?)
Мир, труд, счастье, братство (может, хватит, а, товарищи?)
Мир, труд, счастье, братство, равенство (не слишком ли, товарищи?)
Мир, труд, счастье, братство, равенство и… и… свобода, мать твою так! (о-ох, товарищи… Ох!)
Раз уж перебрали, то добавьте.
Мир, труд, счастье, братство, взаимопомощь, равенство и… свобода.
Недобрали.
Мир, труд, счастье, взаимопомощь, братство, равенство и свобода… (кого, чего? Свобода, говорю, кого-чего?)
…всех народов (Вздох зала: Все-ех).
Так бы и говорили, товарищи… А то что же получается? А так все на месте:
Мир, труд, счастье, взаимопомощь, братство, равенство и свобода всех народов!
Урара-а-а!!!
Нельзя же: «Свобода, равенство, братство!» Было уже. Да ведь надо исходить и из конкретных условий…
………………………………
………………………………
………………………………
УР-Р-РА-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чик-чирик! товарищи…
Ты у меня дочирикаешься!!
Си-ижу за решеткой,
В те-емнице сы-ырой,
Такой-то такой-то
Орел мо-алодой…
Чик-чирик!
А вот у нас на предпраздничном вечере самодеятельности всех зэков собрали: кто поет и пляшет, а кто сидит и смотрит. И вот был у нас такой Костя Отвали, так он тоже выступал. Стихи с выражением читал. Очень он это здорово делал. Начальству нравилось необычайно. И вот объявляют: стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, – и он это самое «Сижу за решеткой» читать начал. Да как! Все плачут, рыдают и хотят на свободу. А он все с большим и большим подъемом читает. И вот уже последняя строчка, и он уже кричит с болью и страстью:
Пора-а, бля-а! пора-а!!!
Голос сверху, снизу и сзади:
– Только тихо! Не пой с чужого голоса. Ты сам-то сидел хоть?..
– А я что? Я тихо… Просто себе напеваю. Разве вы не слышите:
Бля-бля… Бе…
Сидели на трубе…
А…
А: – Вот тебе и А… Говорю тебе: без булды, пожалуйста, без булды, дорогой…
Без Б (бе)Б (оправдываясь): – У меня в распоряжении целый этаж. Три двери, два балкона, один солярий, одна лестница и четыре окна – на четыре стороны света. С каждой стороны торчат верхушки какой-нибудь зелени. Ничто не мешает. Иногда внизу кричит дочка. Мой стол стоит прямо в центре. «Как это ты догадался поставить его в центр, я бы никогда не догадалась», – говорит теща. Вокруг стола с четырех сторон веревки: на них иногда вешают пеленки. Это меня веселит. Вчера передо мной висели совсем не детские трусы. В мои обязанности входит колоть дрова, носить воду и керосин, иногда ходить в магазин. Если учесть, что гораздо большие помехи не мешали мне раньше писать, то сейчас мне ничто не мешает.
А: – Скажи мне, пожалуйста, что тебе мешает? Ведь, кажется, все у тебя есть, все о тебе заботятся, тебе не приходится ни о чем думать… Все условия тебе созданы. На тебя работали папа, мама и вся страна. Дали тебе образование. Одели тебя и обули. Накормили. Чего тебе не хватает, в смысле недостает? Скажи, пожалуйста. Мы потратили на тебя всю свою жизнь…
Б (молчит).
А: – Ведь теперь ты уже большой. Мы не можем тебе уже помочь. Когда ты был маленький, нам было ясно, чего тебе надо. Сейчас ты уже взрослый, и ты уже живешь сам. У тебя есть семья. У тебя есть свой опыт. У тебя есть свое дело. Ты смотришь на мир по-своему. Мы уже ничем не можем тебе помочь. Мы тебя любим, но ничем не можем…
Б (молчит).
А: – Теперь уже все зависит от тебя. Если ты виноват, ты виноват сам. Что тебе мешает, дорогой?
Б: – Дорогие мамочка, папочка, тетеньки и дяденьки, дедушки и бабушки, тещиньки и – как вас? – папы жен, дорогие граждане и гражданочки! Ничто мне не мешает. Я вам очень благодарен и признателен. Мне от вас ничего не нужно. Я буду вам благодарен до конца дней своих. Если я чего-нибудь от кого-нибудь хочу, то это от себя. Но и в этом я не уверен. У меня подрезаны крылья, дорогие гражданочки.
А: – Нет, вы мне скажите, кто вам их подрезал? А? Может, я, который всю жизнь работал и проливал кровь за таких, как вы? Может, я, который ни разу о себе не подумал?
Б: – Что вы перебиваете? Вы не перебивайте. Мне и так трудно собраться с мыслями. А если так… то, может быть, и вы. Почему же это вы о себе-то не думали. Может, этого мне и нужно было, чтобы вы о себе думали, а не обо мне. Как же вы о других-то можете думать, если вы о себе не думали ни разу?
А (молчит обиженно).
Б: – Ладно, ладно… Не вы. Я не прав. Я действительно не о том хотел сказать. Ну, хотите, я еще раз извинюсь. Ну, хотите, я на колени встану? Мне это ничего не стоит, честное слово. Ах, вам надо, чтобы стоило. И это вы так о себе не думаете? Ну, ладно, если по-честному, это мне дорого стоит. Вернее, стоило. Да и, в конце концов, я не вам это говорю. Пойдите и пройдитесь. Подышите, так сказать. И подумайте о себе.
А (уходит оскорбленный).
Б: – Господи, как он меня сбил… О чем же это я? Нервы все. Единственное интеллектуальное приобретение в наш век. Так вот, гражданочки, никто из нас не доезжает до города. И это грустно. Может даже, если брать только одну сторону вещей, именно это их и подрезает. Так называемые крылья. Уверенность существует только в пору щенячества. Дальше сразу начинается невозможность. Конечно, существует благородное служение количеству ради будущего качества. Кости, если расшифровать. Удобреньице. Не пропадет ваш скорбный труд. Маленькое, но нашенькое. Благородная нищета: в заплатах, но чистенькое. Но что же сделано хорошо без уверенности, хотя бы и тщательно и робко скрываемой, что тебе за это суждено бессмертие?
(Возвращается А, дружески все простив, берет под ручку Б.)
БА: – Не верите? Представьте, что вы умираете. И что же в таком случае можно от человека еще отнять? Пусть сожгут ваши рукописи. И вы поймете, как много у вас еще осталось.
АБ: – Впрочем, чего не надо, так это говорить о смерти. Это пижонство, дорогой.
БА: – Обращение «дорогой» без всякого повода – это тоже пижонство. Какой я тебе на… дорогой! Когда ты меня ненавидишь.
АБ: – Я тебя? Помилуй…
БА: – Тогда я тебя ненавижу. Я не я, а труп с квалифицированной сиделкой. Кому там помогают припарки? Душа сдохла, а тело ее охаживает. В иное время жену хоронили вместе с мужем. Тоже ведь проекция самоубийства. Дорогой человек уже мертв – так почему бы не убить второго, насильника трупов (так это называется), не убить второе, телесное, я?
АБ: – Ну, если тебе не нравится «дорогой», то милый… Милый мой, ну, скажи, разве говорить о самоубийстве – это ли не пижонство? Ну, что о нем говорить? В некой цивилизованной стране существует даже право на него. Это временное, дорогой и милый, поверь мне. Это только в первый раз страшно. А потом в этом будет такой же опыт, как, ты признался, у тебя в неписьме. Ты просто еще ребенок.
БА: – А ты умудрен до тупости.
АБ: – Ах, прости!.. Ну просвети меня…
БА (с чрезмерным выражением):
Вот здесь когда-то
На самую крышу
Начальной школы
Я мяч забросил…
Что-то с ним сталось?
АБ: – Чего-нибудь японского?.. Рыбного?.. И ты думаешь, что он может до сих пор там лежать?
БА: – Он там лежит.
АБ: – Интересно… Что же ты лепешь о смерти, если он у тебя там лежит?
БА: – Боюсь, как бы ты его не спер.
АБ: – А ты меньше выбалтывай сокровенных тайн. Тогда не сопрут.
БА: – Тогда-то и сопрут.
АБ: – С тобой поговоришь…
БА: – А фу-ли!..
(Входит невозможных размеров И…)
Из первого сборника автора
Бабушкина пиала
Я в комнате сидел под вечер без огня
И вдруг гляжу:
Выходят из стены Отец и мать,
На палки опираясь.
Такубоку
В нашем доме ремонт. Надстраивают этаж и меняют трубы. То, что мы станем выше, не ощущается на третьем этаже. То, что меняются трубы, ощущается не очень. Каждый день не хватает какой-нибудь воды: в ванной, уборной, на кухне… Мы бродим по квартире в ватниках и шапках-ушанках и ругаем домконтору, прораба. Благодаря дыркам в полу и потолке мы знаем, что делается и варится этажом ниже и этажом выше. Внизу – кто-то очень упорный разучивает гаммы и пассажи, а наверху – кто-то очень веселый играет по очереди две пластинки и танцует. На уровне наших окон разгуливают по лесам жизнерадостные девушки, заглядывают в окна, пачкают их известкой, а иногда, по неосторожности, выбивают. На паркете растоптана штукатурка, а на телевизоре слой кровавой кирпичной пыли. Днем по квартире расхаживают чужие люди, и от этого окончательно неуютно.
Нас лишили привычных за долгие годы, незаметных удобств, и мы сразу очень устали. Теперь, когда мы возвращаемся домой, с нами остаются все дневные неприятности. А раньше неприятности уходили до следующего дня. Нас лишили отдыха, и все почувствовали, как они, однако, устали.
Но, пожалуй, больше всех страдает от ремонта мой отец. Он сам когда-то белил, оклеивал, красил эти комнаты – с любовью и вкусом. И когда он видит халтуру, в нем возмущается профессионал. Каждый день он возится, стараясь вылечить изуродованные комнаты: замазывает дырки, подклеивает обои.
Сегодня нам поставили новые трубы – кривые и ржавые.
И отец красит эти трубы.
Моему брату решили подарить бабушкин зеркальный шкаф. Брат переселился в Москву, у него есть жена и нет мебели. А шкаф дубовый, и в него многое можно спрятать. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. Его не открывали так долго потому, что в нем лежали бессмысленные мертвые вещи и напоминали о живом человеке. А этот живой человек – умер. Вещицы были старые и ненужные. Бабушке они напоминали других живых людей, а нам они напоминали бабушку.
В шкафу были чашки, стопочки, серебряные ложки, картонка из-под юбилейного торта с недогоревшими свечами, коробки от конфет… Все это было бесполезно и человечно, как память. И на всем этом лежал толстый слой пыли. Вымыли – посуда стала свежей и блестящей. Она была выставлена в кухне на круглом столе и каждому напоминала свое. Было приятно и грустно. И каждый взял на память то, что помнил.
Я взял пиалу, настоящую узбекскую пиалу, которую бабушка привезла из Ташкента…
…Мне было пять. Через всю взбаламученную войной страну мы пробирались к бабушке в Ташкент. Мы уходили от блокады. Добирались мы долго и трудно, и мало что удержалось в непонимавшей детской памяти…
В теплушке на меня свалилась стремянка с грузным пассажиром. Это было больно. Выбежав выменивать хлеб, от поезда отстала мама. Это было страшно. Я завшивел. Это было противно. Нечего было есть. Это был голод…
А потом нас окружили черномазые оборванные мальчишки и предлагали поднести и подвезти. Они были стремительны и шумны и двигались с неправдоподобной легкостью. И я их боялся. А мама им не верила. И мы пошли сами, волоча пожитки, потерявшие смысл и форму. Вертлявые мальчишки постепенно отстали. Мы оказались одни. Мы не знали, куда идти, а прохожие нехорошо на нас смотрели и не объясняли дороги.
А все кругом было другое: горячее солнечное небо, глиняные заборы с жирными тенями, неразрушенные чистенькие домики, сады… И тишина. Непривычная тишина пустых глиняных улочек.
Мы брели, не понимая куда. Собственно, не понимала мама, а я тащился за ней. Мы брели, никого не спрашивая. Мы были у цели, и мама увидела, что у нее уже давно нету сил. У нее не было сил, и она удивлялась, что мы – у цели.
И мы брели…
И вдруг, завернув за толстый глиняный угол, мы столкнулись с бабушкой. Мама издала что-то нечленораздельное, а я не узнал бабушку… Тут меня обняла какая-то ласковая, теплая волна и увлекла. А я подчинился и уже не заметил, как мы пришли. Но это уже было сказкой…
Туда вела калитка, за которой был сад. Блестящими кровавыми каплями капали черешни. Бетонный арык уползал вглубь. На крыльце голая толстая женщина рубила топором черепаху. Длинная, сухая бородавчатая старуха подозрительно косилась на нас и держалась за козу. Они были очень похожи, коза и старуха…
Но та же ласковая и теплая волна снова подхватила меня, и я очутился в бабушкиной комнате. Там было прохладно. Чистая, высокая кровать выросла перед моим носом. Сквозь забавные соломенные штуки прыскало тоненькими струйками солнце и испещрило чистый, натертый пол. И во всем этом царила, ласкала, смеялась бабушка. Но самое главное был стол. Он прочно наступил на пол толстыми дубовыми ногами. На нем были белая тяжелая скатерть и какие-то холмики (что-то покрытое салфетками). А на виду стояла ваза с непонятными фруктами. А еще выше, на фруктах, стоял золотой стаканчик, и из него выглядывал кусочками сахар. Настоящий белый сахар.
Я стоял, ухватившись за скатерть, и смотрел вверх. И опять что-то неуловимое, подчиняющее, теплое рассыпалось рядом со мной. Это смеялась бабушка. Она поцеловала меня в сосредоточенно заломленную голову и снова увлекла, а я забылся, подчинившись этой волне, и очнулся за столом, вымытый и переодетый. Я ел что-то очень вкусное и смотрел на сахар… Опять бабушка засмеялась – и я уже пил чай вприкуску. Я брал своими руками фантастически белый сахар и пил чай из невиданной чашки. Она была без ручки, и я не мог найти, где эта ручка отломалась. А бабушка объяснила, что чашка такая и была, что это настоящая узбекская пиала.
Я пил чай из пиалы. Вокруг нее, крадучись, ходили парами странные ежики. У них были красные животы и зеленые спины, и ходили они на задних лапах.
А потом я уснул – и увидел, что всюду лежит ослепительно белый сахар. Вокруг меня, как часовые, степенными, вкрадчивыми шагами ходят парами ежики, а бабушка смотрит со всех сторон, и отовсюду слышится ее теплый осыпающийся смех…
Я стою и верчу в руках пиалу. Она точно такая же. Я хорошо помню эту почернелую трещину. Но вокруг пиалы не ходят парами ежики – просто это какой-то азиатский цветок или плод, свисающий на стебле с края чашки. Непонятный и довольно безвкусно нарисованный.
Я иду к дядьке и долго роюсь в энциклопедиях и атласах. Я знаю теперь, как эта штука называется по латыни и как она растет.
Отец красит трубы в моей комнате. Мама кончила разбирать шкаф и шьет. Я думаю о том, что уже вечер и все вернулись с работы. Я начинаю слоняться по комнатам, передвигать слонов на телевизоре, раскрывать и закрывать книжки и даже рассматриваю газету. Наконец, я надеваю пальто, прикрываюсь шляпой и безразлично сообщаю:
– Я пошел за сигаретами.
– Только не возвращайся слишком поздно, – говорит над шитьем мама.
– Будь осторожен, – говорит отец. – На лестнице нет света, а двор разворочен. Ты надел шарф?
Я выхожу на улицу. Закуриваю сигарету и прихожу к моей девушке. Она такая же ласковая и спокойная, как вчера. Я выкладываю все, что накипело за день. А она слушает. И я успокаиваюсь.
А потом мы молчим. А потом снова разговариваем, уже вдвоем. Разговор чего-то касается и нигде не застревает. И я его сразу же не помню.
Потом я говорю, что мне пора, и остаюсь еще на час…
Я иду по дождливой лоснящейся улице, и мне навстречу плывут желтые пятна фонарей. Пусто и поздно. И через десять минут я подхожу к моему дому. У подъезда мокро поблескивает «москвич», и вдоль него красные буквы – «неотложка»… На баранке спит шофер, и мне почему-то кажется, что это – к нам.
Я спешу, спотыкаюсь на лестнице и долго вожусь с замком. В передней пахнет аптекой. Меня встречает дядька. У него сосредоточенный и прилежный вид.
– Когда это с ним? – спрашиваю я.
– С полчаса, наверное.
Я выбираюсь из пальто, как можно тише вхожу к себе в комнату и слышу из соседней слабый голос отца:
– Это ты, Алеша?
Я виновато появляюсь в дверях и не знаю, что делать, что говорить.
– Вот видишь… – говорит незнакомым голосом отец. Я вижу отца.
Белый халат порхает вокруг него. В пепельнице лежат ватки и пустые ампулы. На ручке кресла повисла опустошенная кислородная подушка.
Я стою в дверях и ничего не могу поделать со своим лицом.
– Ничего, Алеша… – слышу я словно издалека.
У врачихи бодрое и спокойное лицо: она делает дело. И она оканчивает его.
– Будет плохо – позвоните, – говорит она и поспешно уходит.
У нее был обыкновенный, обычный голос. И у дядьки в передней был все-таки обычный голос. А у отца… Кажется, это не его голос, такой слабый:
– Как это некстати… Как раз надо шкаф в Москву отправлять, – слышу я из вспухшей подушками кровати.
В этих подушках лежит мой отец. Какой он небритый… Утром он не казался мне таким небритым.
– Впрочем, это всегда некстати… – добавляет он и силится улыбнуться. Это трудно видеть.
Отец лежит ужасно неподвижно. И говорит неподвижно. Перед глазами у него – труба. Это ее он раскрашивал сегодня в два цвета: под цвет обоев и под цвет потолка… И теперь змейки белой краски наползают на красную.
Перед глазами отца – труба. Он открывает глаза:
– Краска натекла. Сотри, пожалуйста.
Он красил эту трубу, и это было последнее, что он делал.
Я вскарабкиваюсь на шкаф и вытираю краску.
– Главное, чтоб насухо, – слышу я снизу, и кажется: из ужасной глубины.
Я стою рядом с кроватью. Я стою рядом с отцом.
– Алеша!
– Да.
– Вытри кисточку… А то я не успел… Нет, не этой тряпкой.
Я вытираю кисточку другой тряпкой.
– Краски заверни и снеси на кухню.
Я успеваю дойти до двери:
– Ты все отнес?
– Да. – Я ставлю банки на пол.
– А хорошо завернул?
– Да.
– Поправь мне подушки…
Перед глазами отца – труба:
– Снова натекло. Вытри еще…
Я снова лезу на шкаф.
– Теперь попей чаю. Ты, наверно, голоден.
Я не хочу чаю, и я молчу.
– Ты слышал… Ты обязательно должен попить чаю.
Я наливаю чай в пиалу.









































