Текст книги "Тень"
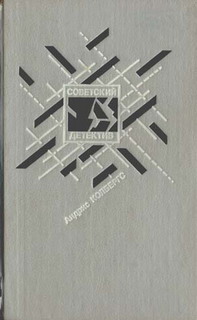
Автор книги: Андрис Колбергс
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Отдай мои деньги, сволочь!
– Предупреждаю в последний раз! Вы не имеете права никого оскорблять!
Мнацоканов на секунду затих, но, верно вспомнив о восьми сотенных, распалился вновь:
– Признавайся, какой шлюхе ты их сунул! У вас тут кругом шлюхи!
– Молчать! – Губы следователя сжались.
– Я… Да хоть мать, хоть дочь – я любую…
– Сержант! Спуститесь к дежурному и принесите бланк протокола. За мелкое хулиганство…
Мнацоканов смекнул, что дело пахнет керосином, и угодливо заверещал про большую дыню, которую он принес с собой и оставил в коридоре.
Полдыни ему пришлось съесть самому, когда его доставили в управление, где на следующее утро сердобольный судья приговорил его к десяти суткам общественно полезной работы по подметанию улиц, а вторую половину у него в камере стащили, стоило ему на минутку задремать. Потом за парашей он нашел лишь обглоданную кожуру.
Следователь и Эрик Вецберз остались в кабинете одни. Снова вопросы и ответы, но никакой ясности они не внесли. Оба раза в пятницу, когда жулик появлялся на рынке, совпадали со временем, на которое у Эрика не было алиби, – он не мог вспомнить, с кем в тот день обедал, и не имел ни одного свидетеля, кто бы мог подтвердить, что вечером после работы он ездил к мотористу пожарной команды. И как нарочно, будто для того чтобы позлить их обоих, доносились из коридора громкие возмущенные голоса южан – они бегали от одного начальника к другому с жалобой на Хария Дауку.
– Вы мне не верите, – мрачно подытожил Эрик. – Но посудите сами, где тут логика! У меня жена, которую я люблю, и дочь, в которой я души не чаю…
– Сколько ей?
– Скоро три.
– А моя уже в третьем классе.
– У меня старуха мать, она мне очень дорога… У меня работа, квартира… Более того… Я знаю, что меня решили выдвинуть кандидатом в местные Советы… Насколько я понял, у этого южанина выманили восемьсот рублей… Это немало, мой трехмесячный оклад, но… Подумайте логически… Я всего третий или четвертый раз в милиции! Впервые попал сюда мальчишкой, потом – когда паспорт получал, и вот теперь…
– Я тоже когда-то думал, что моим сильнейшим оружием будет логика, а оказалось, нелогичного в преступлениях отнюдь не меньше. У самого счет в сберкассе, личная машина, а вымогает сторублевую взятку или крадет краски на пятьдесят рублей для дачи…
– Насмотрелись заграничных фильмов… Там за деньги каждый готов душу продать!
– Правильно! Садитесь, пять! Стефенсон изобрел паровоз, чтобы загрязнить атмосферу. Все хорошее идет с востока, а плохое – с запада. Логично то, что квартира скупщика краденого закрыта обитой железом дверью с парочкой французских замков – и все-таки его обворовывают, и нелогично, что честный во всем остальном человек покупает в подворотне сорванную с кого-то шапку и не только не чувствует угрызений совести, но даже рад своей дешевой покупке. Я столько раз разочаровывался в логике, что теперь верю одним лишь фактам. А факты говорят не в вашу пользу, Гражданин Мнацоканов утверждает, что это вы его обжулили, сторож стройплощадки Берданбело показывает, что это вы подкупили его десяткой, а вы не можете противопоставить ни одного достаточно серьезного аргумента.
– Они все заодно! Они хотят выжать из меня деньги. Этот южанин мне в глаза сказал: гони деньги и гуляй себе на здоровье.
– Будете вы гулять или не будете, это от гражданина Мнацоканова не зависит. – Следователь быстрым движением выдвинул верхний ящик стола и положил перед Эриком отпечатанный типографским способом лист среднего формата. – Случаем не знакомы с этим гражданином?
Если бы Даугава внезапно вышла из берегов и начался потоп или Бастионная горка вдруг превратилась в действующий вулкан – вряд ли это поразило бы Эрика сильнее.
– Моя фотография… Это я… – шептал он. Губы вмиг пересохли. А взгляд запрыгал по крупно набранным строчкам:
«Разыскивается преступник… Рост около 182 см, манера говорить интеллигентная, глаза голубые, волосы темные, слегка курчавые…»
– И рост точно… Как раз метр восемьдесят два… – прошептал Эрик, затем с мольбой взглянул на Дауку, как если бы тот мог что-либо изменить в его пользу.
– Может, напишете объяснительную заново? Есть еще такая возможность.
– Кто вам дал мою фотографию?
– Это не фотография, а рисунок по фотороботу. На основе словесных показаний гражданина Мнацоканова, сторожа Берданбело и того водителя такси, который возил преступника и Мнацоканова по Риге. К сожалению, таксист заболел и в опознании принять участие не смог.
– Я видел, как такие рисунки делают… В кино… – непонятно почему взялся объяснять Эрик. – Подбирают разные части лица…
– Этот очень удачный.
– Я впервые попал в такое положение: наверно, мне трудно будет доказать свою невиновность, но…
– Вы не должны доказывать свою невиновность, я должен доказать вашу вину. Полагаю, что сумею это сделать. Даю вам последний шанс изменить показания. К тем, кто признает свою вину, суд относится мягче.
– Мне оставаться здесь? Или меня тут же арестуют? – встав, спросил Эрик с чувством собственного достоинства. С растерянностью он уже справился. – Надеюсь, вы быстро найдете настоящего виновника.
Харий Даука колебался. Предъявить Вецберзу конкретное обвинение или нет? Будь в биографии парня хоть одно темное пятно, он ни минуты бы не сомневался.
Нет, никуда он не денется, решил наконец следователь. Найду, когда понадобится…
– Можете быть свободны, – сказал Даука.
– Надеюсь, меня отвезут назад. Ведь без шапки и пальто я не могу ехать автобусом.
– Странный вы человек. Другой на вашем месте бросился бы отсюда сломя голову, а вы еще требуете карету. Ах да, – иронически добавил Харий, – на вас абсолютно нет вины, я совсем запамятовал… – Он набрал номер. – Мне дежурного…
Эрик молчал мрачно и решительно.
– В следующий раз так не поступайте, – сказал следователь, ожидая, пока дежурный возьмет трубку. Он чувствовал невероятную усталость. Это все из-за Айги. Врачи не обнадеживали: никаких изменений, а это значит, нет изменений к лучшему. – Мне, может, легче доставить вас в надежное место, чем раздобыть транспорт, чтобы отвезти обратно на завод.
– Меня это не интересует. Я к вам в гости не напрашивался.
– Лучше бы помолчали. – И в трубку: – Мне тут одного на «Варавиксне» подбросить. Ничего, он подождет, пока кто-нибудь поедет в ту сторону…
Эрик оставил кабинет, не сказав ни «до свидания», ни «прощайте».
Эти листки с фотографией где-то вывешены, с ужасом подумал он, входя на территорию завода.
По цехам уже ходили слухи, распускал их Витольд.
– Моя вытрезвиловка этому чистоплюю боком выйдет! Со мной по-хорошему – и я ничего, а кто на меня – берегись! У меня везде свои люди.
Разгадка была на редкость простой: у рынка, недалеко от вытрезвителя, находилась информационная витрина, где вывешивались фотографии объявленных к розыску преступников. Вечером Витольд случайно взглянул на нее и увидел своего врага, а утром позвонил в милицию и назвал фамилию и место работы разыскиваемого.
Глава четвертая
Вначале похоронная процессия двигалась медленно, но вот распорядитель взглянул на часы и незаметно прибавил шагу, чтобы уложиться в срок. Он хотя и работал по графику, составленному, правда, с учетом десятиминутного отдыха между процессиями, но наметанным глазом видел, что тут без речей не обойдется и на всякий случай не мешает минуту-другую сэкономить.
Первой, отделившись от остальных провожающих, за гробом Камбернауса шла его мать, и Зайга подумала, что ей, должно быть, уже за восемьдесят, так как Райво родился поздно – ей тогда было сорок пять.
С черным шелковым шарфом на голове, в черном пальто и черных туфлях на небольшом каблуке, она, пошатываясь и моментами чуть не падая, держалась позади гроба. Когда-то это была стройная женщина, а теперь сгорбленная исхудавшая старуха. Прежде чем гроб закрыли крышкой, она торопливо поправила подушку в головах сына, и всем бросилось в глаза, как сильно у нее дрожат руки. Как при болезни Паркинсона. Однако Зайга не спешила с выводами, она отлично помнила, что эта особа всегда прикидывалась хилой и легкоранимой, но стоило кому-нибудь задеть интересы небесного создания, как на ваших глазах она превращалась в разъяренную тигрицу. На памяти Зайги она никогда не поступалась своими интересами. Разве что из-за Райво. Может быть. Может быть, только ради него.
Считайте меня сухой и бессердечной, но даже в такую минуту мне ее не жаль! А тебя, Райво Камбернаус, я ненавижу! И презираю! Еще как презираю!
Перед гробом несли два венка – один от спорткомитета, другой от товарищей по команде. Из разговоров Зайга поняла, что объявления в газете не было, это мать всех обзвонила и пригласила лично. Объявление вряд ли привело бы их на кладбище, так как Райво держался высокомерно и его не любили.
Процессия, с Зайгой в самом хвосте, петляла, уходила все глубже в низкорослый сосняк. Здесь могилки были свежее, не успели еще обрасти декоративными кустарниками. Там и сям виднелись кучи белого песка, с краю высилась гора жухлых листьев, оберточной бумаги, увядших цветов и венков.
Гроб больше не открывали и после краткой речи опустили в яму. Могильщик зачерпнул лопатой песок, обошел с нею провожающих. Первые три горсти бросила мать Камбернауса, и этот троекратный стук заставил Зайгу вздрогнуть. Потом каждый бросил в могилу свою горсточку. Комья песка глухо ударялись о крышку гроба.
Сперва ты погребла меня, злющая баба, а теперь хоронишь своего сына, никого у тебя не осталось на свете. Тебя будет преследовать рок, как и меня. Ничего у тебя не остается!
Могильщик раздал присутствующим мужчинам лопаты, и все дружно принялись засыпать могилу.
Бум… бум… бум… бум…
Зайга спохватилась, что стоит с закрытыми глазами и что-то бормочет. Проклятия, что ли? К счастью, она была позади всех и никто ничего не заметил.
…Мячи мелькали в полете. Они бухали об пол, как пушечные снаряды. Игроки обороны падали на спину, кидались со всех ног: отразить нападающий удар удавалось редко. Особенно когда бил Райво. Он отличался удивительным хладнокровием и обладал какой-то необыкновенной способностью сориентироваться уже в прыжке. Достаточно было малейшей небрежности при блокировке, и он бил в обход блока, в незащищенное место площадки, обманные удары почти не применял.
На улице моросил октябрьский дождь, осеннее пальтишко так пропиталось влагой, что хоть выжимай, пробирала дрожь, а ведь в спортзале было тепло. Стоя за деревянным барьерчиком, отделявшим площадку от раздевалок так, что образовывался узкий проход в малый зал, на склад инвентаря и в душевые, Зайга смотрела блестящими глазами, как Райво взмывает над сеткой и заколачивает мячи. Он бил как с короткого, так и с длинного паса, пронзая тройной и даже четверной блок. Тренер скупо его похваливал.
В другой части зала лысый ветеран бокса Жанис Дзенис гонял своих учеников. Менее прилежные из них мимоходом посматривали на хрупкую девушку в клетчатом шерстяном платке и с пятнами на лице. Она была не столь красива, чтобы задерживать на ней взгляд, и боксеры вновь прижимали подбородок к ключице, группировались в стойку и, время от времени резко «выстреливая» левой, продолжали охоту за несуществующим противником на воображаемом ринге.
Своих часов у нее не было, и она то и дело поглядывала на циферблат чуть ли не под самым потолком – времени оставалось в обрез, часовая стрелка уже покидала восьмерку.
Райво помахал ей рукой, значит, заметил, и девушка благодарно улыбнулась, хотя и сомневалась, что ее улыбка долетела до адресата.
С улицы, топоча, ввалились двое мальчишек и встали рядом с нею у барьера. Сюда каждый мог заходить запросто, отсюда никого не прогоняли. Парни смотрят, смотрят и в один прекрасный день просятся в команду. Так в спортзальчике завода ВЭФ начинали многие известные в свое время спортсмены: исключительно техничный тяжеловес Свеце, хоккеисты Крастыньш и Салцевич.
Наконец Райво на минутку освободился и подошел к ней. До чего же нравилась девчонке его походка! Гибкая, эластичная. Впрочем, она все в нем тогда боготворила! Каким ничтожеством она ощущала себя рядом с ним, как боялась, что он одумается и выберет себе более красивую девушку, и как была благодарна за то, что он этого не делал.
– Ну, у тебя уже все в порядке, малышка? – Он поцеловал ее в щеку. Майка прилипла к спине, шея и лицо усеяны мелкими капельками пота, который он смахивает рукой.
– Сказали, быть в девять.
– Тогда тебе пора. – Райво посмотрел на часы.
– Идем со мной!
– Ну, малышка! – Райво укоризненно-ласково взглянул на нее.
– Я тебя очень прошу, пойдем со мной, мне страшно. – Зайга прижалась лбом к его плечу.
– Бояться нечего.
– Тебе легко говорить.
– Возьми себя в руки, малышка! Ведь ты у меня храбрая!
– Пожалуйста, пойдем со мной!
– Но у меня тренировка. – Райво бросил взгляд на волейбольную площадку, где его товарищи по команде, делая глубокий вдох и резкий выдох, упражнялись на расслабление мышц, и заторопился. – Когда мы встретимся?
– Только завтра. Мне сказали обязательно взять с собой деньги на такси. Завтра возле техникума. Я буду ждать.
– Держись, малышка. – Райво подмигнул. – Видишь, наши уже строятся. – Райво прижал палец к губам, потом к ее щеке, и девушка радостно улыбнулась.
– Беги, тебя ждут. Я еще пару минут посмотрю, там надо быть ровно в девять.
– До завтра!
– До завтра! – Она чувствовала, как на глаза навертываются слезы.
Волейболисты разделились на две команды и начали игру.
Девушка еще немного постояла и пошла прочь.
Могильщик ловко подровнял лопатой могильный холмик, распорядитель подал знак, чтобы клали цветы. Невдалеке показались двое мужчин с венком, они трусили чуть ли не вприпрыжку и лишь в последнюю минуту спохватились и сорвали с себя головные уборы.
Им дали возможность положить венок и сказать речь.
– Наш трудовой коллектив выражает глубокое соболезнование… Насосы под его надзором за восемь часов давали городу столько-то и столько-то тысяч кубометров воды… Мы его никогда не забудем, никогда не забудем…
Потом, уже на обратном пути, они объяснили, как обознались. Работают на головном предприятии, а насосная станция где-то у черта на куличках, так что своего усопшего товарища, пожалуй, и в глаза не видывали. Так что ничего удивительного.
А представитель спорткомитета говорил прочувствованно, сомнений не было: он знал Райво, возможно, даже играл с ним в одной команде, но когда он сказал: «Это был один из лучших наших волейболистов», Зайга чуть не крикнула: «Врешь! Не один из лучших, а самый лучший!»
Когда девушка вышла из спортзала, осенний дождь барабанил по лужам, небо обложило тучами, и, видимо, надолго. В клубе, наверное, был закрытый вечер в честь Октябрьской годовщины – многочисленные вэфовские цеха устраивали эти вечера один за другим. О том, что вечер закрытый, догадаться было нетрудно: оркестр играл «Рок эраунд зе клок». В то время голос Била Хейли впервые перелетел через Ла-Манш, и, хотя ни Чак Берри, ни – позднее – Элвис Пресли не представляли серьезной угрозы для континента, кое-кто встрепенулся. В газетах писали, что со стороны создается впечатление, будто танцующие рок-н-ролл растирают спины мокрыми полотенцами. В рижских клубах организовывали бригады блюстителей порядка, и те без предупреждения выталкивали любителей рок-н-ролла из зала. Появились и теоретики, которые связывали все беды в воспитании молодежи с этим неприемлемым тандем. Но, подобно всякому запретному плоду, он стал пользоваться особым успехом, и на закрытых вечерах рок-н-ролл наяривали часто и даже как бы в знак протеста.
«Какая-нибудь смазливая куколка, конечно, сманит моего Райво, обязательно сманит, но эти месяцы, которые принесли мне столько счастья, никто у меня не отнимет. Такой счастливой я больше никогда не буду, – размышляла девушка, торопясь по проходу между спортивным и танцевальным залами на улицу, где горели вечерние огни и громыхали трамваи. – Но не слишком ли рано я поджимаю хвост? Ведь это он меня искал в тот раз, а не я его. Я даже не пригласила его на дамский танец, а он все равно разыскал меня и пристал ко мне как банный лист. Нет, он не из тех, кто бегает за каждой юбкой».
На улице Берзаунес, тянущейся вдоль заводских корпусов перпендикулярно сверкающей главной магистрали, было темно, как в глубоком колодце. Одни лишь стволы берез белели, да чавкали под ногами опавшие листья. На миг ей стало страшно, хотя неподалеку, на углу улицы Скангалю, светились фонари.
Она уже была здесь позавчера со Сциллой, та ходила договариваться.
– Только запомни как следует дорогу, не то заблудишься. В темноте все такое чужое и незнакомое. Сейчас мы пройдем мимо вечерней школы, потом повернем направо, а там темным-темно, как в яме, и грязь по щиколотку. Фонари-то стоят, но все лампочки шпана из общаг поразбивала…
– А она что, фельдшерица?
– Почти что врач. А может, и поумнее. Солидная седая дама. Ты ей только не ври, тогда все будет в порядке. Говоришь, пятый месяц, да?
– Я думаю…
– Индюк на навозной куче тоже думает. Ей надо знать точно.
А вот и вечерняя школа. Точь-в-точь как другие здания – аккуратные, построенные перед самой войной двухэтажные особняки. Разве что у школы окна пониже, и прохожим видны с трудом втиснувшиеся за обычные школьные парты взрослые ученики. Встанет отвечать, а парта ему по колено.
От перекрестка и до самого железнодорожного полотна – большой участок, постепенно обрастающий частными домами. Невыразительные, похожие друг на друга, серые, огороженные заборчиками, они выстроились рядами вдоль улочек, спрятались в закоулках. Чем отличались земельные участки один от другого, так это числом фруктовых деревьев и кустов. Но в темноте деревьев не было видно, и девушка ориентировалась исключительно по табличкам с номерами домов, освещенным крохотными тусклыми лампочками. Хотя эра телевидения пока не наступила и час был еще не поздний, свет горел лишь в нескольких окнах. Тротуаров тут не было, ноги утопали в грязи, пробирала холодная дрожь. То поблизости, то вдали лениво тявкали собаки.
Где-то здесь, за поворотом… Третий от угла…
Примерно там, где стоят машина «скорой помощи» и милицейский газик с брезентовым верхом. Может, у ее дома и стоят? Позавчера Сцилла запретила ей идти дальше: если все будет как надо, она сама договорится, а если не выгорит, то докторша только рассердится присутствию лишнего человека и, может статься, в дальнейшем не пожелает иметь со Сциллой никаких дел.
Надо было разглядеть номер дома. Если окажется, что машины приехали к докторше, она как ни в чем не бывало пройдет мимо, если же это возле дома соседей, то ей нет до них никакого дела. Условлено ровно в девять, надо быть вовремя.
Хотя номер дома она помнила не хуже дня своего рождения, в записочку все-таки глянула. Заодно ощупала зашпиленный английской булавкой карман с деньгами: все в порядке, можно идти.
Она пересекла улицу и пошла дальше. Дождь припустил сильнее, капли с шумом шлепались в грязь.
Это был единственный дом, все окна которого освещены. Когда она поравнялась с ним, над крыльцом как раз зажегся довольно сильный прожектор, высвечивая дорожку из бетонных плит и ворота.
Двери открылись, и показались санитары с носилками, на них лежало что-то накрытое белой материей, скорее всего простыней. Из машины «скорой помощи» выскочил шофер, распахнул заднюю дверцу, помог установить носилки.
Внезапно она, сама того не сознавая, подошла к машинам и очутилась между «скорой помощью» и газиком. И увидела на носилках молодую женщину, ее густые черные волосы обрамляли лицо, бледность которого бросалась в глаза даже на фоне простыни. Женщина испустила стон.
Стукнула парадная дверь, и на крыльцо вышли офицер милиции и человек в белом халате с медицинской сумкой, на которой красовался красный крест.
– В таких условиях! Какое варварство! Настоящее убийство!
Человек в халате сел в машину, и она тотчас отъехала, а офицер милиции вернулся в дом. Одно за другим гасли окна. Зайга все стояла, как громом пораженная, и смотрела на номер дома, который только что проверяла по бумажке.
Первой посадили в милицейскую машину какую-то старуху. Та сопротивлялась, доказывала, что она тут ни при чем, ничего, мол, не знает, всего лишь грела воду. Затем вывели женщину в поношенной шубе.
Зайга очнулась и пошла назад. Милицейская машина, поравнявшись с нею, притормозила, и она скорее почувствовала, чем увидела, что через боковое окно ее внимательно разглядывают. Затем газик тронул с места – и вскоре его габаритные огни растаяли в темноте.
Похоронные речи окончены.
Распорядитель с трагическим выражением лица, будто только что потерял дорогого ему человека, выражает матери Райво последнее соболезнование. Его ждут не дождутся в часовне, чтобы начать новые похороны.
Мало-помалу толпа вокруг могильного холмика редеет, провожающие расходятся. Кто-то вполголоса декламирует: «Плитой придавили могилу Роба…» Долг исполнен.
Мать Райво и представитель спорткомитета еще медлят, она, кажется, объясняет ему, каким будет памятник, а он поглядывает через плечо, прикидывая, успеет ли догнать приятелей, удаляющихся по аллее. Они все же решили пропустить по стаканчику, помянуть-таки усопшего в компании экс-спортсменов.
Ишь, Райво Камбернаус, даже памятник тебе поставят! И, может быть, большой, красивый; скульптор ведь не знает, что ты был за человек. А если и знает, все равно сделает красивый, ведь деньги платят не за правду, а за красоту!
На Зайгу с упакованным в бумагу букетом не обращали внимания, все думали, что она подошла просто из любопытства.
Она приблизилась к куче мусора – выбросить оберточную бумагу – и с трудом удержалась, чтобы не отправить туда же и розы. Цветы свежие, словно только что срезанные, на нежных темно-красных лепестках – капельки росы. Стебли длиннющие, да и букет огромный, ценой, пожалуй, затмит все остальные цветы на могиле Райво.
– На, жри и подавись, Камбернаус! – губы ее шевелятся беззвучно, а в душе стоит крик. – С этой минуты я забуду тебя! Ты умер, и все, и конец!
Огромные розы цвета любви удивляют и потрясают старуху в траурном одеянии. Она вскрикивает:
– Надломите, надломите стебли, не то украдут!
– И пусть!
Откуда тут эта богатая, элегантная дама? Кем она была для Райво? Лучше бы не тратилась на цветы, а спасала его, пока был жив!
Не припомнишь меня, старая? Конечно, нет. Слишком многих он проводил через свою комнату.
«Желаю счастливой старости!» – расчетливый удар. В самое сердце. Если бы Райво порадовал тебя внуками, они обязательно присутствовали бы на похоронах. И распорядитель тоже никаких внуков не упоминал.
Стройная, представительная, одетая, как манекенщица из дома моделей, она направилась к выходу, провожаемая взглядом остолбеневшей старухи.
Интересно, тот ли у тебя теперь взгляд, равнодушный и невидящий? Как ты умела степенно кивать головой, отвечая на мое робкое приветствие! Приветствие краснеющей, стыдливой девчонки, которая, чтобы не беспокоить хозяйку, проходила через ее комнату в чулках. Мои туфли ты всегда видела в прихожей, не так ли? Ты замечала их только потому, что они были очень уж простенькие и не раз побывали в починке. Что же делать девчонке, если лучших у нее нет? Стипендия с гулькин нос, из дому денег прислать не могут. Пришлют иногда шмат сала или мешок картошки, и на том спасибо. Те, кто ютился в общежитии, были из бедных семей: кто посостоятельнее, снимали вдвоем или втроем комнатушку. Может, они и не жили лучше, зато настроение у них было другое.
Сколько я помню, ты всегда смотрела телевизор, утопая в мягком кресле. Да-да, у тебя был телевизор. Я впервые увидела этот ящик в твоей квартире. Он должен был свидетельствовать о том, что твоя семья живет в достатке, занимает привилегированное положение и шагает в ногу с прогрессом. Считанные вечера тебя не было у телевизора. Иногда закрадывалась мыслишка, что ты специально поджидаешь нас, чтобы потом лечь спать.
– Привет, ма, – говорил Райво, таща меня за руку.
Мать, не отрывая взгляда от экрана, величественно кивала. Так, будто никакой девушки здесь нет, будто никто, кроме ее сына, и не промолвил «добрый вечер».
Комната Райво была маленькая, почти треугольная. Стол, несколько стульев, магнитофон, привинченная к двери вешалка, полка с кое-какими книжками, купленными еще в школьные годы, диван, и над ним, в лакированных рамках, дипломы за спортивные достижения. И еще газета «Спортс» – свежие номера и старые – на столе, на подоконнике и даже на полу.
– Музыку поставить?
Она покачала головой.
– Немножко…
– Ладно, поставь.
– Пойду поищу чего пожевать. Ты ведь хочешь есть?
Она утвердительно кивнула. Райво исчез и вскоре вернулся с бутылкой молока, бутербродами с колбасой, сыром и другими яствами, которые нашлись в холодильнике.
Подкрепляясь, они ждали, пока в первой комнате мать выключит телевизор и постелет себе.
– Погаси свет, – сказала она. Боялась, что он увидит набежавшие слезы, и это оттолкнет его. Увидит округлившийся живот, и это его отпугнет.
– Какие у тебя налитые груди…
– Так и должно быть, – прошептала она.
– Как я хочу тебя!
И она подчинилась, хотя охотнее всего отвернулась бы и дала волю слезам.
– Может, еще разок попробовать у той докторши? Может, ничего страшного там не произошло? – спросил Райво чуть позже.
– Попрошу Сциллу, пускай сходит.
– Если там не выйдет, я поговорю с Варисом. Ты его не знаешь, он играет в защите. Его жена работает акушеркой. Да, кстати, тренер думает, что меня все-таки возьмут в сборную. Вот когда начнется колоссальная житуха!
Прошло еще две недели.
Внезапно обнаружилось, что Райво Камбернаус очень занят, он не пришел на свидание, а потом позвонил в общежитие и сказал, что тренируется в сборной и нет ни одной свободной минутки. Кроме того, надо оформиться на другую работу, там будут платить побольше, чем на ВЭФе, только вот новый начальник вообразил, что, когда у спортсменов нет соревнований или тренировочных сборов, они должны потеть на работе наравне со всеми. Не грусти, малышка, выше голову!
Она слушала голос, доносившийся из трубки, и машинально кивала, у нее уже не было ни сил, ни храбрости, ни веры.
В красном уголке крутили пластинку с песнями Ива Монтана, мягкие, округлые, как вербные сережки, слова скатывались по крутой деревянной лестнице общежития: «Мертвые листья легли на порог, забыть ничего я не смог. Помню и ласку, и каждый упрек, смех твой и слезы в сердце сберег! Как же ты хочешь, чтоб я позабыл твой образ прекрасный…»
Еще через неделю она собралась с духом и пошла к матери Райво. Она хотела поговорить с нею, но, завидев в дверях эту гордую и неприступную женщину, едва слышно вымолвила:
– Скажите, пожалуйста, Райво дома?
Я видела, старая карга, как ты колебалась, пускать ли меня в квартиру. Чтобы объясниться на лестничной клетке, тебе хватило бы одной-двух фраз. Но, подумав, ты решила, что рано или поздно придется со мной переговорить, а на лестнице могут услышать соседи, и вдруг я в отчаянии зареву. Райвик был гордостью клана, звездой для всего дома, ты не могла допустить, чтобы померк непорочно чистый блеск этого светила.
– Райво на сборах, когда приедет, он вам позвонит. Зайдите на минутку.
Ты уселась в свое мягкое кресло, это вечное, проклятущее кресло, а я стояла перед тобой, как подсудимая.
– С женой Вариса ничего не вышло… Если бы раньше, дело другое, а так слишком большой срок…
Я стиснула зубы и потупила взор. Хотя можно было и обрадоваться тому, что ты в курсе и мне ничего не надо из себя выдавливать.
– У одной моей подруги есть знакомая, она может помочь… Это дорого, но я вам добавлю, сколько понадобится… Адрес…
– Нет, – пробормотала я, но ты, видимо, не поняла, иначе твой спокойный тон изменил бы тебе.
– Но с таким уговором, что после этого вы поедете к себе в деревню, вам нужен будет абсолютный покой. Вы из какой волости?
– Я живу в поселке.
– В субботу…
– Не заставляйте меня! Пожалуйста! Я не хочу этого! – Я заплакала в голос. – Мне страшно! Я могу умереть! – Захлебываясь, я принялась рассказывать о черноволосой женщине, все еще стонавшей на носилках, стоило мне прикрыть глаза.
Я была готова упасть на колени и поклясться, что буду самой лучшей, самой послушной невесткой, какую только можно вообразить, что буду любить свекровь, уважать ее и трудиться по дому в поте лица. Что и Райво хочет быть со мной, быть всегда, что через два года я окончу техникум и сама смогу прокормить себя и своего ребенка, что я не буду никому в тягость. К работе я привычная и никогда ее не чуралась. Но ничего этого не сказала, только молола языком одно и то же: все о той женщине, об упиравшейся старухе, вопрошавшей: «За что же меня, я только грела воду», о возмутившемся человеке в белом халате: «В таких условиях! Настоящее убийство!»
– Помочь можно только тому, кто хочет, чтобы ему помогли! – холодно промолвила ты в ответ. – Справляйтесь сами, у меня тоже есть нервы!
Ты выбросила меня за дверь. Я была унижена, я была в отчаянии. Ушла-то я сама, ты меня и пальцем не тронула, но все равно: меня выставили за дверь. Как потаскуху, как последнюю шлюху. Хорошо еще, что ты не сказала: «А может, Райво не единственный претендент на отцовство?» Не лги, эта фраза была припасена у тебя, чтобы заставить меня решиться, но ты побоялась ее высказать. Из-за Райво. Ведь он притаился в своей комнате и слышал все до последнего слова. Да, он был тряпкой, и ты это знала. И опасалась, что такая фраза заденет его мужскую гордость. Но, наверное, не стоило опасаться.
Уже внизу, во дворе, я слышала, как ты хлестала его по щекам. Окно было открыто. Рыдая, ты кричала в гневе: «Кобель поганый! Чтоб духу твоего тут не было!» И отвешивала ему оплеуху за оплеухой, а он только и мог что лепетать: «Не надо, мамуля, ну, не надо, мамуля!» Так ты облегчила свою совесть.
А в общежитии я узнала, что мое дело будет рассматриваться на заседании педсовета. Возможно, никто за мной специально не следил, скорее собственный живот меня предал. Как ни одевайся, а скрыть уже ничего нельзя было.
Ну а чем могла попрекнуть своего баловня ты, старая карга? Глупо было разыгрывать удивление. Ты же десятки раз видела, как я остаюсь с Райво на ночь; может, думала, мы всего лишь целуемся? Последний дурак тебе не поверит. Нет, ты просто надеялась, что все обойдется. Мальчику ведь это необходимо для правильного обмена веществ. К тому же хорошо, что у него одна девушка, не то еще подхватит дурную болезнь. Ты не считала меня за человека, для тебя существовал один Райво и еще его слава. И теперь ты пожинаешь то, что посеяла. Только что вместе с этим размазней предали земле твои надежды и мечтания, а ты сама, в наказание, еще помучаешься, побегаешь за своей смертью…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































