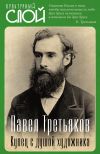Текст книги "Третьяков"
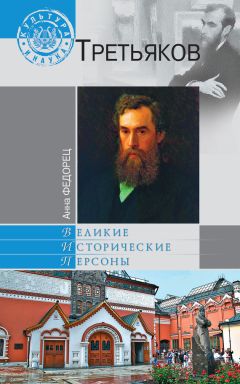
Автор книги: Анна Федорец
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Н.А. Мудрогель говорит о другом приятном Третьякову награждении: «Одно только звание он принял: звание почетного гражданина города Москвы. Москву он очень любил, и надо полагать, присуждение звания ему доставило удовольствие, потому что он его принял без всяких разговоров». Третьяков был первым купцом, удостоившимся подобного пожалования. А.П. Боткина замечает на этот счет: «Последнее пожалование в связи с передачей собрания городу Москве – присвоение Павлу Михайловичу звания почетного гражданина города Москвы в марте 1897 года – было, конечно, почетно и лестно, но шум, поднявшийся вокруг этого, бесконечные благодарности и адреса угнетали всегда скромного и застенчивого Павла Михайловича». На основании этого Александра Павловна делает вывод, что само звание было Третьякову неприятно. Думается, что здесь прав скорее Мудрогель. Пожалованием в почетные граждане Москвы Третьяков гордился – даже несмотря на поднявшийся уже позже «шум», создававший помехи его основной деятельности.
У Павла Михайловича никогда не было того, что сегодня назвали бы «звездной болезнью». Имя его было на устах у многих, он мог бы возгордиться успехами, но… такое впечатление, будто Третьяков был напрочь лишен тщеславия. Честолюбие было ему присуще, особенно в первой половине жизни, когда он только начинал воплощать свой собирательский замысел, – но тщеславия, стремления воспользоваться теми благами, которые он не заслужил, за ним не водилось никогда. Третьяков, как человек с огромным христианским чувством, старательно избегал всего, что привело бы его к гордыне. Бороться с гордыней ему помогала привычка неизменно отдавать себе отчет, насколько велика его заслуга в том, что он сумел осуществить. Что он сделал хорошо, а что недоделал. Что из сделанного им важно, а что не очень. Что, наконец, следует выносить на суд людской, а что должно скрываться плотной завесой безмолвия.
В начале этой главы говорилось, что существует совершенно определенный, хорошо знакомый массовому сознанию образ П.М. Третьякова. Созданный десятками фотокарточек, множеством воспоминаний самых разных авторов, а в конечном итоге – тиражируемый самими исследователями. Тот самый образ, который рисует Третьякова как своего рода подвижника: серьезного, сосредоточенного, с мягкой грустью во взоре. Глядя на такого Павла Михайловича, кажется, всецело поглощенного великой своей задачей, исследователи его судьбы и трудов один за другим попадаются в ловушку «устойчивого образа». Modus vivendi мецената, хорошо известные поступки его и манеры нередко заставляют исследователей думать о нем как о человеке неизменно серьезном, если не прямо суровом. Даже некоторые примеры из воспоминаний, доказывающие обратное, не заставляют авторов многочисленных статей усомниться в правильности подобного образа Третьякова. Исключение лишь подтверждает правило, не так ли? Но когда исключений набирается слишком много, естественно сделать другие, совершенно противоположные выводы.
Павлу Михайловичу было присуще тонкое чувство юмора. Эта черта особенно важна для понимания личности Третьякова. Если бы он был человеком сухим, лишенным чутья к хорошей шутке – как мог бы он проникать в самую суть картин, понимать их глубинную взаимосвязь с миром художника? У того, что исследователи упорно игнорируют любовь Павла Михайловича от души повеселиться вместе с немногими друзьями и членами семьи, есть только одна причина: при жизни мецената о ней догадывались лишь самые близкие люди.
Уже приводилась цитата Н.А. Мудрогеля, сообщавшего, что в его семье Павла Михайловича называли «неулыбой», «потому что он никогда не только не смеялся, но даже не улыбался». Однако… возможно, увидеть улыбку на лице Третьякова Николаю Андреевичу мешала пролегавшая между ними социальная дистанция. Источниками, позволяющими сократить эту дистанцию до минимума, являются воспоминания дочерей Павла Михайловича, а также его собственные письма.
Так, А.П. Боткина, рассказывая о друзьях отца, пишет: «Павел Михайлович, не экспансивный, но ценивший дружбу и понимавший юмор и шутку, был искренно любим всеми окружающими». В.П. Зилоти, повествуя об отце, все время пишет: «рассказывал с большим юмором», «рассказывал, смеясь до слез», «рассказывал, заливаясь тихим смехом». Она же постоянно говорит о его улыбке: «милой, лукавой», «ласковой и часто лукавой». Вера Павловна сообщает: «Наш отец ценил и любил беседы с Николаем Николаевичем Ге, но иногда мило подшучивал над ним». Самоирония сквозит в письме Павла Михайловича матери, написанном в 1852 году, во время его первой поездки в Петербург: «Я знаю, Вы имеете хотя небольшое, но все-таки сомнение: не испортился бы я в П.-Бурге. Не беспокойтесь. Здесь так холодно, что не только я, но и никакие съестные продукты не могут испортиться». А с каким юмором Третьяков описывал домашним заставшую его врасплох болезнь! «Искусно скрыв свою тайну, свое намерение напасть на меня врасплох, препожаловала ко мне Лихорадка, бесцеремонно познакомила меня с собой, да и заквартировала себе. Напрасно старался я не поддаться ей, хотел переломить или выгнать своими средствами, но не удалось… И то, что составляет ее особое качество – чрезвычайно бесит: то здоров, то вдруг ни с того, ни с сего опять болен, отвертишься как-нибудь, отделаешься наконец, а все должен стеречь себя, как после воровского посещения, как бы не забралась опять».
Павел Михайлович мог при случае и съязвить. Так, когда музыкант получил от Третьякова согласие на брак с его старшей дочерью Верой, «мамочка спросила Зилоти, слышал ли он, как ужасно “бедная Вера Павловна кашляет? ” – “Про кого это вы говорите? ” – с недоумением в голосе в свою очередь спросил Зилоти. Отец мой его поддразнил: “Хорош, не знает, на ком женится”. – “Ах, это вы про Веру говорите. Она ни разу даже не поперхнулась”».
Любил Павел Михайлович посмеяться и над чужой шуткой. В.П. Зилоти рассказывает о частых посещениях живописца В.Г. Перова, друга семьи Третьяковых: «Помню с детских лет, как он часто приходил к нам завтракать или обедать; его остротам, которых мы не могли понимать, и рассказам, из которых мы некоторые понимали, – не было конца; говорил он мягким голосом, серьезно, а все взрослые за столом заливались смехом, в особенности наш отец».
Подобных примеров можно привести немало. Может, исследователям стоит почаще сомневаться в неоспоримости когда-то сделанных выводов? Почаще задаваться вопросом: следует ли воспринимать тот или иной эпизод из воспоминаний современника о Павле Михайловиче как хронику жизни истинно великого мужа? Или… это просто была его удачная шутка?
Прекрасный пример – небольшая зарисовка из воспоминаний художника Я.Д. Минченкова, которую пересказывают все сколько-нибудь серьезные знатоки Третьякова, чтобы подчеркнуть его особо трепетное отношение к картинам.
Я.Д. Минченков передает рассказ И.П. Свешникова, чудаковатого и прижимистого купца-коллекционера, одного из тех, кто вслед за Третьяковым увлекся составлением галерей и галереек самого разного качества. Художники подобных коллекционеров не уважали: толку в картине не видит, а торгуется почем зря. Вот слова Свешникова: «Захожу раз по делу к Павлу Михайловичу в понедельник, а он по этим дням, когда публику не пускают в его галерею, сам ее обходит. Иду и я в галерею, вижу: стоит Третьяков, скрестив руки, и от картины взора не отрывает. “Что ты, – спрашиваю, – Павел Михайлович, здесь делаешь? ” – “Молюсь”, – говорит. – “Как так? Без образов и крестного знамения? ” – “Художник, – отвечает Третьяков, – открыл мне великую тайну природы и души человеческой, и я благоговею перед созданием гения”. Вот как сейчас слышу эти слова. И стал он мне разъяснять и указывать на суть дела. Умный человек был и с умными дружбу вел». Заключает свой рассказ Свешников следующим образом: «И вот стала спадать пелена с глаз моих, и то, о чем я смутно догадывался, теперь в картинах яснее увидел. Все стало родственно и дорого мне. Поверите ли: с портретами сдружился и с ними беседовал. Посмотрю в глаза иного портрета и уже понимаю то, о чем думает этот человек. Прихожу в другой раз, киваю ему головой, как знакомому, он мне глазами улыбается. С великими мужами молча беседовал. Хотел свою галерею строить, да передумал».
Чем тоньше присущее человеку чувство юмора, тем лучше оно маскируется под маской монументальной серьезности. Павел Михайлович, так хорошо «разбиравший» людей, так не любивший, когда ему лезут в душу, – неужто он стал бы признаваться в сокровенных вещах малознакомому, не разделяющему его увлечений человеку, с которым его связывают исключительно деловые отношения? Звучит неправдоподобно. Особенно, если не забывать, что Третьяков, добрый христианин, придерживался заповеди «не сотвори себе кумира», а значит, не мог молиться полотнам. Третьяков пошутил, и шутка эта оказалась столь удачна, что ввела в заблуждение не только его простоватого современника, но и образованных потомков.
Итак, «архимандрит» или «папаша»? Какой из этих образов полнее отражает настоящую личность мецената? Какой являлся в ней преобладающим? Думается, второй.
Люди, которые живут рядом с вулканом и наделены от природы наблюдательностью, по малейшим признакам могут заметить момент его пробуждения. Достаточно струйки пара из жерла, странного поведения животных, подрагивания почвы. Так же и внимательный наблюдатель, оказавшись рядом с Третьяковым, мог заметить на лице его легкие тени от душевных страстей. Иной же не замечал. Павел Михайлович был человеком страстей – но страстей скрытых, подобно вулканической лаве бушующих под несколькими слоями почвы. Слоями этими были: чувство долга, вежливость, тактичность, мягкая обходительность, замкнутость… нежелание тратить время на пустые обсуждения эмоций. Архимандрит, серьезный, сосредоточенный, являлся лишь защитной маской, надевавшейся Третьяковым для удобств делового общения с людьми. Ведь страсти, случайно прорвавшись наружу, могут обжечь тех, кто находится рядом с ним и даже его самого.
Но у Третьякова выработались пути, по которым эти страсти, эту неиссякающую жажду совершенства можно было пускать, не опасаясь, что они кого-то заденут. Таких путей было два: семья и дело жизни Павла Михайловича – его галерея. Находясь в кругу семьи или в мире художества, Павел Михайлович вел себя совершенно иначе, нежели когда занимался делами или сталкивался с людьми малознакомыми.
В кругу семьи или друзей, а также некоторых особо близких семье художников Павел Михайлович бывал весел, расслаблен, даже общителен. «Сам всегда серьезный, малоразговорчивый, Павел Михайлович вдруг оживлялся, он особенно любезно говорил с художником, как никогда и ни с кем». Кроме того, Третьяков был прекрасный, любящий семьянин. Здесь прекрасной иллюстрацией может служить наблюдение А.П. Боткиной. Павел Михайлович заботился о детях, иной раз дразнил их: «Когда никого не было чужих, отец шутил и дразнил детей. Я помню от времени до времени повторяющуюся шутку, которая неизменно имела успех. Он вынимал из кармана платок, свертывал его долго в продолговатый комочек, начинал вытирать нос, водя платком из стороны в сторону, и хитро поглядывал на детей. Мы сразу настораживались – это означало, что последует нападение. Тогда он приступал: “Взять Веру под сомнение давно бы уж пора! ” – “Не-ет”, – обиженно отвечала старшая. “Взять Сашу под сомнение давно бы уж пора! ” – “Не-е-ет”, – умоляюще тянула вторая. “Взять Любу под сомнение давно бы уж пора! ” – “Не-е-ет! ” – заранее приготовляясь плакать, басила третья. Почему-то это казалось очень обидным и страшным».
Когда же Александра Павловна заходила в контору, там, в деловой обстановке, она видела отца изменившимся до неузнаваемости. «Я хорошо помню, когда нас посылали с каким-нибудь поручением к Павлу Михайловичу, было очень интересно слышать целый хор щелкания на счетах, но и жутко, потому что в конторе отец казался таким строгим и чужим». Далее Александра Павловна приводит чужое свидетельство, говорящее о том же: «Это впечатление подтвердил мне С.А. Раковский. Он знал Павла Михайловича с 1885 года, с тех пор, как еще конторским мальчиком водворился в каморочке, находившейся в коридоре за конторой. Он прожил в ней около трех лет. Он работал в комнате рядом с конторой Павла Михайловича, двери были не навешены, работа Павла Михайловича проходила на его глазах. И вот он наблюдал в Павле Михайловиче двух различных людей: как только Павел Михайлович входил в контору, весь облик его делался серьезным и строгим. Дисциплина в конторе была строгая. Но когда Раковскому с каким-нибудь поручением приходилось заставать Павла Михайловича в галерее, он видел совершенно другого человека, спокойного, обходительного. Иногда Павел Михайлович обращал внимание молодого человека на некоторые картины. Таким же он был, когда занимался по вечерам один в конторе. Павел Михайлович бывал мягок и даже ласков с ним».
Находясь рядом с семьей или с друзьями, Третьяков был человеком теплым, чутким, отзывчивым; внутренний огонь его был мягок, грел, не обжигая. «Помню, он с удовольствием приезжал на дачу, в Куракино, на чистый воздух, в свою семью, за обедом был ласков со всеми, перекинется, бывало, добрым словечком, как сейчас вижу его особенное лицо, внимательное и доброе! – их столовая, с широким длинным столом, во главе тетя Вера сидит с ним рядом, так широк был стол и полон детей и домашних». В стенах же галереи по-настоящему проявлялся весь жар страсти П.М. Третьякова. В.В. Стасов писал в посвященной Третьякову статье: «Третьякова… устремляли на дело лишь горячая и глубокая страсть, твердое намерение совершить такое дело, которое наполняет всю душу и является задачей жизни». Эта же мысль звучит в одном из писем И.Е. Репина. Соглашаясь на уступку Третьякову в цене, художник отмечал: «Нельзя не сочувствовать этой колоссальной, благородной страсти, которая развивалась в Вас до настоящих размеров». Наконец, тот же Репин, говоря в одном из писем о Третьякове, уважительно замечал: «Я не встречал более страстного созидателя… Павел Михайлович ночей не спал, пока не находил лучшего места для каждой картины».
Галерея была любимым детищем Третьякова, и неудивительно, что он мог выйти из себя, когда его собранию угрожала опасность – как в уже упоминавшемся случае с десятником, плохо вмазавшим стекла, в результате чего они могли выпасть из рам и повредить картины.
И галерея, и семья были тем руслом, в которое Третьяков направлял свою жажду совершенства – и получал отдачу, радость, а вместе с ней своего рода гарантию того, что эти страсти в неподходящий момент не прорвутся наружу сквозь прочные оковы самоконтроля. Итак, Павел Михайлович был человеком сильных страстей, – но страсти эти он гармонизировал и не давал им выйти наружу на всеобщее обозрение. Он не фонтанировал словами, не изливал на окружающих эмоции, он… спокойно, без ненужной шумихи изменял мир поступками. В этом и проявлялась страстность Третьякова, которую могли созерцать лишь ближайшие люди: Т.Е. Жегин, жена, отчасти – дочери и некоторые художники. Только они, члены этого узкого круга «ближних», имели возможность увидеть настоящего П.М. Третьякова, во всей полноте его многогранной личности. Для остальных Павел Михайлович был… «закрытым сундуком»: можно сколь угодно долго любоваться рисунком на его крышке, гладить рукой неизменно холодноватое дерево и гадать, из какого металла сделан огромный висячий замок, – но увидеть содержимое сундука нельзя до тех пор, пока он по собственному желанию не откроется и не явит окружающему миру свои богатства.
Личность любого человека в той или иной мере неотделима от его семьи и друзей – от всех тех, кто представляет для него наивысшую ценность, является в определенном смысле продолжением его самого. События и переживания, выпадающие на долю близких, не могут не отражаться на эмоциональном состоянии «центровой личности», не могут не влиять на ее поступки – даже если эта личность обладает столь высокой степенью самодостаточности, как Павел Михайлович Третьяков.
Внутренний мир Третьякова на протяжении многих лет трансформировался, и весьма серьезно. Прочесть это изменение, понять влияющие на него факторы можно лишь вглядываясь в хронику семейной жизни Павла Михайловича.
«Милый дружочек Паша». Дела семейные
2 декабря 1850 года скончался Михаил Захарович Третьяков. Павел Михайлович сделался старшим мужчиной в семье. До восемнадцатилетия ему осталось 13 дней…
Благодаря составленному М.З. Третьяковым завещанию, основная тяжесть коммерческой деятельности легла не на плечи Павла Михайловича. Тем не менее старшему сыну пришлось всерьез впрячься в отцовское дело – насколько это соответствовало последней воле Михаила Захаровича. Кроме того, именно Павел Михайлович принял от отца другую ношу: заботу о членах семейства.
Прежде всего, П.М. Третьяков позаботился о том, чтобы со смертью отца Третьяковы-младшие не лишились возможности учиться. Занятия на дому с преподавателями продолжили как сестры, так и оба брата. Учебу приходилось совмещать с работой, поэтому «братья днем сидели в лавке, а по вечерам продолжали свое образование. Приходили учителя, и молодые люди учились и читали до глубокой ночи». Разумеется, времени на занятия у братьев было меньше, нежели у сестер. Осваивать приходилось лишь самое насущное – то, что помогло бы им лучше ориентироваться в деловой жизни. Так, Павел Михайлович отлично разбирался в бухгалтерии и часто перепроверял отчеты, составленные бухгалтером фирмы. Третьяков живо интересовался новыми знаниями по географии, много читал сочинения путешественников. Иностранными же языками он владел не слишком хорошо. В.П. Зилоти пишет, что одно время к Третьяковым на обеды приезжал немецкий дирижер М. Эрдмансдёрфер с супругой. «Нашему отцу, года через два, надоели слишком частые обеды с разговорами на иностранных языках, которые он понимал, но на которых не говорил (мамочка говорила прекрасно по-немецки и по-французски). Эти смешанные разговоры были отцу утомительны и неинтересны; он, помню, улыбаясь, как-то выразил это, напевая полуговорком из оперетки “Прекрасная Елена”: “Много цветов, слишком много цветов”. Отношения оставались дружественные».
После кончины Михаила Захаровича Третьяковы по-прежнему жили на съемной квартире в доме купцов Шемшуриных, в приходе церкви Иоанна Воина на Калужской улице. Но… это было лишь временное жилище. Павел и Сергей Михайловичи уже вступили в возраст жениховства, близилась свадьба Елизаветы Михайловны. Кроме того, торговое дело Третьяковых, постепенно расширяясь, нуждалось в новых помещениях – конторе, складах. Семейству требовался собственный просторный дом. Деньги, которые компаньонам доставались в виде прибыли, вероятно, вновь запускались ими в торговый оборот. Зато те капиталы, которые они получали с эксплуатации бань и со сдачи внаем отцовского дома, можно было потратить на покупку недвижимости.
А.П. Боткина пишет: «В 1851 году… братья решили приобрести в собственность поместительный дом… Они купили у администрации по делам купцов Шестовых дом в Толмачах, который и послужил основой Третьяковской галерее. По преданию, северо-западный угол этого дома обгорел во время пожара Москвы в 1812 году. Третьяковы въехали в обстановку Шестовых». Владение было приобретено в конце лета 1851 года.
Новое владение Третьяковых – каменный двухэтажный дом – было расположено неподалеку от старого, в самом сердце Замоскворечья, между Малым Толмачевским и Лаврушинским переулками. «Дом стоял в глубине двора. По обеим сторонам двора вдоль Лаврушинского переулка были подсобные флигели… В одном помещались кухня, прачечная, кладовые. В другом – каретный сарай, конюшни». «Параллельно южной границе, шел каменный забор, отделявший наш двор, “господский”, от “заднего двора”, где под длинным навесом стояли полки и сани для перевоза товаров… От левого угла дома, вровень с фасадом, начинался сад, отделенный от двора оградой, шел до самого Толмачевского переулка, во всю ширину нашей земли. Сад был обсажен по левой, церковной, стороне и по переулку – большими, раскидистыми серебристыми тополями, дававшими летом черную тень. Зрели в нем китайские яблоки, цвели кусты сирени, шиповника, жасмина… Кое-где стояли под тополями скамейки».
В новый дом в Лаврушинском переулке Третьяковы перебрались не ранее 16 августа 1851 года и не позднее 15 августа 1852-го. В XIX столетии человек, переселившийся из одного района Москвы в другой, иной раз даже с одной улицы на другую, автоматически покидал состав своей приходской общины и становился членом другого прихода. Переехав в приобретенный у Шестовых дом, Третьяковы оказались в составе прихода Никольского храма в Толмачах, к которому этот дом был приписан. Но нередко среди прихожан создавались столь тесные связи, что и после переезда на новое место жительства человек продолжал посещать старую церковь, поддерживать прежние хозяйственные и дружеские отношения. Вот и семейство Третьяковых посещало «родной» Николо-Голутвинский приход до скончания дней, поддерживая контакты с местным клиром. Священник Голутвинского прихода П.С. Шумов со ссылкой на предшественника А.А. Виноградова пишет: «Когда я поступил к Николо-Голутвинской церкви в дьякона в 1857 г., то в это время уже… два брата П. и С. Михайловичи вместе с матерью жили в теперешнем доме у Николы в Толмачах. Но я все это семейство видал, так как они долгое время езжали каждый год исповедоваться в нашу церковь к упомянутому священнику».
Поддерживая прочную связь со старым, Николо-Голутвинским, приходом, Третьяковы, тем не менее, были обязаны «включиться» в жизнь той общины, к которой были отныне приписаны: хотя бы раз в год исповедоваться и причащаться у священника Николо-Толмачевской церкви, делать свой вклад в решение приходских вопросов. И участие Третьяковых в делах, связанных с этим храмом, было весьма активным. Свою церковь они регулярно посещали, жертвовали на ее нужды. Довольно быстро семейство завело знакомства среди новых соседей. Именно здесь Павел Михайлович отыскал себе товарищей, с которыми вел увлеченные беседы на темы искусства и культуры. Кое в чем эти разговоры, надо полагать, предопределили будущие искания П.М. Третьякова в художественном мире.
С давних времен в Николо-Толмачевском приходе обитало семейство видных московских купцов и домовладельцев, почетных граждан Медынцевых. В 1852 году их семейству принадлежало 3 из 26 дворов, приписанных к Никольскому храму. Моментом, когда начались их приятельские отношения, считается январь 1853 года. П.М. Третьяков общался с Павлом Алексеевичем и особенно с Алексеем Алексеевичем Медынцевыми. Еще раньше, в августе 1852 года, во время деловой поездки на Нижегородскую ярмарку, Павел Михайлович познакомился с саратовским купцом Тимофеем Ефимовичем Жегиным; теплая дружба с этим человеком не прекращалась на протяжении многих лет. Братья Третьяковы, Владимир Коншин, братья Медынцевы, Жегин, а также московский коммерсант Дмитрий Егорович Шиллинг объединяются в небольшой кружок, призванный удовлетворять их общие культурные запросы.
А.П. Боткина пишет: «Вокруг братьев Третьяковых начинают группироваться молодые люди из новой купеческой среды. Появляется наезжающий из Саратова тамошний купец Тимофей Ефимович Жегин. Познакомились и сблизились с соседями по Толмачевскому переулку – братьями Алексеем и Михаилом Алексеевичами Медынцевыми». А.П. Боткина, по-видимому, ошибается, называя имя Михаила Медынцева, а вслед за нею ошибку повторяют исследователи. На протяжении нескольких лет исповедные ведомости фиксируют живущих в Николо-Толмачевском приходе Алексея, Петра и Павла Алексеевичей Медынцевых, но Михаила среди них не было. Это подтверждается и другими источниками. В переписке членов кружка с П.М. Третьяковым фигурируют имена двух из братьев – Алексея и Павла, а художник А.Г. Горавский упоминает также Петра Алексеевича.
Александра Павловна помещает в центр кружка своего отца и дядю, и это вполне естественно: Павел Михайлович – заглавный герой ее книги, а Сергей Михайлович – один из ближайших к нему людей. Но все же, по-видимому, заводилой следует считать Алексея Алексеевича Медынцева. Человек страстный, веселого нрава, выдумщик и любитель красного словца, он объединял всю компанию и, как сказали бы сейчас, определял вектор ее развития. Обычно принято считать, что именно с ним П.М. Третьякова связывала особенно крепкая дружба. Но, думается, в данном случае следует вести речь не столько о дружбе, сколько об активной организаторской деятельности А.А. Медынцева. Как глава кружка, Алексей Алексеевич «связывал» его членов даже на расстоянии – брал с них слово регулярно ему писать, сам отправлял им письма, просил о выполнении тех или иных поручений. Благодаря этому в фондах Третьяковки отложился добрый десяток писем А.А. Медынцева П.М. Третьякову. От других членов кружка, за исключением Т.Е. Жегина, такого числа посланий не осталось. Тем не менее… количество писем между двумя людьми никак не является веским аргументом в пользу их близких отношений. Высокопарность, даже некоторая выспренность писем Медынцева не позволяет думать, чтобы он был особенно близок Третьякову душевно. К примеру, в одном из писем в 1853 году Медынцев пространно пишет: «Прощаясь с тобой, безценный друг мой Паша, мы условились не забывать друг друга, и положили пароль хоть изредка, но перекликнуться словом ласковым. Но вот уже скоро три недели разлуки нашей, и мы молчим как незнакомцы. Неужели какие-нибудь четыреста верст вырвали из нас дружеское сердце? Нет! Ни горы, ни леса, – и никакое пространство не изгладят из памяти моей – тех дружеских чувств, которыми мы как бы взаимно сроднились друг с другом, – и которые так глубоко вкоренились в сердце моем, что едва ли какой злой нож может вырвать их… За долгое молчание Бог виноватаго простит. Но вот вопрос? с чего начать. Ей! Ей! Не знаю, в особенности в настоящее время, когда сердце говорит, тогда язык немеет». В другом письме Медынцев заверял Третьякова: «Эта нестерпимая пытка разлуки Бог весь когда окончится, – но терпение и время, – все преодолеет. Подождем?» Павел Михайлович ценил в людях простоту и искренность, поэтому отношения с Медынцевым у него были скорее приятельские, в то время как настоящим его другом был Т.Е. Жегин. Тем не менее именно Медынцеву с его бесшабашной веселостью и неутолимой жаждой общения удавалось на протяжении длительного времени сплачивать кружок в единое творческое целое.
Любопытно, что часть членов кружка – братья Медынцевы, Т.Е. Жегин, В.Д. Коншин – были людьми женатыми, в то время как оба брата Третьяковы ходили в холостяках. Несмотря на такой «смешанный» состав кружка, он сумел просуществовать несколько лет. По-видимому, причиной этого был общий для всех его членов-купцов набор ценностей, столь резко отличных от ценностей описанных А.Н. Островским представителей «темного царства».
Сохранилось несколько стихов А.А. Медынцева, отправленных им в письмах Павлу Михайловичу. В одном из них, 15 декабря 1853 года, Медынцев поздравляет приятеля с днем именин. Любопытна шутливая характеристика, данная им Павлу Михайловичу:
…Честной отец Архимандрит,
Любя душевно быт домашний,
Он сгонит мглу туманных дней
На рынке Сухаревой башни
Иль в небольшом кругу друзей…
Члены кружка ценили Павла Михайловича, это совершенно очевидно. Так, когда он пребывал в Петербурге, брат и друзья писали ему: «Желаем тебе при совершенном здоровье весело провести время. Но, ради Милосерднаго Господа, умоляем тебя о скорейшем возвращении. Ей! Ей! говорим не лицемеря, что у нас без тебя такая скука, что мы совершенно лишились аппетита».
Собирался Николо-Толмачевский кружок по вечерам и, возможно, по праздничным дням. Сохранилась недатированная записка П.М. Третьякова: «Вчерашний вечер я не занимался делом, и потому им теперь занят. К Вам я тогда приду, когда матушка перестанет на меня сердиться». К нему сделана приписка за подписью Медынцевых и Шиллинга: «Ответ по поручению матушки, и когда перестанет он глумиться. Истину свидетельствуем». За подобной шуточной формой общения скрывалось весьма серьезное содержание. Молодые купцы дебатировали вопросы литературы, читали стихи, обсуждали театральные постановки, слушали музыку. Так, А.А. Медынцев, 1 марта 1855 года приглашая Павла Михайловича на литературно-музыкальные вечерние посиделки, в стихотворной форме определяет их «программу»:
…И игры фортепьянныя,
И канты все желанныя
Играться будут Вам:
Иные чисто постныя,
Другия 3-хголосныя
С скоромным пополам.
И ждет Вас с нетерпением
Звук струнный вместе с пением
И стих Ростопчиной…
Об уровне доверительных отношений между членами Николо-Толмачевского кружка свидетельствует целый ряд сохранившихся документов. Так, уже говорилось о любви Павла Михайловича к плаванию; по-видимому, она была столь велика, что его желанию окунуться не препятствовали даже наступавшие в конце лета холода. Супруга А.А. Медынцева, Надежда Васильевна, 9 августа 1855 года пишет мужу из Москвы в Нижний Новгород: «Посоветуй ради Бога Павлу Михай[ловичу] теперь не ходить купаться, теперь и без того очень холодно». Алексей Алексеевич, который и прежде того заботливо обращался к Третьякову «с искренним желанием перестать тебе купаться и быть здоровым», в первом же письме Павлу Михайловичу с ярмарки передает ему слова жены: «Она просила меня написать тебе о купанье, но я в подлиннике препровождаю к тебе вырезку из ее письма, и с мнением ее я совершенно согласен». В том же письме он передает супруге через Павла Михайловича деловые поручения: «Тебя же прошу, безценный друг мой Павел Михайлович, объявить жене моей, что к ней сегодня письма я не пишу – потому что совершенно не имею минуты свободнаго времяни. И скажи, чтобы она по желанию своему исполнила: служила бы молебен с водосвятием, – но только прежде всегда у нас бывала всенощная, то не лучше ли уже делать так было прежде. Но, впрочем, как она хочет». Алексей Алексеевич был в середине 1850-х годов церковным старостой.
По-видимому, 1854–1855 годы были периодом расцвета Николо-Толмачевского кружка – и теплых, заботливых отношений между его членами. Тогда же, в начале августа 1855 года, А.А. Медынцев пишет Третьякову: «Благодарю тебя, безценный, добрый и любезной друг мой Павел Михайлович за все твои ласки, радушие, усердие, и доброе расположение, оказываемые тобою во время моего отсутствия моей семье. Благодарю тебя еще раз, – благодарю сердечно – искренно. Желаю, надеюсь и прошу Господа, чтобы взаимно дружеския отношения наши не прекращались – навек, но чтобы упрочивались, и утверждались любовию более и более».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?