Текст книги "Кожа для барабана, или Севильское причастие"
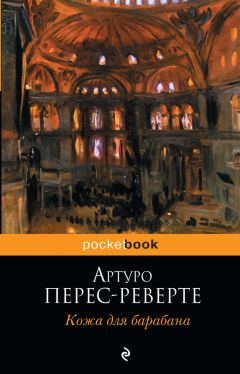
Автор книги: Артуро Перес-Реверте
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Говоря это, он на пару секунд отвел глаза: все же ситуация была сложной. Снова взглянув на Макарену Брунер, он обнаружил, что она смотрит на него с каким-то новым, почти лукавым любопытством.
– А было бы забавно исповедаться у вас. Вам хотелось бы этого?
Куарт сделал спокойный, медленный вдох, потом еще один, сморщил губы, словно обдумывая этот вопрос всерьез. Перед его мысленным взором мелькнула, как недоброе предзнаменование, обложка журнала «Ку+С».
– Возможно, – ответил он наконец. – Но боюсь, что мне будет трудно остаться вполне объективным. Вы слишком…
– Что «слишком»?
Это нечестно, горько подумалось ему. Это удар ниже пояса. Она загнала его в угол. Такое было трудно выдержать даже нервам священника Лоренсо Куарта. Он сделал еще пару вдохов, как на занятиях йогой. Никаких эмоций, приказал он себе. Только спокойствие – всегда, везде.
– Привлекательны, – безукоризненно холодно ответил он. – Полагаю, это подходящее слово. Но вам самой это известно лучше, чем мне.
Макарена Брунер помолчала, обдумывая его ответ. И по глазам было видно, что она оценила его по достоинству.
– Грис права, – сказала она. – Вы не похожи на священника.
Куарт кивнул в знак согласия, оставаясь, однако, настороже.
– Думаю, мы с отцом Ферро принадлежим к разным видам…
– Вы угадали. Кстати, он – мой исповедник.
– Уверен, что это хороший выбор. – Куарт сделал тщательно отмеренную паузу, чтобы в его словах не прозвучало и намека на иронию. – Это человек строгих правил.
Подобное определение не притупило, однако, ее бдительности.
– Вы ничего не знаете о нем.
– Именно это я и пытаюсь сделать: узнать что-нибудь. Но никак не могу найти человека, который бы просветил меня.
– Что ж, я вас просвещу.
– Когда?
– Не знаю. Пожалуй, завтра вечером. Приглашаю вас поужинать в «Ла Альбааку».
– «Ла Альбаака», – чтобы выиграть время, повторил Куарт, стараясь мысленно быстро прикинуть все возможные «за» и «против».
– Да. Это на площади Санта-Крус. Обычно там требуется галстук, но у вас, я думаю, проблем не будет. Вы хотя и священник, но неплохо умеете одеваться.
Куарт помедлил еще три секунды, затем утвердительно кивнул. Почему бы и нет? В конце концов, он приехал в Севилью именно за этим. Как раз будет подходящий случай, чтобы выпить за здоровье кардинала Ивашкевича.
– Я могу надеть галстук, если желаете. Хотя у меня никогда не возникало проблем в ресторанах.
Макарена Брунер поднялась. Куарт последовал ее примеру. Она снова задержала взгляд на его руках.
– Откуда мне знать? – улыбнулась она, надевая свои черные очки. – Мне еще никогда не приходилось ужинать со священником.
Дон Ибраим обмахивался шляпой, вдыхая воздух, напоенный ароматом цветущих и горечью спелых апельсинов. Красотка Пуньялес, сидя рядом с ним, вязала. Все это происходило на скамейке на площади Вирхен-де-лос-Рейес, откуда оба наблюдали за дверями отеля «Донья Мария». Крючок так и мелькал в руках Красотки: четыре воздушных, две пропустить, полустолбик, столбик. Она снова и снова повторяла этот раппорт, беззвучно шевеля губами, как будто молилась. Клубок лежал у нее на коленях, и вязанье медленно росло под ритмичное позвякивание серебряных браслетов на ее запястьях. Красотка вязала еще одно покрывало для своего приданого. Уже лет тридцать ее приданое, засыпанное шариками нафталина, потихоньку желтело в шкафу в ее маленькой квартирке в севильском предместье Триана, а она все вязала и вязала, как будто время остановилось в ее пальцах, в ожидании смуглого мужчины с зелеными глазами, который должен был в один прекрасный вечер явиться за ней под звуки хмельных песен, в сиянии белой луны.
Площадь пересек конный экипаж; на его заднем сиденье четверо английских болельщиков в кордовских шляпах – в эти дни местный «Бетис» играл с «Манчестером» – пили пиво из жестяных банок. Дон Ибраим проводил их взглядом, покручивая ус и грустно вздыхая. «Бедная Севилья», – пробормотал он спустя пару секунд, еще сильнее обмахиваясь своей белой панамой; Красотка Пуньялес кивнула в знак согласия, не отрывая глаз от работы: четыре воздушных, две пропустить. Дон Ибраим бросил окурок сигары на асфальт и долго смотрел, как он дотлевает там. Потом аккуратно затушил его, придавив концом трости; он ненавидел и презирал извергов, способных раздавить окурок хорошей сигары каблуком, как будто они не загасить ее хотели, а убить. Аванс Перехиля позволил ему купить целую, нераспечатанную коробку «Монтекристо» – роскошь, не виданная с тех пор, как он служил рядовым на мысе Финистерре. Две сигары красовались в нагрудном кармане его мятого белого льняного пиджака. Дон Ибраим поднес руку к груди и с нежностью ощупал их. Небо сияло синевой, в воздухе плыл аромат цветущих апельсинов, он, дон Ибраим, находился в Севилье, в руках у него было хорошее дельце, в кармане – гаванские сигары, в портмоне – тридцать тысяч песет. Для полноты счастья ему не хватало лишь трех билетов на корриду (на теневую сторону) с участием Фараона де Камаса или этой восходящей звезды – Курро Маэстраля, который, по словам Удальца, кое-что умел, хотя и не мог даже отдаленно сравниться с покойным Хуаном Бельмонте, мир праху его. Того самого Курро Маэстраля, который, как писали журналы, с не меньшей ловкостью, чем быков, укладывал в горизонтальное положение жен местных банкиров. Хотя, впрочем, какая разница – и тут рога, и там рога.
Как раз в этот момент в дверях гостиницы появился высокий священник, а с ним – женщина. Дон Ибраим подтолкнул локтем Красотку, и она наконец оторвалась от вязания. На даме были темные очки; она была молода, приятной внешности, одета неформально, но с утонченной элегантностью, характерной для андалусских женщин благородного происхождения. Дама и священник, прощаясь, пожали друг другу руки. Эта деталь придала делу совсем неожиданный оборот; дон Ибраим и Красотка Пуньялес обменялись многозначительными взглядами.
– Дело пахнет керосином, Красотка.
– Вот и я говорю.
Не без некоторого труда экс-лжеадвокат поднялся на ноги, нахлобучил белую панаму и решительно подхватил трость Марии Феликс. Наскоро проинструктировав снова взявшуюся за вязание Красотку относительно наблюдения за высоким священником, он, стараясь выглядеть как можно более непринужденно, тяжело потащил свои сто десять килограммов вслед за женщиной в черных очках. Она углубилась в квартал Санта-Крус, свернула налево, на улицу Гусман-эль-Буэно, и вошла во дворец, известный под названием «Каса дель Постиго». Нахмурившись и внимательно поглядывая по сторонам, дон Ибраим приблизился к арке портала. Фасад здания был выкрашен светлой охрой, выступающие детали – белые; крохотная площадь перед ним обсажена неизбежными апельсиновыми деревьями. «Каса дель Постиго» был местом, весьма известным в Севилье: дворец XVI века, традиционная резиденция семейства герцогов дель Нуэво Экстремо. Поэтому экс-лжеадвокат принялся за рекогносцировку с удвоенным вниманием. Окна дворца были забраны коваными решетками; под главным балконом, над входом, – герб, изображающий шлем с гербом в виде льва, в обрамлении якорей и голов мавров или индейских касиков[43]43
Касик (исп.) – вождь племени.
[Закрыть], с перевязью, на которой виднелось изображение граната, и девизом: Oderint dum probent[44]44
Пусть ненавидят, лишь бы уважали (лат.).
[Закрыть]. Сперва обдери, а потом уж пробуй, или что-то вроде этого, перевел про себя экс-лжеадвокат и усмехнулся: совсем не дураки были эти герцоги. Потом неторопливо, со скучающим видом вошел в темный портал и приблизился к кованой железной калитке, за которой виднелся внутренний двор, окаймленный мосарабскими[45]45
Мосарабы (исп.) – христиане Пиренейского полуострова, жившие на захваченной арабами территории.
[Закрыть] колоннами. В центре его располагался очень красивый мраморный, украшенный изразцами фонтан, вокруг него – большие вазоны с цветами и декоративными растениями. Дон Ибраим стоял у калитки до тех пор, пока с другой стороны к ней не подошла озабоченная служанка в черном форменном платье. Дон Ибраим изобразил на лице самую невинную улыбку, на какую только был способен, и, слегка приподняв шляпу, попятился назад, надеясь, что вполне достоверно играет роль заблудившегося туриста. Оказавшись на улице, он снова остановился перед дворцом; все еще улыбаясь в пожелтевшие от никотина усы, он достал из нагрудного кармана сигару, бережно снял с нее бумажное кольцо с изображением маленькой королевской лилии в окружении надписей: «Монтекристо», «Гавана», – и отрезал кончик ножичком, висевшим на цепочке часов. Ножичек был, как любил рассказывать экс-лжеадвокат, подарком его друзей Риты и Орсона в память о том незабываемом вечере в Старой Гаване, когда он, дон Ибраим, показывал им фабрику сигар «Партагас» (на углу улиц Драгонес и Барселона), а потом Рита танцевала с ним в «Тропикане»[46]46
«Тропикана» – знаменитое гаванское кабаре.
[Закрыть] до бог весть какого часа. Знаменитые артисты находились в Гаване на съемках «Дамы из Шанхая» или чего-то в этом роде, и Орсон тогда налакался по самые ноздри; все переобнимались, перецеловались, а под конец они подарили дону Ибраиму этот ножичек. Захваченный этим воспоминанием или фантазией о нем, экслжеадвокат сунул сигару в рот и повертел ее языком, наслаждаясь вкусом табачного листа, служившего ей верхней оболочкой. А интересные подруги у этого долговязого попа, подумал он, потом поднес зажигалку к концу сигары, предвкушая предстоящие полчаса удовольствия. Дон Ибраим не мыслил себе жизни без кубинской сигары во рту. Их аромат совершал чудо – придавал блеск его прошлому; Севилья, Гавана – так похожая на нее – и его карибская юность, в которой уже он сам был не способен отличить то, что происходило на самом деле, от вымысла, с первым глотком дыма сливались в одно целое, в чудесную грезу, где все было необыкновенно и романтично.
В борделе горели красные лампы, из динамиков лился голос Хулио Иглесиаса. Стакан Селестино Перехиля звякнул, когда Черная Долорес подложила в виски еще льда.
– Ты просто пончик, Лоли, – пробормотал Перехиль.
Это была констатация очевидного факта. Стоя за стойкой, Долорес покачала бедрами и провела кубиком льда по своему голому животу, видневшемуся из-под коротенькой маечки, обтягивавшей пышный бюст, который так и колыхался в такт музыке. Этой крупной смуглой, похожей на цыганку женщине было далеко за тридцать, но пороха в ее пороховнице еще было хоть отбавляй.
– Я тебя напою одним порошком, – объявил Перехиль, проводя рукой по остаткам волос, чтобы проверить, надежно ли закамуфлирована лысина. – От него ты просто с кровати свалишься.
Уже привыкшая к болтовне Перехиля Долорес, пританцовывая за стойкой, несколько секунд многозначительно смотрела ему прямо в глаза; потом, высунув кончик языка, бросила в его стакан кубик льда, которым водила по животу, и удалилась обслуживать другого клиента: девочки уже раскололи его на две бутылки катадонского шампанского, и дело явно шло к третьей. Хулио Иглесиас во всеуслышание продолжал настаивать, что он является одновременно и шутом, и сеньором, а потом ввязался с Хосе Луисом Родригесом, по прозвищу Пума, в спор на тему, нужно или не нужно быть тореадором для того, чтобы затащить женщину в сад. Равнодушный к этой полемике, Перехиль отпил глоток виски и стрельнул глазом на Фатиму-мавританку, которая танцевала в одиночестве: юбчонка, едва прикрывавшая зад, сапоги до колен и декольте, из которого весело выпрыгивают груди. Фатима была вариантом номер два на этот вечер, так что он начал взвешивать все «за» и «против» обеих.
– Эй, Перехиль!
Он не заметил, ни как они появились, ни как подошли. Они уселись по обе стороны от него и облокотились на стойку, делая вид, что рассматривают батарею бутылок на украшенных зеркалами полках. Перехиль увидел их отражение в зеркале, среди этикеток и фирменных кружек. Справа сидел Цыган Майрена, весь в черном, худой и надменный, как танцовщик фламенко, с огромным золотым перстнем на левой руке, рядом с обрубком мизинца, который он сам себе отсек одним ударом во время бунта в тюрьме. Слева – Цыпленок Муэлас, светловолосый, хрупкий и чистенький, который, похоже, никогда не снимал руки с рукоятки опасной бритвы, носимой в левом кармане брюк, и всегда говорил «простите», прежде чем пырнуть ею кого-нибудь.
– Угостишь нас стаканчиком? – медленно, самым дружелюбным тоном проговорил Цыган.
Перехилю вдруг стало очень жарко. Слабым голосом, как человек, который вот-вот лишится чувств, он позвал Долорес и заказал для Майрены и Цыпленка Муэласа по порции джин-тоника. Стаканы так и остались на стойке нетронутыми. Два взгляда скрестились в зеркале с его взглядом.
– У нас к тебе поручение, – сказал Цыган. – От одного общего друга.
Перехиль сглотнул слюну, надеясь, что при красном свете они не заметят этого. Общий друг был ростовщик Рубен Молина, которому он, Перехиль, вот уже который месяц подписывал просроченные векселя; вспоминая, какими цифрами выражается их общая сумма, он всякий раз чувствовал себя на грани обморока. В определенных севильских кругах Рубен Молина был знаменит тем, что имел обыкновение делать своим должникам только два напоминания: первое – словом, второе – действием. Майрена и Цыпленок Муэлас являлись его, так сказать, штатными герольдами.
– Скажите ему, что я заплачу. Я сейчас как раз занимаюсь одним дельцем.
– То же самое говорил и Фраскито Торрес.
Цыпленок Муэлас улыбался понимающе и сочувственно, и улыбка эта не предвещала ничего хорошего. Отраженная в зеркале с другой стороны физиономия Цыгана имела такое жизнерадостное выражение, как будто он только что похоронил мать. Перехиль глянул на собственное лицо между этими двумя лицами и попытался снова сглотнуть слюну, но ничего не вышло: от упоминания о Фраскито Торресе у него пересохло горло. Фраскито, парень из хорошей семьи, известный в Севилье прожигатель жизни, некоторое время, как и Перехиль, пользовался услугами ростовщика Молины. Когда срок вышел, а он так и не сумел расплатиться, кто-то подстерег его в портале его собственного дома и выбил все зубы один за другим. Так его и бросили там, предварительно ссыпав зубы в кулек из обрывка газеты и засунув его в нагрудный карман пиджака несчастного.
– Мне нужна только одна неделя.
Цыган Майрена поднял руку, обнял Перехиля за плечи – таким неожиданно дружеским движением, что того перекосило от страха. Обрубок мизинца коснулся его подбородка.
– Какое совпадение. – От черной рубашки Цыгана пахло застарелым потом и табачным дымом. – Именно столько и есть в твоем распоряжении, приятель. Ровно семь дней – и ни минуты больше.
Перехиль вцепился руками в стойку, чтобы они не дрожали. Этикетки бутылок, стоявших на полках, замельтешили перед его глазами: «Уайт Лариос», «Джонни Бэллэнтайн’з», «Дик Лейбл», «Четыре лошади», «Столетний Уокер». Жизнь – смертельная штука, сказал он себе. В конце концов она всегда тебя убивает.
– Скажите Молине, что все будет как надо, – пробормотал он. – Что я порядочный человек. Что я уже почти провернул одно стоящее дело.
Выговорив это, он схватился за стакан и осушил его одним долгим глотком. Кубик льда зловеще звякнул о его зубы, напомнив о том, что Фраскито Торресу пришлось обратиться к другому ростовщику, чтобы заплатить девяносто тысяч дуро за протезирование. Рука Цыгана по-прежнему лежала на его плечах.
– Хорошее слово – «провернул», – усмехнулся Цыпленок Муэлас. – Так и вспоминаешь о котлетах. Ты любишь котлеты?
Хулио Иглесиас все талдычил свое. Черная Долорес появилась за стойкой, покачивая бедрами в такт музыке, с явным намерением завязать разговор. Обмакнув палец в стакан Перехиля, она пососала его, громко причмокивая губами, потерлась животом о прилавок и профессионально отработанным движением колыхнула содержимым своей майки. Потом, разочарованная, всмотрелась в сидевших перед ней мужчин. У Перехиля был такой вид, будто он узрел привидение, выражение лиц остальных двоих никак нельзя было назвать дружелюбным, а кроме того, тревожный признак – их стаканы с джин-тоником стояли полнехоньки. Так что Долорес повернулась и, не переставая пританцовывать под музыку, удалилась. В течение долгих лет, наблюдая жизнь то с одной, то с другой стороны стойки, она научилась отлично понимать, когда лучше отойти в сторону.
V. Двадцать жемчужин капитана Ксалока
Я любил и мертвых женщин.
Генрих Гейне «Флорентийские ночи»
Старший следователь Симеон Навахо, начальник следственного отдела Главного полицейского управления Севильи, дожевал кусок тортильи и дружелюбно взглянул на Куарта.
– Послушайте, патер[47]47
Патер (лат.) – отец.
[Закрыть]. Не знаю, кто в этом повинен – сама церковь, роковая случайность или архангел Гавриил, – он сделал паузу, чтобы отхлебнуть глоток пива из стоявшей перед ним бутылки, – но в этом месте что-то такое есть.
Он был маленького роста, очень худой, симпатичный, носил круглые очки в стальной оправе и пышные, густые, растущие, казалось, из самой глубины носа, усы, а его руки ни минуты не находились в покое. Всем своим обликом старший следователь напоминал карикатуру на интеллигента шестидесятых годов, сходство еще более усиливалось благодаря его джинсам, свободной красной хлопчатобумажной рубахе, большим залысинам на лбу и длинным волосам, заплетенным на затылке в косичку. Уже добрых двадцать минут Куарт и Навахо просматривали документы, касающиеся двух смертей, имевших место в храме Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, и все сходилось на том, что оба погибших стали жертвой несчастного случая. Старший следователь сожалел, что у него нет под рукой виновного, которого можно было бы предъявить, – естественно, в наручниках, – посланцу Рима. Тут уж как повезет, патер, говорил он. Вы ведь знаете, как это бывает. Расшатавшиеся перила, отломившийся кусок алебастра, пара неудачников, которым никогда не везло в лотерею, а тут вдруг взял да и выпал их номер. Одному – бух, другому – шмяк, тут им и запели славу ангелы небесные. По крайней мере, старший следователь считал само собой разумеющимся, что, поскольку все произошло в Божием храме, оба попали именно на небо.
– Насчет Пеньюэласа, муниципального архитектора, все ясно. – Навахо упер указательный и средний пальцы в крышку стола, у самого края, и начал перебирать ими, показывая, как, должно быть, ходил пострадавший. – Он с полчаса гулял по кровле, выискивая аргументы, с помощью которых можно было бы вынести смертный приговор церкви, и в конце концов облокотился на деревянные перила – там, возле самой звонницы… Дерево уже здорово прогнило, перила обрушились, Пеньюэлас полетел вниз и напоролся на металлическую трубу – ее еще не смонтировали до конца. Словно цыпленок, которого насадили на вертел… – Перестав перебирать пальцами, старший следователь поднял один, изобразив им торчащую трубу, и уронил на него раскрытую ладонь другой руки; она, как предположил Куарт, должна была изображать беднягу Пеньюэласа в роли цыпленка. – Все произошло при свидетелях.
Перила потом тщательно обследовали, но ничто не указывает на то, что кто-то приложил к ним руку.
Старший следователь отпил еще глоток из бутылки и вытер усы тем самым пальцем, который только что играл роль трубы, после чего снова дружелюбно улыбнулся священнику. Они познакомились пару лет назад, во время посещения Севильи Папой. Тогда Симеон Навахо служил связующим звеном между Куартом и местной полицией, и они отлично понимали друг друга. Посланец Рима позволил старшему следователю записать на собственный счет такие выдающиеся заслуги, как арест священника – противника безбрачия, собиравшегося заколоть Папу ножом, или обнаружение взрывного устройства в корзине с бельем, приготовленной монахинями для высокого гостя. Вследствие этого Навахо удостоился личных поздравлений от министра внутренних дел и самого Папы, его фото появилось на первых полосах газет, да к тому же он получил крест за заслуги на красной ленточке. С тех пор никто в Главном полицейском управлении не смел более величать его Мисс Магнум (прозвище, которым он был обязан своей косичке). Сам «магнум» калибра 357 обычно покоился на подносе на его столе, среди бумаг. Навахо засовывал его в подмышечную кобуру лишь тогда, когда собирался к своей бывшей жене, чтобы забрать детей на субботу и воскресенье. Это, говорил он, внушало ей больше уважения. А детям просто нравилось.
Куарт оглядел помещение, в котором находился. За стеклянной перегородкой виднелась в профиль голова какого-то араба с опущенным долу взором; ему выговаривал что-то с крайне недружелюбным видом плечистый полицейский, но слов слышно не было, так что он шевелил губами беззвучно, как в немом кино. По эту сторону перегородки на стене висели портрет короля в рамке, календарь, на котором прошедшие дни были яростно вычеркнуты, серый архиватор с наклейкой «ЭКСПО-92» и еще одной, с изображением листа марихуаны, вентилятор, пробковый стенд с фотографиями преступников, мишень с дротиками (стена вокруг нее была сплошь издырявлена) и постер, на котором несколько американских полицейских лупили дубинками негра под надписью крупными буквами: «Любовь зла».
– А что там насчет отца Урбису? – спросил Куарт.
Старший следователь почесал пальцем за ухом. Когда он закончил и осмотрел палец, вид у него был разочарованный.
– Да на три четверти то же самое, патер. В этот раз свидетелей не было, но мои люди облазали всю церковь, сантиметр за сантиметром. Может, он неудачно прислонился к лесам или случайно толкнул их. – Он покачал руками, изображая колеблющиеся леса – настолько реалистично, что сам же остановился, как будто у него закружилась голова. – Верхний конец стойки ударил по карнизу, который проходит там, наверху, и отколол кусок. А может, этот кусок и так уже еле держался, и его каким-то образом подпирал сам металлический каркас.
Вот и вышло, что, когда стойка отошла, эти десять кило алебастра сорвались и рухнули ему на голову. Наверное, он услышал шум, взглянул вверх – и все.
Весь этот рассказ сопровождался соответствующими движениями рук. На словах «и все» старший следователь откинул одну из кистей на стол ладонью кверху, явно изображая отца Урбису в момент его перехода в лучший мир. Несколько мгновений он созерцал свою агонизирующую руку, затем протянул другую к бутылке.
– Этому тоже не повезло, – рассудительно проговорил он, допивая пиво.
Куарт, делавший заметки на визитных карточках, задержал ручку в воздухе:
– Но отчего все-таки обрушился карниз?
– Ну, причины могут быть самые разные. – Навахо с опаской глянул на карточки. Затем, стряхивая с рубашки крошки от тортильи, продолжил: – Согласно Ньютону, оттого, что вследствие земного притяжения и центробежной силы, возникающей при вращении, всякий предмет, предоставленный самому себе более или менее недалеко от поверхности Земли, приобретает вертикальное ускорение и падает прямиком на головы архиепископских секретарей, вставших с левой ноги. – Он взглянул на Куарта, как будто спрашивая, удовлетворен ли тот объяснением. – Надеюсь, вы записали как следует. Чтобы потом никто не говорил, что полиция работает не на научной основе.
Куарт понял намек и рассмеялся, пряча карточки и ручку. Старший следователь с невинным видом наблюдал, как он это делает.
– А сами вы что думаете?
Навахо пожал плечами, на которых свободно болталась красная рубашка. Во всем этом не было ничего важного, ничего секретного, но он явно стремился избегать каких бы то ни было заявлений. Поскольку было установлено, что обе смерти произошли в результате несчастного случая, все связанное с храмом Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, являлось делом сугубо церковным. Ходили слухи, что мэрия и банки сильно заинтересованы в нем и готовы добиваться своего не мытьем, так катаньем, так что начальники старшего следователя предпочитали держаться в стороне. В конце концов, Куарт, несмотря на свой сан, испанское происхождение и старое знакомство со старшим следователем Навахо, все же был агентом иностранного государства.
– Согласно заключению наших экспертов, – ответил Навахо, – карниз обрушился, потому что в этом месте уже имелись старые повреждения. Мы тщательно обследовали его и стену, на которой он держался. Она сильно отсырела: вода годами просачивалась в щели кровли.
– Вы действительно полностью исключаете чье-либо преднамеренное вмешательство?
Старшему следователю уже начала надоедать дотошность собеседника, но он не подал виду. В конце концов, он был немало обязан Куарту.
– Послушайте, патер. Мы тут, в полиции, не исключаем на сто процентов даже того, что Иуду прикончил кто-то из его одиннадцати коллег. Так что давайте остановимся на девяноста пяти процентах. В любом случае маловероятно, чтобы кто-нибудь сказал этому бедолаге: слушай, постой-ка тут минутку, а сам забрался на леса, отколол кусок карниза и сбросил его вниз – фью-у-у-у-у, – а тот стоял и смотрел наверх, разинув рот… – В такт этим словам пальцы старшего следователя взобрались на леса, рухнули вниз, как некий тяжелый предмет, и теперь неподвижно покоились на столе в ожидании судебного медика. – Такое бывает только в мультяшках.
Куарт ушел от старшего следователя с впечатлением, что Вечерня сильно преувеличил кое-что. Или что, возможно, церковь – если истолковывать это в более свободном, символическом смысле – действительно убивает, чтобы защитить себя. Другой вопрос, до какой степени может обладать способностью ликвидировать нежелательных людей – собственными ли силами, с помощью ли случая или Провидения – ветхое здание, построенное три века назад. Но коли так, дело уже не касалось ни самого Куарта, ни даже Института внешних дел. Проблемы из области сверхъестественного входили в компетенцию специалистов иного типа, имеющих больше отношения к зловещему братству кардинала Ивашкевича, чем к суровому центуриону, воплощенному в монсеньоре Спаде, в чьем мире, который также был миром хорошего солдата Куарта, дважды два равнялось четырем. С тех самых пор, как в начале всего было Слово.
Куарт размышлял обо всем этом по пути в церковь. На одной из узеньких улочек квартала Санта-Крус ему почудились за спиной чьи-то шаги; пару раз он останавливался, но так и не смог заметить ничего подозрительного. Он продолжил свой путь, стараясь держаться поближе к домам, чтобы не выходить из узкой полоски тени. Солнце так и жарило в Севилье, да к тому же белые и светло-желтые фасады отражали его ослепительный свет, подобно стенкам печи, так что черный пиджак давил на плечи Куарта, как раскаленный свинец. Если и вправду есть что-нибудь по другую сторону черты, подумалось ему, то севильцы, повинные в смертных грехах, будут чувствовать себя там, как дома: они вкушают все прелести ада прямо тут, на земле, в течение нескольких месяцев в году. Добравшись до маленькой площади перед церковью, он остановился у забранного решеткой окна, на котором пышно цвела герань, и позавидовал канарейке, которая в своей висящей в тени клетке как раз погружала клювик в наполненную водой поилку. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения; занавески на окнах, листья комнатных цветов и апельсиновых деревьев – все обвисло тяжело и неподвижно, как паруса в Саргассовом море.
Переступить порог церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, было истинным облегчением. Ее стены заключали в себе оазис тени и прохлады, пахнущей воском и сыростью. Именно в этом сейчас срочно нуждался Куарт. Еще ослепленный яростным солнцем, он задержался на пороге, чтобы перевести дыхание. Постепенно начав различать что-то в полумраке, он увидел небольшую резную фигурку Иисуса Назарянина – барочное изображение Христа, измученного пытками и издевательствами в судилище преторском: сколько вас, где ты прячешь золото и деньги последователей твоих, что это за чушь ты порешь, называя себя Сыном Отца, прореки, кто ударил тебя. Руки у него были связаны толстой веревкой, крупные капли крови виднелись на увенчанном терниями лбу, лицо обращено вверх в надежде, что кто-нибудь придет на помощь и вырвет его из рук палачей. В отличие от большинства своих собратьев Куарт никогда не был уверен в божественных родственных связях человека, на образ которого смотрел сейчас, – даже в семинарии (пребывание там он называл годами дрессировки), когда профессора теологии разбирали по винтикам и тщательно собирали заново механизмы веры в умах юношей, которым предстояло стать священниками. «Отче, Отче, для чего ты оставил меня?» – то был критический вопрос, коего следовало избегать любой ценой. Для Куарта, прибывшего в семинарию уже с этим вопросом в душе и убежденного в том, что ответа на него нет, форматирование теологической дискеты было излишне, однако он был осторожен и сумел удержать язык на привязи. Важнейшим для него за годы учебы стало то, что он открыл для себя дисциплину – свод норм, согласно которым следовало выстраивать жизнь; это позволяло справляться с отчетливым ощущением пустоты, некогда охватившим его в шторм, на волнорезе, перед лицом бушующего моря. Точно так же, как в семинарию, он мог бы пойти в армию, вступить в какую-нибудь секту или, как шутил монсеньор Спада, – хотя на самом деле он вовсе не шутил, – в средневековый орден воинствующих монахов. Сыну рыбака, потерявшему отца в бурю, было не занимать ни гордыни, ни самодисциплины.
Куарт еще раз всмотрелся в изображение. Во всяком случае, этот Назарянин держался как подобает мужчине: не каждому дано нести собственный крест так, словно это древко знамени. Нередко Куарт тосковал по такой вере – или даже просто по вере вообще, заставлявшей людей, одетых в кольчуги, почерневших от солнца и пыли, выкрикивать имя Божие и бросаться в бой, чтобы ударами меча проложить себе путь к Небу и вечной жизни. Жить и умирать было проще; да и вообще мир был куда проще несколько веков назад.
Он машинально перекрестился. Вокруг Христа, заключенного в стеклянную урну, висело с полсотни покрытых пылью эксвото[48]48
По католической традиции верующие, молясь о выздоровлении или в благодарность за него, вешают возле образов Иисуса Христа, Богоматери и святых изображение больного органа или фигурку, символизирующую того, о чьем здравии молятся. Такие изображения (нередко серебряные или золотые), а также другие приношения по обету называются «эксвото».
[Закрыть]: рук, ног, глаз, детских фигурок – латунных или восковых, кос, писем, лент, записочек и дощечек со словами благодарности за излечение или избавление от какой-либо напасти. Там была даже одна старая медаль участника Африканской войны, привязанная к засохшим цветам свадебного букета. Как и всякий раз, когда он сталкивался с подобными проявлениями набожности, Куарт подумал: сколько же тревог, бессонных ночей, проведенных у постели больного, сколько молитв, сколько историй, где переплелись горе, надежда, смерть и жизнь, было связано с каждым из этих предметов, которые отец Ферро в отличие от других, более современных священников, хранил в своей маленькой церкви рядом с образом Иисуса Назарянина. То была прежняя религия, та, что существовала всегда, религия священника с сутаной на плечах и латынью на языке – необходимого посредника между человеком и великими таинствами. Церковь утешения и веры, соборы, готические витражи, барочные алтари, разные скульптурные и живописные образы, демонстрировавшие славу Божию, выполняли ту миссию, которую выполняют сегодня телевизионные экраны: успокоить человека, отвлечь его от ужаса собственного одиночества, смерти и пустоты.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































