Текст книги "Бох и Шельма (адаптирована под iPad)"
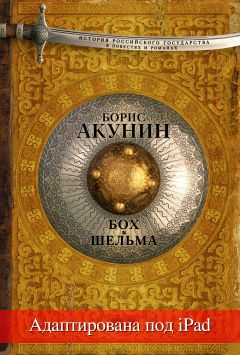
Автор книги: Борис Акунин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)

На грязно-белом, затоптанном поле между рекой и городом двумя черными линиями были выстроены пленные русы. Одна шеренга лицом к реке, другая – к городу.
Напротив стояли готовые к походу поредевшие сотни. Нукеры сидели в седлах хмурые и злые. Ночное веселье обернулось утренним похмельем. Многие товарищи легли в братскую могилу – тот самый проклятый ров, теперь засыпанный землей.
Гэрэл-нойон уже объявил, что все жители злого города, за исключением немногих, нужных казне, будут умерщвлены. Горожане пока не знали, что почти все они сейчас умрут, но чувствовали в зловещем молчании желтолицых всадников страшное и испуганно жались друг к другу. Строй, однако, покидать было нельзя. Кто попытался, лежали на снегу, пронзенные стрелами.
Прислужники главного юртчи, ведавшего сбором добычи, уже разделили всё, вынесенное из домов и отнятое у жителей, на кучи. Серебро, хорошие ткани, красивую посуду отдельно; оружие отдельно; железные вещи отдельно. Теперь оставалось отобрать русов, которые пойдут в полон. Ждали тысячника – он скажет, сколько рабов ему угодно забрать себе и пожаловать отличившимся при штурме.
Но царевич всё не выходил из белой юрты, поставленной на дне неглубокой балки, – чтобы меньше донимал ледяной ветер. Над юртой торчал шест с черной тряпкой – знаком того, что внутри находится умирающий, который хочет уединения.
Наконец Гэрэл вышел, утирая рукавом слезы.
Манул стоял неподалеку и слышал, как тысячник разговаривал с помощниками.
Отвечая на вопрос, сказал:
– Нет, еще жив. Но велел не ждать. Выступаем прямо сейчас. Посчитали потери?
Ему назвали цифру, которой Манул не расслышал. Цифра наверняка была большая. У него в сотне выбыло две трети воинов, в том числе храбрый Ухта-багатур. Правда, сотня шла в атаку первой и потеряла много людей во рву с кольями.
– Проклятый город! – воскликнул Гэрэл. – Чего вы ждете? Отберите для ставки нужных ремесленников. Сотникам дайте кому что положено по Ясе, а мне из этого змеиного гнезда никого не нужно. Всех остальных убейте! Дайте убежать двоим или троим. Пускай остальные русы узнают, как монголы поступают с непокорными.
Его опять о чем-то спросили.
– Оставлю здесь сотню убитого Ухты, все равно от нее теперь мало проку. Она всё и сделает.
Здесь нойон посмотрел вокруг, словно кого-то выглядывая, и вдруг показал пальцем на Манула.
– Эй ты, ко мне!
Раньше Манул забеспокоился бы – вдруг в чем провинился, но теперь ему было все равно. Когда из жизни уходит радость, вместе с ней уходит страх.
Подъехал, спешился, преклонил колени.
– Ты молодец, – сказал царевич. – Первым бросился в пролом. Назначаю тебя сотником вместо Ухты.
Манул не поверил ушам. Неужто нойон забыл, что татарину путь в сотники заказан?
Нет, не забыл.
– За тебя, татарский кот, просил Калга-сэчэн. Его благодари. И похорони как следует. Если вернусь и увижу, что курган мал, – пеняй на себя.
– Я остаюсь здесь, гуай? – изумленно спросил Манул. Воистину сегодня был удивительный день. – А как же война?
– От твоей сотни все равно мало что осталось, а за здешними краями нужен пригляд. Этих псов, – царевич кивнул на горожан, – всех убей. Город сожги. Мою юрту, как похоронишь учителя, тоже сожги – пусть отправляется с ним на тот свет. К осени, к новому походу, набери и обучи мне полную сотню. Поставишь здесь, на берегу, свой курень. Поднимешь бунчук. Ты теперь не десятник, а сотник. Со всеми правами сотника. Радуйся, татарин. Тебе повезло.
Гэрэл махнул рукой – барабан забил выступление. Через четверть часа на поле остались только пленные, юртчи с помощниками да сотня Манула – одно название, что сотня: тридцать два человека вместе с командиром.
Сотник! Полноправный, не временный!
Вот она какая, жизнь. Вот почему никогда нельзя от нее отрекаться. Только что всё отняла – и тут же щедро одарила.
Сотник – это не десятник. У сотника своя юрта и однохвостый бунчук, видный издалека. Сотнику положено два богола для услужения. И, главное, можно завести жену. Манул думал, что у него никогда не будет ни семьи, ни детей. А теперь – можно!
Второй подарок, что оставляют здесь. До следующей осени далеко, почти целый год. Тенгри всемогущий, как же надоели войны и походы! Просто пожить на одном месте, ни за кем не гоняясь, никого не убивая…
Тут же он вспомнил, что убить все-таки придется. Прямо сейчас и многих. Тысячу человек, если не больше.
Был бы рядом с царевичем Калга-сэчэн, обошлось бы без резни. Это в прежние времена к чужеземным народам относились, будто к диким зверям: окружить, переубивать, шкуры содрать. Теперь же, по новому закону, объявленному всем туменам, велено беречь завоеванные племена, как домашний скот: не забивать, дочиста не обирать, доить и стричь. Так оно и разумней, и выгодней.
Хотя нойона тоже можно понять. Очень уж он огорчился из-за шамана.
* * *
Своих немногочисленных всадников Манул расставил редкой цепью, приказав стрелять всякого руса, кто без позволения отделится от остальных.
Сам пристроился к юртчи, медленно шагавшему вдоль шеренги пленных. Переводчик-половец спрашивал, есть ли хорошие мастера, и какие. Спрашивал мирно, не грозно, чтоб не пугались.
Были плотники, печники, кровельщики – этих юртчи не брал. В степи они не нужны. Иное дело – кузнецы, скорняжники, ткачи. Их отводили в сторону – туда, где лежала добыча. Еще юртчи на свой страх и риск, хоть царевич и не велел, отобрал несколько особенно плечистых парней и самых красивых девок – какие потолще, помясистее и чтоб нос-глаза не слишком большие. Девки, дуры, как одна, закатили рев. Не понимали своего счастья.
Смотреть, как Эрлэг сортирует людей на живых и мертвых, было неприятно, но Манул увязался за юртчи не из праздного любопытства.
Ему теперь полагалось два раба, и одного хорошо бы взять нынче же. Конюха, чтоб ходил за лошадьми, – сотнику самому невместно. Да и не хотелось. Это было бы все равно что изменить Звездухе, зарытой в мерзлую землю.
По просьбе Манула переводчик спрашивал и про конюхов.
Один понравился. Пожилой, но крепкий, со смирным взглядом и весь пропахший конским потом, хорошим запахом. Служил при княжьей конюшне.
– Поди-ка туда, – показал Манул рабу туда, где стояли те, кому суждено жить.
Хотел вернуться к воинам, и тут увидел знакомую беловолосую девку, у которой отобрал жемчужную сетку. Помощник юртчи тянул пленницу за руку, хотел отвести к красавицам, хоть княжья дочь была нехороша собой. Один Тенгри знает, чем она приглянулась юртчи. Может, белой кожей. Или редким цветом волос. Княжья дочь упиралась, не хотела разлучаться с братом – этот тоже был здесь. Распухшее от удара Манулова кулака ухо побагровело и торчало, будто лепешка.
Но княжьей дочерью девка была в прошлой жизни, а теперь стала просто рабыней. Помощник юртчи ударил ее нагайкой по спине и оттащил, куда положено.
А Манул уже прикидывал, как половчей исполнить поганую работу. Посчитал. После отсева зарезать придется около девятисот человек. Почти по тридцать голов на нукера, не шутка.
Ничего, не первый раз. Правила известны. Их не дураки придумывали.
Шестерых самых метких лучников Манул оставил в седле – стрелять тех, кто побежит.

Потом приказал воинам разделить пленных на группы по двадцать пять человек. Групп получилось тридцать шесть, последняя неполная.
Воинов за вычетом стрелков тоже было двадцать пять. Собрав их вокруг себя, Манул объяснил, как делается дело, – здесь были и новички, кто никогда городов не захватывал.
– Главное – быстрота. Каждый берет по одному. Левой рукой обхватываешь голову, ладонью прикрываешь глаза, чтобы ничего не видел. В правой нож. Ррраз, и готово. Ударит струя крови, не замочитесь – вот так. Потом идем, забираем следующих.
Юртчи закончил свою работу. Можно было приступать.
Отогнали первую группу вниз, под обрыв – чтобы толпа не видела, как убивают, и не заметалась.
Нукеры спешились. Неопытным Манул велел брать маленьких детей – с ними совсем просто.
Сказал:
– Давайте!
Сам остался наверху – смотреть, как оно пойдет.
Бывалые воины справились быстро, зеленые – по-разному. У кого-то дрожали руки, кому-то досталась слишком брыкливая жертва, но этим помогли товарищи. В общем и целом для первого раза получилось неплохо.
– Идем за следующими, ребята, – велел Манул. – Работы много, а зимний день короток.
На спуске остались двадцать пять трупов, больших и маленьких, да красные пятна. Падаль пролежит здесь всю зиму, а весной, в половодье, река унесет мертвецов прочь.
Вторую группу отвели в другое место, поодаль. Управились еще быстрей, но Манул уже отметил молодого нукера – низкорослого кипчака по имени Коротышка, который замешкался в прошлый раз и теперь опять не удержал пленника, хотя это был щуплый мальчишка лет семи. На беглеца пришлось потратить стрелу, а Коротышке сотник показал еще раз, как режут горло. Нукер кусал белые губы. С парнем надо было еще работать и работать.
Когда пошли за третьей группой, толпа уже знала, что происходит под берегом. Догадались. Потому что удравший мальчишка громко вопил, да и нукеры все-таки перемазались в крови.
Это всегда так бывает. Довольно скоро те, кого еще не убили, понимают, какая судьба им уготована. Но это мало что меняет. Люди, когда они согнаны в кучу, будто перестают быть людьми, превращаются в овец.
Казалось бы, бросся они сейчас врассыпную и многие бы спаслись. Но нет. Пробуют убежать только самые смелые. Вон они, лежат, у каждого по стреле в спине. Человек десять таких набралось. Остальные прижались друг к другу. Шести всадников с луками вполне достаточно, чтобы удерживать толпу чуть не в тысячу человек.
Главный секрет – резать не на виду у остальных, а отводить подальше. Тогда все будут стоять и ждать. На что надеются? Загадка.
Одни плакали и обнимались, другие молились, а кто-то лег ничком на снег и заткнул уши. Манул подумал, что он, наверное, тоже так лег бы, попрощался с жизнью. Припомнил бы ей всё плохое. А потом встал бы и побежал. Умереть от стрелы лучше, чем от ножа. Хотя это, конечно, как кому.
Помощники юртчи надевали отобранным в рабство счастливцам канги – деревянные колодки. Счастливцы уже поняли, что они счастливцы, и послушно подставляли шеи.
– Нагайками их, нагайками, – посоветовал Манул воинам, потому что третья группа шла к берегу медленно, упиралась. – А то до ночи не управимся.
И снова Коротышка оплошал. Ему достался тот самый юнец, княжий сын. Вроде и не сопротивлялся, стоял смирно, стучал зубами, а нукер никак.
– Ты что, у себя в нутуге никогда баранов не резал? – терпеливо сказал Манул. – Человека резать проще. Не нужно бояться, что шкуру больше нужного попортишь. Смотри и учись.
Он подошел, зажал русу локтем лицо.
– Держишь вот так. И на себя, чтоб горло подставить. Ножом ведешь без усилия, легко, наискось…
Что-то зашуршало по снежному склону.
Прямо под ноги сотнику скатилась беловолосая девка, обхватила его за гутулы, крикнула по-тюрски:
– Не убивай брата!
Манул сначала ужасно удивился. Как это ей удалось убежать и остаться живой? Но потом увидел, что из шейной колодки сзади торчит стрела, и понял: девке повезло, канга спасла.
– Не убивай его! – просила девка, глядя снизу умоляющими глазами. – Рабой твоей буду! Что хочешь сделаю! Богом клянусь!
Сотник хотел толкнуть ее кулаком в лоб, но рука замерла на полпути.
На лбу у девки была круглая коричневая родинка величиной с горошину. Это пятнышко Манул заметил еще вчера, когда сорвал жемчужную сетку, но не придал значения. А сейчас вдруг пронзило: точь-в-точь как звездочка у Звездухи! И вспомнилась мечта перед боем, в котором погибла лошадь. Про индийцев, которые верят в переселение душ. Тамошние женщины рисуют себе на лбу такие же круглые точки!
А что если…
– Ты вернулась? – спросил он по-монгольски.
Звездуха бы поняла.
Но девка повторила по-тюрски:
– Я буду твоя душой и телом. Сколько живу. Только пощади брата.
И зачем-то ткнула себя двумя пальцами в лоб, в живот и потом в оба плеча.
Пусть даже и не Звездуха, размышлял Манул. Девка некрасивая, но крепкая, молодая. И смелая. Не побоялась стрел. Взять что ли ее в жены? Жить здесь долго, до следующей осени. А там наверняка начнется новая война. Монголку в этом дальнем краю все равно не найти. Эта по крайней мере будет благодарна.
– Ладно, – сказал он на понятном ей языке. – Возьму тебя и его. Забирай своего брата. Веди его к начальнику обоза, скажи, сотник Манул велел снять с тебя кангу. Сидите там, ждите.
Теперь придется отказаться от конюха, отослать его назад, на смерть. Жалко. Но сотнику больше двух рабов не положено.

Часть вторая
Мир
В Преисподней
Поп Микита когда-то учил на уроках Слова Божия, что Преисподня жаркая и огнепламенная, уязвляющая грешников искрами, обжигающая алыми угольями.
Неправда. Всё неправда.
В Преисподней нет ни жара, ни тепла. Ибо тепло – жизнь, а Преисподня – смерть. Она ледяная-снежная, и цвет ее – белый.
Эта истина, как многие другие, злые, впервые открылась Солонию, когда он стоял ни жив, ни мертв и трясся – от холода, от ужаса, от воспоминания об овчинном запахе убийства, который, казалось, впечатался в лицо, смятое рукой татарского сатаны. Кривоногий, криворожий, с глазами-трещинками и еще одной длинной трещиной, рассекавшей харю сверху донизу, Сатана только что собирался убить Солония, перерезать ему беззащитное, выпяченное вперед горло кровавым ножом. Потом что-то произошло – Солоний не видел и не слышал, он был не в себе – но только хваткие лапы его выпустили, и стало снова можно дышать, а потом Фила, сестра, невесть откуда взявшаяся, потащила его куда-то вверх и что-то шептала, приговаривала, обнимала.
И вот он стоял на ветру, по-над обрывом, трясся, думал про белую Преисподню. Фила подобрала с земли тулуп и шапку, одежды вокруг валялось много – некоторые люди, перед тем как их убивали, почему-то начинали все с себя срывать, – и надела на брата. Теплее ему не стало, и дрожать он не перестал, но будто бы вернулось зрение, или, вернее сказать, раздвинулось. Только что видел на полсажени вперед да на столько же в стороны, а дальше тьма, теперь же узрел все окружное: горящий Свиристель, воющую толпу, всадников в острых малахаях, снежное поле, реку.
Они с Филой стояли сами по себе, вдвоем. Пообочь, возле телег, кучкой теснились люди с деревянными ступами на шее. Он узнал Ладоню-кузнеца и девку из матушкиной вышивальни, только имени не вспомнил. На поле поглядел – поскорей отвернулся. Там, вертясь в седле, распоряжался Сатана, махал рукой, и его присные били плетками, гнали на убой новых агнцев.
– Я понял, Фила, – сказал Солоний чужим скрипучим голосом. – Мы все ночью убиты. Меня черт татарский еще тогда кончил, заодно с батюшкой, матушкой и отцом Микитой. И тебя тоже убили. Просто они в рай пошли, а у нас тут – ад, для грешных. Это мытарства, нам назначенные.
Сестра тряхнула его за плечи, прижалась губами к уху, зашептала:
– Очнись, Солоша. Не время! Пока не глядит никто, прыгай вниз, вываляйся в снегу и по бережку, по бережку. Спасайся, Солоша. Не то угонят со мною в полон, сгинешь. Беги!
Дыхание у нее было теплое, губы горячие, и от этого он будто оттаял. Если в ледяном аду есть что-то теплое и даже горячее, то есть и надежда. Так ему в тот миг помни́лось.
Встрепенувшись, княжич обернулся, поглядел вниз. Скатиться по белому крутому склону легко. Побежать вдоль Крайны-реки, до излучины. Там Заячий овраг. Он длинный, по нему можно уйти чуть не до самой Кольшиной рощи. И всё, не сыщут.
«Бежим вместе!» – хотел он сказать Филе. Но посмотрел на нее – и не сказал. Фила тонкая, хрупкая, нет в ней никакой силы. Увязнет в снегу, ослабнет. Сама пропадет, и его задержит. И, главное, даже если доберется с ним до березовой рощи – что потом? Куда с девкой по холоду? До Радомира тридцать верст. Не дойдет.
А всё же сказал:
– Бежим со мной. Как-нибудь Бог выручит.
Но она качнула головой:
– Нельзя. Я Ему поклялась: спасет тебя – останусь рабой татарской.
Солоний не очень понял, о чем она, но настаивать не стал.
– Я тоже клянусь, перед Господом. Вернусь. Сыщу тебя хоть на краю земли. И вызволю. А татарина, сатану косорылого, найду и за батюшку с матушкой отомщу! Убью!
– Беги, мститель, – сказала Фила. Коротко оглянулась и вдруг с нежданной силой толкнула брата в грудь.
Он покатился по спуску. Вскочил, весь облепленный снегом, хотел махнуть ей на прощанье рукой, но сестру было уже не видно.
Тогда пригнулся, побежал, бормоча «убью, убью, убью!».
Два раза, уже в овраге, останавливался перевести дыхание, однако ненадолго. А упал, вконец обессиленный, уже в роще, среди голых деревьев. Это всё были березы, покрытые коркой льда и такие же белые, как пустое безжизненное поле. Очень скоро княжич замерз, и мир снова начал казаться ему Преисподней.
Благомысленные византийские мудрецы из батюшкиных книг писали, что Божий Мир – многоцветный сад, исполненный чудес и красот, но они не знали правды. Мир – ледяная пустыня, и в ней только три цвета: белый – мертвенного холода, красный – пролитой крови и черный – пепелища. А правит в сем аду щелеглазый Сатана с рассеченной наискось рожей. Она и сейчас нависала над закоченевшим беглецом.
Увидев татарина в самый первый раз, еще не зная, что это сам Всепогубитель, Солоний испытал странное омерзение, словно по голому хребту проползла скользкая змея. А ведь бес тогда был почти один, толмач не в счет. Раздавить бы его, и ничего бы не было. Эх, батюшка-батюшка. Мудр был, а Солоний глуп, но если б мудрец послушался глупца, глядишь, и спасся бы…
Второй раз Сатана явился княжичу во всей своей силе, окруженный багровыми сполохами. Солоний стоял у теремного окошка, смотрел на сечу у ворот княжьего подворья, сжимал кулаки.
Отец не дозволил идти в бой. Уж как Солоний упрашивал. Ведь не мальчик, семнадцать лет. Из самострела бьет метко и с мечом ловок, сам Матьяш-воевода говорит, что лучше ученика у него не бывало. Но батюшка сказал: «В доспехах биться не то, что налегке махать. Не сдюжишь».
А кто сам запрещал доспехи носить? «Кость у тебя еще тонкая. Коли рано начнешь железо на плечах таскать, не вырастешь. Останешься, как я – недомерком» – это кто повторял?
Отец был добрый, мягкий, но когда заговорит таким голосом, спорить с ним было нельзя. Остался Солоний в тереме. Батюшка на прощанье обнял, наказал: «Мать, сестру на тебя оставляю. Защити». И ушел.
Через час или два, когда город стал весь светлый от множества пожаров, отец вернулся с малой ватагой дружинников. Тут-то княжич и увидал Сатану – узнал издали по волчьей повадке, по длинным рукам, по кривым ногам.
Татарин вскинул лук – и батюшка повалился. Солоний так страшно закричал, что мать с сестрой, без умолку плакавшие, враз умолкли.
А в третий раз Сатана явился, когда Микита над отцом читал заупокой. Страшней того, что тогда случилось, ничего нет и быть не может. Даже когда Сатана на берегу хотел горло резать, не так содрогательно было, из-за тупого оцепенения.
Однако именно воспоминание о бараньем запахе и грязном рукаве, сдавившем лицо, заставило княжича подняться и побрести дальше, через рощу. Не для того он спасся от татарского ножа, чтобы замерзнуть под голой березой. И клятвы перед Господом просто так не даются. Нужно поскорей добраться до Радомира, вернуться с дружиной и всё исполнить: Филу спасти, Сатану истребить.
О том, что поганые могли уже добраться и до Радомира, княжич думать не захотел.
Пройти надо было без малого тридцать верст, да не по дороге, а полем. Хорошо, наст здесь, на гладком просторе, был крепкий, обветренный, прогибался под шагами, но держал.
Солоний шел и плакал, всё не мог остановиться. Очень было себя жалко. Отца с матерью, сестру, всех погибших и плененных тоже, но больше всего себя. За то, что верил добрым и умным книгам, а они оказались ложью.
Слезы текли без остановки и были соленые. Под стать имени.
Батюшка, книжник, назвал своих детей по-ученому, не как в других княжеских семьях. Старшего сына – Тимоном, что означает «честь», ибо для наследника княжеского стола нет ничего важнее чести. Дочь нарек Филоменой, это «Сильная Любовью». Для женщины, говорил отец, самое главное – любовь. Младшему сыну выбрал для крещения имя Солоний, «Мудрый». Было, конечно, как положено, и родовое имя, Олег, в честь великого пращура Олега Святославича, от кого все они, Ольговичи, произошли, но так младшего княжича никто не звал, только Солонием.
«Как сам себя зовешь, таким и станешь, – говорил отец. – И если проживешь честно под стать имени, то в старости получишь самую лучшую награду – мудрость. В молодые годы ей взяться рано, но на то есть мудрые книги. Не умствуй, а исполняй, что там написано. В зрелости поймешь». И заставлял учить наизусть слово князя Владимира Всеволодовича Мономаха, оставленное сыновьям: «Есть и пить без шума великого, при старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться, с равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулить в беседе, не смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится».
Батюшка и сам учил своих сыновей не хуже Мономаха. Объяснял, что родиться князем – не удача, а великая тягота и суровое испытание. Обычный человек только за себя ответчик, так жить и спастись легко. А князь Богом поставлен своих людей оберегать, и этот его долг даже превыше заботы о спасении собственной души.
В последнее время Солонию хотелось жить своим умом, обо всем иметь незаемное суждение, и он с отцом часто спорил – это поощрялось.
Осенью поймали шайку лютых разбойников, грабивших поречные деревни. Стали злодеям головы рубить. Солоний возьми и пристань к отцу с ехидством и укоризной. Как же, дескать, ты учил: «Будь с людьми милостив, награждай за дело щедро, а за вины взыскивай снисходительно», сам же вот головы рубишь? Ведь и в Новом Завете речено «не убий»? Отец ему со вздохом: «Государю по Новому Завету жить нельзя. Хотел я когда-то, но скоро понял – пустое мечтание. Править можно только по Завету Ветхому, где око за око и зуб за зуб. Враг нагрянет – не щеку подставляй, а своих защищай. Злодеев казни, чтобы иным неповадно было. Мы не святые монахи, мы князья. Вся надежда, что Бог на Страшном Суде простит нам вины, потому что грешили не за себя, а за люди своя. Если же ты боишься Его кары – уходи со стола. Иди в монастырь, спасай свою душу».
Ах, батюшка, батюшка. Про небесные светила рассказывал, про чужие страны, про разные чудеса. Языкам учил – тюркскому и греческому. У матери для детей был свой язык, франкский – говорить о домашнем, о ласковом.
Ничего этого больше никогда не будет.
До Радомира бы добрести, думал Солоний, еле волоча ноги и сгибаясь под серой во тьме вьюгой. Старший брат отделился два года назад, правил собственным уделом. Там, у Тимона, спасение.
* * *
По дороге, в десяти верстах от Радомира, была одна деревня, Конобеево. Туда-то татары скорее всего уже нагрянули, однако Солоний все же решил попытать счастья. Очень уж хотелось обогреться и поесть.
Долго таился у околицы, высматривал. Вроде тихо, а что огни не горят, так крестьяне зимой рано ложатся. Главное, дома чернели во мгле целые, не пожженные.
Ободренный, он вышел на дорогу и увидел, что она вся истоптана копытами.
Побывали…
Избы стояли пустые, с распахнутыми дверями. На улице – несколько мертвых тел, зарубленные собаки, обкромсанная до скелета корова.
Ни одной живой души. Сбежали? Угнаны в полон? Бог весть.
Попробовал поискать в ближнем доме еду. Зажег лучину.
Нашел только горшок с недоеденной кашей. Она была заиндевевшая, к грязной ложке прилип седой волос. Побрезговал. До Радомира не столь далеко, можно дотерпеть.
Обогреться бы только.
В избе была печь, было огниво и кресало, были дрова, но растопить огонь Солоний не сумел, сколько ни бился. Искры высекались, трут зажигался, и даже хворост вспыхивал, но скоро гас. Чертова печь не слушалась. В прежней жизни никто не учил княжеского сына, как их топят.
Разжег во дворе костер, попросту. Оттаял, сморило.
Но среди ночи пробудился от лютого холода. Лязгая зубами, вскочил, попрыгал, поколотил себя руками, пошел дальше.
Эти последние десять верст, в кромешной темноте, под вьюгой, дались еще тяжелее, чем давешние двадцать.
Хуже всего, что заблудился. Казалось бы, путь знакомый, сто раз езженный – и по дороге, и напрямую через поля, а Радомир словно играл в прятки. Не чернел башнями, не светил огнями.
Лишь когда засизел поздний зимний рассвет, Солоний понял, что все время бродил неподалеку.
Город был прямо перед ним, всего в полуверсте. Башни не чернели, потому что их больше не было – обрушились. Не было и домов, дымились одни развалины. Огня не было. Должно быть, угли присыпала, загасила ночная метель.
Отупевший от холода и усталости, Солоний долго бродил по пепелищу, среди трупов. Снова обливался слезами. Не мертвых оплакивал, к их виду он уже привык, а прощался с жизнью. Деваться теперь было совсем некуда.
Бой в Радомире, кажется, был недолгим. Наверное, татары застали город врасплох. Пронеслись по главной улице – там лежали мертвецы, все ничком, с разрубленными затылками; возле терема произошла схватка: здесь разметались несколько братниных дружинников, все знакомые. Ни кольчуг, ни шлемов, ни оружия. Один, безголовый, раздет почти догола.

Вдруг Солоний увидел у нагого мертвеца круглую родинку на груди и зарыдал пуще прежнего. У Филы была такая же, но на лбу – как у батюшки, у Солония на плече, а у Тимона на груди.
Имя – оно как судьба. Тимон значит «честь», вот брат с честью и погиб. Похоронить его тоже нужно было честно. Чтоб вóроны не клевали бедное обезображенное тело.
Долбить мерзлую землю сил не было. Солоний взял мертвого брата за ноги, дотащил до развалин конюшни. Сама она сгорела, но подклет, где хранили овес, никуда не делся, хоть мешков с зерном там уже не было. Скинув покойника вниз, княжич завалил ход обломками. Лежи, Тимон, в темной пустоте. Хоть без гроба, зато в просторе и покое. А больше ничего сделать было нельзя, только что прочесть молитву да поплакать.
Смерть смертью, а жизнь жизнью. Невыносимо хотелось есть. О давешней несъеденной каше вспоминалось как о сладчайшем из яств. Не то что с волосом – с земли бы ее съел, по-собачьи.
А искать еду было негде. Радомир превратился в черное ничто – как только татаре сумели дотла спалить немалый город, три сотни домов, да амбары, да улицы с лавками всего за день? Не иначе сам Диавол изрыгнул из пасти всесожигающее пламя.
Подобрал голубя, видно задохнувшегося в дыму, упавшего на угли и полузапекшегося. Ощипал, жадно съел, заел снегом – едва нашел чистый, без сажи и пятен крови.
Еще отыскал в сугробе целый меч – грубый, тяжелый. Должно быть, принадлежал кому-то из младшей дружины. Но повесив на бок оружие, Солоний будто стал выше ростом, шире в плечах. Уже не хвост овечий – воин.
Мертвых голубей было много. Взял еще несколько, сложил в рогожную котомку, немножко обгоревшую, но целую. А больше на пожарище в дорогу взять было нечего.
В дорогу-то в дорогу, но куда податься?
Думал, пока шел до перекрестка, что чуть западнее Радомира. Благодаря тому перекрестку когда-то и город построился. Отсюда можно было пойти на юг, в Чернигов, или на север, в Рязань, или на закат, к дальнему Смоленску.
Следы множества копыт и повозок вели направо, к Рязани. Татары повернули туда. «Иди в другую сторону, на Чернигов», – шепнуло сжавшееся сердце. Но Солоний положил пальцы на деревянную рукоять, сдвинул брови и пошел на север.
Клятва есть клятва. За родителей, за брата надо было мстить. Рязань поганые так просто не возьмут. Это им не Свиристель. Стены высокие, саженной ширины, а дружина у князя Гюргия Игоревича могучая: три тысячи пеших, до семисот конных. Сам князь рязанский Солонию троюродный дядя. Коня, щит, шлем даст, а больше ничего и не нужно. Меч вон свой есть.
* * *
Шел Солоний с умом, стерегся. Не по дороге, а вдоль. Если поле – уходил далеко. Если лес – держался рядом.
Иначе было нельзя. То вперед, то назад, всегда быстрым наметом, по двое, по трое, а то и в одиночку часто проносились всадники на маленьких косматых лошадях. Верно, гонцы. Жалко, не было самострела, а то какого-нибудь одинокого вынул бы из седла. На радомирском пепелище Солоний видел несколько целых луков, а стрел вокруг торчало сколько угодно, но брать не стал. По юным годам стрелять его учили только из княжеского оружия, немецкого арбалета. Натянуть руками тетиву русского лука – это немалая сила нужна.
Два раза заночевал в пустых деревнях. Жителей нигде не было. Вся Русь словно вымерла, на холодной земле остались одни татары да неприкаянный Солоний. Как есть – ад, Преисподняя…
Научился отыскивать в домах еду. Оказывается, в клетушах висели вязки осенних грибов, стояли малые короба с сушеной ягодой. Справился и с печью, так что спал в тепле. Правда, на вторую ночь, перед рассветом, пришлось прыгнуть в окно. Слава Христу, дремал некрепко, услышал конское ржание, гортанную речь. Двое татар спешились, шли к крыльцу с саблями наголо. Наверно, заметили дым.
Ничего, отсиделся в снегу, за плетнем. Потом вернулся за тулупом и шапкой. То ли не заметили поганые, то ли им лень было гоняться в потемках. Пронес Господь.
А на третий день Солоний наконец встретил в придорожном лесу живого русского человека. Тот шел навстречу по тропинке, вел в поводу коня. Сам в островерхом шлеме, кольчуге, на боку меч – не иначе, княжий или боярский дружинник.
Солоний к нему так и кинулся.
– Ты откуда, чей?
– Из Рязани, – ответил рослый, светлобородый молодец, настороженно глядя на незнакомца. – Князя Гюргия Игоревича дружинник.
– То мой дядя!
– Ага, – оскалился воин, видя, что Солоний один, и оттого успокоившись. Не поверил. Оно и понятно – хорош княжий племянник в нагольном тулупе, с рогожным мешком и безножным мечом за поясом.
– Я княжич свиристельский, Богом клянусь! – Вспомнив, что ни отца, ни старшего брата уж нет в живых, Солоний печально поправился: – То есть теперь уже князь…
– Ну да. – Дружинник хмыкнул. – Куда твоя княжья милость путь держит?
– Туда же, куда и ты, я думаю. В Рязань. Татар бить. – Вдруг Солоний сообразил, что воин идет не на север, а наоборот на юг. – Ты ведь в Рязань?
– Неее, – протянул бородач, глядя не на княжича, а на его шапку. – В Рязани дураки остались. А я умный.
– Как так?
– Нету боле Рязани, парень. Я в дозоре был. Как поглядел на татарскую рать, увидал, что всё поле черно, сразу в седло, и давай Бог ноги. А все, кто в городе остался, ныне воронов кормят.









































