Текст книги "Евстигней"
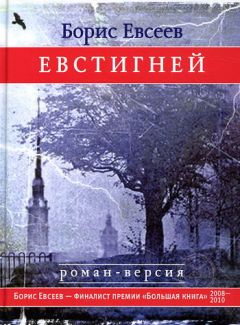
Автор книги: Борис Евсеев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава десятая
У Буиния и Раупаха
Чинодралы академические соображали туго и соображаемым распоряжались худо. Что полагалось – делали спустя рукава и чаще всего не так, как того хотелось воспитанникам.
И в прошениях, и в мыслях Евстигней давным-давно звал себя Фоминым – его продолжали именовать Ипатьевым.
Он хотел быть музыкантом – его все числили по разряду «архитектурных художеств»!
Евстигнеюшку коробило, рвало желчью – а поделать ничего было нельзя!..
Но все ж таки первого маия 1776 года Академия художеств взамен выбывшего воспитанника Давыдова к италианцу мессеру Буини для обучения инструментальной музыке ученика «архитектурных художеств Евсигнея Ипатьева» направила. Класс Маттео Буини – о котором по углам шептались, что в обучении он зверь, как хозяин скуповат, а сочиняет бойко, – пополнился новым воспитанником.
Чуть позже было сему дано академическое определение.
11 иуля все того ж 1776 года, после утверждения Академическим Советом, конференц-секретарь Фелькнер, задним числом вписал в свой «кляйнебух»:
«Маия месяца первого числа сего года, определенные к италианскому музыканту господину Буинию для обучения клавикордной музыке, ученики Ипатьев и Скоков кушаньем довольствуются у самого господина Буиния. Посему, с того же маия, первого числа сверх определенного ему Буинию жалования, по спискам производить на Ипатьева и Скокова кормовых денег в каждый месяц на обоих по девяти рублей».
«Девять рублев – прорва денег! Ежели брать съестное на улицах или даже в Гостином Дворе, накупить можно горы! Можно купить три раза по полтеляти – за каждую половину по рублю, да десять куриц, по пяти копеек каждая. Да пуд масла коровьего – за весь пуд два рубля. Да еще с полсотни померанцев – по двадцати пяти копеек десяток. Да хлеба белого полное деревянное корыто – по две копейки за полфунта. Еще и (таясь) портеру аглицкого – по двадцать пять копеек бутылка. Еще и останется довольно!»
– Да только денежками-то нашими все одно Буиний распоряжаться будет! Он их себе потребует. Якобы он нас лутче, чем мы себя сами, кормить станет… И уж будь покоен, как он денежками нашими распорядится! – злясь, ворчал Петруша.
Так оно и вышло: настоящими кушаньями, на девять рублев в месяц, наедались воспитанники лишь во сне.
Что же до самого Буиния, то кушанье его было таким: ром с лимоном, вчерашний пастет и земляника со сметаной – поутру. Кофий с бисквитами и всякой иной выпечкой – для поднятия духу – в полдень. Меж полуднем и обедом – сырых яиц шесть штук: для очищения голосу. Опосля пяти часов – обед. Из шести блюд, с жареным рябчиком непременно! И пунш вместо чаю. Ближе к полуночи ужин: сыры, холодная дичь, снова пастет да две бутылки бордосского вина по тридцати пяти копеек за каждую!
Воспитанников кормили куда как сдержанней: каша, шти, снова каша. Вечерами чай с бубликами, по праздникам вприкуску сахар «лумп» – низшего разбору, желто-соломенного цвета.
Петруша Скоков на такую еду жалобился кому ни попадя и повсякчасно. Евстигней же недокорму не замечал. Буиний ему нравился. Попервоначалу тем, что, уча, усмехался, орать не орал, а толк от его пояснений был немалый.
Еще нравился вкрадчивостью, таинственностью объяснений. Но более всего запахом: смоляным, нездешним, холодящим ноздри и рот мятной прелестью. Занесенный из невообразимой Европы то ли ветрами, то ли птицами, запах, трепеща в щетинках буиниевской бороды, в извивах буиниевского парика, морочил, но и тешил.
Тот запах европский попервости пересилил все: даже звук!
Кряхтенье кузниц и визг лесопилок, мелкий горох иноземных речей и скорая пальба матросской ругани, лиственные шумы, тихий подземный вой и царапанье о доски гроба мертвецов (к тем царапаньям Евстигней прислушивался уже несколько лет кряду) внезапно отступили.
Пробуждаемый буиниевским запахом, побуждаемый им к необычным действиям, стал Евстигнеюшка внюхиваться в запахи столицы. Деготь, торфяная и болотная вода, запах рыбы бочковой и запах свежей сомовины наполняли блаженством. Лежалые, восковые и свечные запахи сундуков и комнат – покоем и сытостью.
И еще один, едва выносимый запах, запах пудры, смешанный с запахом кисловатого ночного уксуса, запах утренних притираний и еще чего-то неизъяснимого иногда заполнял его до краев: в прихожую съемной музыкальной квартеры входила, не сказавшись, Буиниева супружница.
От нее-то сладостью притираний и несло: супружница добавляла к запахам стран и товаров запах тела, еще только остывающего от ночных ласк.
Но все ж таки больше привлекал запах мессера Буини.
Потому как запах мессера незаметно переходил в напругу труда. А труд вознаграждался неслыханным удовольствием: беглой и неостановимой клавесинной игрой…
Буиний привлекал еще и тем, что обучал не одной лишь технике. Учил понемногу сочинять, а сочиненное как след обмысливать.
– Слушай суда! Не токмо палец должен звук из клавиш извлекать. А и мысль должна сей звук извлекать! Pensiero, pensiero! Porca miseria! – хрипел учитель.
(«Мысль, мысль! Черт возьми!» – старательно переводил для себя ученик.)
Клавикордам Маттео Буини предпочитал клавесин. На клавесине и показывал, как мыслями извлекать особый звук. Еще более показов любил петь. И хоть было мессеру Маттео под шестьдесят – баритон он имел чистый, ничуть не треснутый.
Однако самое сладкое наступало после первых мгновений вступления Буиниевой супружницы в прихожую: запахи италианские и прочие смешивались, а потом и голоса сливались. Была супружница сильно моложе Буиния и также обладала сладостным, не подпорченным питерской сыростью голосом.
Не стыдясь учеников, вдруг затевали они дуэты, отрывки из опер, куски из хоровых ораторий – все, что ложилось в тот миг на полнозвучные италианские голоса. И тогда к звукам и запахам присоединялось последнее и лучшее удовольствие: осязательная мысль!
Ясным и плотным становился дотронутый пением мир. Колко и веско укладывалась на ладони незримая Италия. Острым скобленьем щек оттенял то пение и сразу признавался самым главным и самым нужным – ветровой и прекрасный Питер-Бурх…
Правда, долго учиться у Буиния не довелось: всего год. Но за год этот обретено было пристрастие к италианскому круглому пенью, к остро-клюющей – подобно десяткам и десяткам голубиных клювиков – клавесинной игре.
А вот к италианским мыслям про устройство российской жизни, каковые, купно с трубочным дымом, по временам выдувал вверх господин учитель, – Евстигнеюшка приучить себя не мог. Были те мысли чужеватыми, не имели оснований, быстро таяли, по-над Невой уплывали…
Тут в Академии озаботились. А скорее, просто опомнились. Сообразили: к чему учить воспитанников на стороне, переплачивать за уроки и прокорм? Интерес к музыке наблюдается ясно, наблюдается зримо? Так надобно тому интересу в родных стенах и потрафить!
Порешили: музыкальное обучение полностью сосредоточить в стенах Академии.
6 марта 1777 года сие решение было утверждено и подписано.
Величественное здание на берегу небыстрых вод (в некоторых частях своих все еще возводившееся французом де ла Моттом и лишь впоследствии довершенное русским Кокориновым) вдруг наполнилось – как та волшебная коробочка – звоном, гудками, голосами. Звон был струнный, гудки – медными и деревянными, голоса – восхищенными.
Всю весну в здание Академии везли музыкальные инструменты: пышногрудые виолончели; на верхах визгливые, а на басах глуховатые немецкие скрыпки; козлиного тембру английские рожки; молодецкие флейты с кларнетами.
Был привезен и новенький клавесин.
Приподняв крышку, Евстигней обомлел: сочные картины европской жизни, сверкнувшие над клавишами, излучали тепло, свет.
Явился и клавесинный настройщик. Кланяясь в пояс всем и каждому, открыл крышку, стал настраивать.
Вслед за настройщиком откуда ни возьмись – конференц-секретарь Академии господин Фелькнер. Конференц долго расхаживал вкруг клавесина, важно покрякивал, а уж после кряканья дважды повторил:
– Настраивать сей клавесин круглый год! Да слышь ты? Каждого месяца настраивать. Содержать во всяческой исправности. И гляди мне! Отчень, отчень бережно настраивать! А не то я тебя… Уф! Как это говорится: с пометом смешаю!
Обалдевший настройщик кланялся, фетровые обойные прокладки, припасенные им для клавесинного нутра, для умягчения щиплющих струны крючочков, одним словом, для демпфера, падали из рук на клавиши. На пол ронялся и настроечный ключ…
Евстигнеюшка смеялся редко. Однако сейчас рыжий Фелькнер, походящий на цаплю из сказки своими негнущимися ногами и выпученными, уставленными в одну точку глазами, его рассмешил.
Конференц-секретарь все ходил вокруг клавесина. Настройщик, уже в который раз протерев клавиши тряпицей, вздыхал. Евстигней смеялся. Учение продолжалось.
До переносу музыкального обучения в стены самой Академии Маттео Буини не дожил, умер. Это, однако, мало что изменило. Преподавание музыки следовало продолжать и улучшать. Да, улучшать! И добиваться этого следовало незамедлительно.
На такие мысли Ивана Ивановича Бецкого наталкивали успехи воспитанников: Скокова, Давыдова, того же Ипатьева-Фомина.
Решено было пригласить для воспитанников какого-нибудь известного и к преподаванию пригодного музыканта.
Весна и лето прошли в поисках такового. Вода прибывала и убывала, дул морской западный ветер. Музыкальный класс в Академии не складывался.
Наконец на исходе лета был найден музыкант подходящий, музыкант достойнейший. К тому же не испытывавший отвращенья от работы с воспитанниками. А главное, автор славно-известной оперы «Добрые солдаты», дающей ныне в Петербурге полные сборы.
Герман Раупах, уроженец Тюрингии, трудился в России уже двадцать лет. Языком овладел как надо. Любил щегольнуть грубоватым русским словечком. Не избегал подчеркнуть собственную мысль русскими стихами. Сие было объяснимо: все свои оперы последних лет герр Раупах положил именно на стихи русские.
Одни Раупаховы оперы были хороши, другие похуже. Но вот совсем недавно законченая опера «Добрые солдаты» – та удалась на славу! И не в последнюю очередь благодаря русским стихам.
– Ай, Матвеюшка! Ай, душка фон Херасков! – восклицал иногда герр Раупах. Затем, шепча, добавлял: – Ай, чей-то там потомок! С продавленной переносицей! С выставленным вперед, что твой кулак, боярским подбородком! С таинственным мерцанием глаз! Бывают ли таки потомки?
Впрочем, герр Раупах всегда был готов расцеловать некрасивую, но умную херасковскую физию. Ведь куплеты из «Добрых солдатов» распевались в Петербурге повсеместно! Для шестидесятилетнего Раупаха сие было успехом неоспоримым и долгожданным.
Терпеливый сын никому неизвестного веймарского органиста потирал от радости руки. И даже готов был сам – за сходную плату – исполнять в гостиных под аккомпанемент клавикордов все партии из «Добрых солдат» поочередно.
Однако нужды в том не было: певцов – и своих, и иноземных – в России имелось в избытке.
Первого сентября 1777 года с господином Германом Раупахом – сочинителем опер – был заключен договор.
Академия художеств обязывалась уплачивать и способствовать. Герр Раупах брался усердно приумножать и воспитывать. Деньги – талант. Талант – деньги. Быстро, хорошо, прочно. Мена одного на другое происходила четко, слаженно.
Раупахова музыкальная наука сильно отличалась от италианской. Обучившись игре на клавесине и органе у собственного отца, Герман Раупах и других учил по-домашнему: без театральных сцен и резких вскриков, без итальянских ароматических паров и прочих вывертов. Только строгие принципы композиции! Только выстраиванье музыкальной фразы. Только фортиссимо и пианиссимо. Одне плагальные и аутентические каденции.
Евстигнеюшка таким обучением был весьма обнадежен, а затем и покорен. «Азы надобно постигать, азы! – убеждал он себя. – Все сложное из простого вытекает. Правда, простое – ух! – так вот запросто из потока не выловить. Простое, оно самое сложное и есть!»
Разучивая этюды и короткие пиэсы, он все чаще задумывался над их строением и формой. Но нередко мысли его витали и вдали от методичных упражнений: то Алымушка, то ее высокородные товарки, то наплывающая на них на всех тень благороднейшего Ивана Ивановича Бецкова – смущали и отвлекали его: в минувшем августе (месяце королей, месяце римских кесарей) Евстигнею исполнилось шестнадцать…
В том же 1777-м, но уже в сентябре, был создан при Академии свой ученический оркестр. Евстигнея – как скрипичного самоучку – упекли во вторые скрипки. Но все одно: игра в оркестре была школой превосходной. Ну а занятия композицией, начатые господином Раупахом, ранее вторым капельмейстером придворного оркестра, а ныне профессором, – те шли всё быстрей, всё интересней.
Но тут – беда! Стылым декабрем следующего, 1778 года герр Раупах прямо на улице, при едва выпустившем иглы питерском морозце – еще сыром, гниловатом, – нежданно помер. Хотя был не хлипок и ничуть не дряхл. Резов был и подвижен! Но вот же: сердце, скованное первым ледком, этой самой подвижности не выдержало, на ходу встало.
Чтобы господина Раупаха отнюдь не забывать, и для грядущих академических нужд было следующей весной у вдовы его куплено: 18 балетов да 2 увертюры. Також куплены были партитуры синфоний, какие в наличии оказались. Всего – на 113 рублев.
Цена – немалая. И цена – ежели не всей жизни, так хотя бы полутора годам, проведенным Германом Раупахом в Академии, на вкус начальства – вполне соответствующая!
Глава одиннадцатая
В «Желтеньком». Органиструм
Санкт-Питер-Бурх будили барабаны.
Треск, надсада, тревога, сухость! Тресь-тресь-тресь! Стак-така-так-с!
Были и другие привязчивые звуки: дзынь-бом-дзын-нь! Бум-м-с! Даб-здыба-думс…
Лопавшаяся Нева, вейки-возчики с бубенцами (отзывавшиеся заливистыми дишкантами и тенорами тупозвонными), воробьиный порх, слабый шум фонарных горелок – каждый звук приносил новые мысли. Иногда – воспоминания…
Полгода в воспоминаниях о почившем учителе, в прислушиваньях к великой музыке столичного города, в недоумениях, в шатких самосильных занятиях и прошли. Еще полгода потребовались для приспособления ко нраву нового наставника: Антона Глазиуса Сартория.
А там еще год: тихий, незаметный, до краев запруженный музыкальными экзерсисами и, что важней всего, – попытками чрез упражнения перейти к сочинениям собственным.
Выходило скверно: под пальцами зияли пропасти, вырастали преграды. Все надо было делать по правилам! А настоящие правила знали только настоящие, а не случаем в Академию занесенные наставники.
Были, конечно, и правила общедоступные, безо всяких наставников легко постигаемые. И первое правило – и в италианской музы́ке, и в немецкой, и даже во французской – гласило: решай теоретические задачи, гармонизуй мелодию, бас.
Сие было полезно и кстати, но к развитию сочинительских навыков, к выработке собственных способов музыкального письма не вело.
Выход забрезжил нежданно. Был он доступен, прост.
Песня!
В который раз уж, прямо на улице услыхал он тихо-печальную песню…
Ну песня и песня. Тут же, однако, стали к ней подбираться аккорды. А еще, чуть спустя, песня внутри у него расширилась, раздвинулась. И стала уж не песня – стала театральная драма! Совсем недавно таковую драму в Пажеском корпусе видел.
Во поле береза бушевала,
Во поле кудрява бушевала…
Пытаясь расширить песню до малой музыкальной драмы, Евстигнеюшка кинулся бежать. На ходу себя спросил: «Куда, мол, бежишь, Есёк?» Сам себе и ответил: «Домой, в Академию!» Тут же, на бегу, уразумел: Академия отнюдь не дом родной! А тогда как? Тогда что? Вот завершит он обучение – и куда денется, где головушку преклонит?
Размышлять на бегу было неспособно. Перво-наперво следовало добраться до клавикордов или до стола и песню гармонизовать, придать ей благообразный вид. А уж потом раздвигать и расширять ее до песенной драмы. Или…
«Сделать кантатой? Ораторией? Чем-то иным, еще мне неизвестным?»
В таких и подобных размышлениях, в неустанных занятиях и редких посещениях консертов (неизмеримо чаще посещались комические оперы!) пробежало еще два года.
В Академии многое переменилось: куда-то пропал Ключ-Соль, был послан в Италию за казенный кошт ставший на время малоразговорчивым и сурьезным Петруша Скоков. Еще два воспитанника подались к езуитам. Перестала являться в стенах Академии Алымушка. И только Иван Иванович Бецкой (или, как чаще звали его меж собой воспитанники, Бецков) неизменно оставался при художествах, ведал наиважнейшим делом воспитания юношества!
Приспел сентябрь 1780-го. Был тот сентябрь, как всегда, тепл, а от листвы красноват.
Тут-то и случилось нечто не весьма вразумительное, но весьма неприятное.
Евстигней Ипатьев (теперь чаще прозываемый Фомин) пропал. То есть нагло и по-дурацки из-под надзору наставников, смотрителей, дядек – и даже самого конференц-секретаря Академии Христиана-Фридриха Фелькнера – исчез.
Стали искать – не отыскался. Тогда – чуть повременив – искать бросили. Вознегодовали, плюнули и растерли. Чай, не дворянский сын!
Евстигнеюшка же и верно – едва не пропал совсем.
Одного разу, в свободный от занятий праздничный день, ведомый запахами булочной сдобы и пирогов с сомовиной, – а обманывая себя, что ради песен, – забрел он в некий трактир. Трактир неблизкий, загородный, стоящий одиноко на едва заметном пригорке, оказался богатым, а назывался – «Желтеньким».
Евстигней заглянул испить водицы.
В заведении, однако, никого не было: ни посетителей, ни слуг, ни хозяина. Только двое поварят, а может, просто кухонных служек, зевая после ночи, очищали полы и лавки от вчерашнего сору, плевков, передвигали столы и лавки.
Один из убиравшихся вынул из стоявшего у стенки сундука и собрался куда-то волочь некий музыкальный снаряд.
Евстигней так и подскочил на месте: органиструм?
Такой инструмент видел он на старинном рисунке в Академическом собрании литографий и гравюр. Видеть видел, а потрогать руками не доводилось.
Испросив разрешенья, защипнул несколько струн по очереди. Струны держали строй крепко.
– Новая вещица, германская-с. А только играть на ней некому, – словно пропел выдернувшийся из боковых дверей половой, как девица русокудрый, с голосом медовым.
Евстигней осмотрел снаряд еще раз.
Так и есть: органиструм! Или по-иному – крестьянская лира.
Чуть вздутый гитарный (а точней, виолончельный) корпус, вместо нежной скрипичной шейки с колками для струн – короткая и толстая, без привычной головки, словно обрубленная, шейка. Струн на корпусе шесть. В них Евстигнеюшка разобрался быстро: две средние, настраиваемые в унисон, – те для извлеченья мелодии. Четыре другие – бурдонные – звучат всегда одним тоном, одинаково. Имелись на лире крестьянской и клавиши: для изменения высоты звуков. Был и «смычок». Евстигней даже рассмеялся: придумают же! Обыкновенное колесо с ободом, а поверти его рукой – так навроде смычка звук извлекать станет: звук протяжный, волной выгибаемый.
Крутанул колесо – и пошло-поехало! Ехало, однако, с запинками, с остановками.
Продолжая счастливо улыбаться, Евстигней вынул из-за пазухи тряпицу с гарпиусом – темной сосновой канифолью – для натиранья смычка. Сию канифоль (оберегая от незапасливых приятелей) всегда носил с собою. Следовало натереть канифолью обод. Для лучшей сцепки.
Натер. Смола пахучая, искристая, с изломом, обеспечила трение славное. Колесо сладко скрипнуло, завертелось исправней, лучше.
Тогда Евстигней попробовал на крестьянской лире сыграть. Сперва из Иозефа Гайдна: сочинителя знатного, досточтимого. Затем – питерскую припевку. Затем мелодийку из оперы из комической.
Привычные к скрипке пальцы крестьянскую лиру освоили быстро.
Половые и услужители, окружив играющего, дивились. Грозно топоча, пришел заспанный повар. Кинул на стол хвост копченого сига, добавил и пирога с капустой рубленой: ешь, мол.
Едва успевая глотать еду, Евстигнеюшка играл еще, еще!
Инструмент был прост, выходило громко, складно. Слушатели едва не плясали от счастья.
А стоило чуть игру утишить – тянуло петь!
Евстигней запел – явился хозяин. Не изругал, не вытолкал в шею, стал – через такт вздыхая – подтягивать: «Высоко сокол летает…»
Не желая расстаться ни с лирой, ни с песнями, Евстигней остался в трактире.
Жизнь на глазах меняла очертанья. Из ученика, приемыша – делался он персоной самоценной, весомой.
А тут еще – цыгане…
Пели и куролесили они в «Желтеньком», как впоследствии оказалось, через день. Прибыв вечером, довели своими таборными песнями-плясками воспитанника Академии едва ль не до исступленья. Он ухватился за цыганскую скрипку – в ней, что ли, секрет?
Скрипку у него, однако, отняли.
Тогда стал повторять за цыганами – когда те прервались на отдых – на органиструме. Сей повтор произвел впечатление невероятное!
Вроде тот же цыганский задор, то же ухарство. Однако переложенная для лиры «ромальская» музыка враз сообщила цыганским изворотам нечто высокое, европейское. Холодноватое, зато и неистребимое! Выходило куда как лихо.
За сию лихость – подавали Евстигнеюшке все больше и больше: совали за пазуху, кидали к ногам, подкладывали под струны органиструма.
Хозяин лишь улыбался в бороду. А одного разу – поздней ночью, почти под утро – сказал:
– Коли дальше так пойдет – станешь мне в месяц по двадцати рублев выплачивать. За игру на моем струменте. Да и себе столько ж – когда не больше – оставлять станешь. Обилен и славен станешь, Евсигней сын Ипатов!
Однако такая слава – меж пучеглазых гусар, загулявших купцов и красноносых стряпчих – скоро Евстигнею прискучила.
В первые дни показалось: трактир дом родной и есть. Однако потихоньку-полегоньку сие миражное видение рассеялось. Не дом – вертеп!
Трактир был загородный, неблизкий, и цыгане наезжали в него только к вечеру. Сами они имели жительство еще далее – в девяти верстах от Петербурга, в погорелой деревне, где когда-то существовали копи медных углекислых руд. Прибывали цыгане в трактир на тройках, но без шуму, без песен: опасались полиции.
Жизнь таковая сперва Евстигнею нравилась: и воля, и доля, и жрать – от пуза. И слава добрая об его игре и песнях шла. Да только вскоре все опостылело: одни и те ж песни, одни и те ж пляски. Пробовал было воспроизвести на органиструме самоновейшую немецкую и италианскую музыку – цыгане взбрыкнули. Хозяин же, услыхав, ту иноземную музы́ку, усмехнулся, вывел во двор, отодрал сапожным шпандырем. Драл без сердца, для науки. А все ж обидно!
Каждый вечер – подносили вина, еще какого-то зелья: с табачком, с дурманом. Зелье кружило голову, мрачило ум. Подсылали и молоденьких цыганок. Тех сторонился как бешеных собак: не выходила из сердца Алымушка.
Кончалось белесое чухонское лето. Дни августовские Евстигнеюшку всегда словно бы ото сна пробуждали. Пробудили и ныне.
Случилось так.
Старый цыган Дула ежевечерне продавал свою дочку: то заезжему гусару, то купчине какому, то проворовавшемуся провинциальному секретарю. «Была б деньга, плати да пользуйся!»
Раз-другой подступал Дула и к Евстигнею. Одного вечера сказал:
– Уж красотка тебя ждет не дождется. Растелешилась, слышь! Ступай в задние комнаты. Да деньгу давай! Три рубли! Жейя, она ведь, как прощупаешь, и более того стоит!
Евстигней отскочил в сторону. Дула вынул нож.
– Не пойдешь сам – отведу силой. Говори, щучий сын, где у тебя ассигнации спрятаны! Жейя моя денежку любит.
– А вот на кухне, идем.
Только вошли на кухню, Евстигнеюшка (ловко, хватко) с плиты булькающий котелок снял, Дулу старого, плешивого, умом тронутого и обварил.
Обварил – да и был таков.
Пришел он в «Желтенький» никем не знаемый, незнаемый и уйдет!
Шел скрытно, перебежками, подолгу хоронясь в канавах. Шел, услаждаясь радостью: не взял с собой ни единой ассигнации!..
В Академии приняли строго. И хотя милостей прежних полностью не лишили – долгое время смотрели косо. Но тут подоспел сентябрь, начались занятия серьезные, уроки строгие, без трактирного визга, без побрехушек цыганских!









































