Текст книги "Переписка Бориса Пастернака"
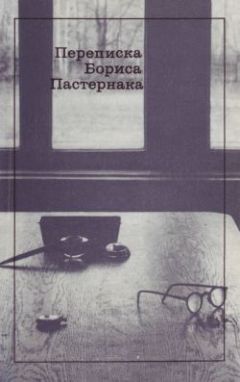
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Фрейденберг – Пастернаку
Glion <Середина июля 1912>
Нет, теперь это не столько скучно, как глупо. Оскорбление? Право на оскорбление? Что за возмутительные слова? Вот у тебя надо спросить – откуда взялась в тебе эта любовь к словесным фейерверкам? Не виновата же я, если у тебя такой удачный ассортимент знакомых, что каждое мое слово ты можешь раскладывать по группам слов своих знакомых. Тебя там, может быть, оскорбляют и без права на оскорбление, но я далека от таких жестокостей. Ты назвал в открытке свой теперешний период «чужим, общим и упадочным». Я этого не думаю; не думаю, что у тебя это упадочное время. Скорее у меня. И ты мог не оскорбляться – потому что я только могла сказать, что даже и этот период для тебя важен, и ты, конечно, пройдешь его. Если что и могло огорчать меня во всем этом, то только я одна, потому что я не знаю, чужд ли ты сейчас самому себе, но мне ты чужд. Что же в этом оскорбительного для тебя-то? Я тебя не трогаю; я даже согласна признать, что так оно и должно быть. Но позволь же мне, когда я хочу, посторониться: просто мирно отойти от тебя на другую сторону. Я это и сделала. И – повторяю – можно говорить сейчас обо мне, а не о тебе; здесь все сплошь мое личное дело. Я даже не смотрела, чужой ли ты или упадочный; я сразу заметила, что в тебе появилось это «общее» – ты удачно нашел это слово. С меня было этого достаточно; остальное меня не интересовало. Остальное интересовало тебя.
Ты не доволен, что я тебе пишу? Но я не могу примириться с твоим письмом. Мало ли о чем ты можешь просить; не ответить на твое необыкновенное письмо было бы еще более нелепо, чем его написать. И мое здоровье! Ты начинаешь повторять собою С. Маргулиуса: он тоже советовал тебе пить молоко и есть яйца на даче у Осипа[55]55
О. И. Кауфман, брат Р. И Пастернак, врач.
[Закрыть] – и это тогда, когда ты сидел у нас в Петербурге и говорил о разных близких тебе предметах. Вспоминаю твои слова во Франкфурте: ты стал делать то, над чем прежде смеялся.
Как мне подписаться? В единственном числе или во множественном?
Ах, как глупо, когда подумаешь, что я говорю то, что твои знакомые уже сказали тебе или скажут. Ты пишешь им такие же письма, как мне? И они тебе, наперекор стихиям, отвечают?
То, что ты едешь в Россию, очень хорошо; я тебе завидую. А то ты, бедный, уже ездил в Киссинген. Курорты до добра не доводят; то-то ты написал мне такое добродетельное письмо, соль которого годится только для ванны. Ну, прощай, Боря. Желаю тебе всего хорошего. И все-таки рада нашей встрече.
Я обещала Пастернакам заехать к ним в Марина-ди-Пиза, где они снимали виллу на берегу Средиземного моря. У дяди меня встретили с восторгом. Только Боря держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост, а я – что я была рядом с ним? Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой – это он импровизировал, а тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала.
Мы поехали с Борей осматривать Пизу – собор, башню, знаменитую, падающую, но не упадающую, колонну, о которой не известно – падает ли она, или нарочно так построена. Я хотела смотреть и идти дальше, охватывать впечатлением и забывать. А Боря, с путеводителем в руках, тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонялся, читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом. С этого дня ни единого звука Боря со мной не проронил; мы жили вместе, рядом, в полном бойкоте. Семейная обстановка и южная, слишком роскошная красота природы утомляли меня. Я мечтала удрать. За мной следом тянулась переписка, голубые конверты, телеграммы. Я, сидя под Пизой, назначала с легкостью свидания на вершинах гор и за тридевять земель, точно это был угол Канала и Гороховой. Однажды тетя «по ошибке» вскрыла телеграмму, которая начиналась по-французски словами «я буду совершенно один…» и шло место свидания, день и час. Я стала быстро собираться. Хотя смысл содержания этой депеши был очень невинный, она была от Жозе-де-Соуза, поджидавшего меня в Швейцарии, – но я придралась к возможности обидеться и уехать: дома у нас святость переписки была первой заповедью, а в «ошибки» я не верила.
Издевались надо мной ужасно! Шурка называл Жозе-де-Соуза «Соусом» и прекрасно острил («под каким бы соусом тебе ни телеграфировали…»), а Боря не удостаивал меня словесами. Он еще в начале осудил меня за встречу и поездки с Винченцо Перна (я не скрывала своих похождений), и очень остроумно называл этого уроженца Павии «твой павиан». Но это было весело, хоть и враки!
Пастернак – Фрейденберг
<Зима 1913 г. Не отправлено.>
Я о тебе не думал ни разу больше года, кажется. Но сегодня мне пришлось вспомнить о тебе и так, что это воспоминание погнало меня из дому, и я вернулся только для письма. Я не стану рассказывать тебе об этом состоянии, ведь не вызывать же мне в самом деле соответствующих впечатлений в тебе. Но иногда ощущаешь время, как порыв каких-то пассатов в прошлое, и это прошлое кажется тебе только что оторванным, как ставень в бурю, и отнесенным в сторону и кинутым поодаль, в те сроки. Мне кажется, я был еще так недавно с ним и только сейчас испытал мгновенное разорение. И как не сказать тебе о нем?
Это письмо попадет в Петербург, и его перешлют тебе оттуда. Да ему и нужно побыть в городе воспоминаний, этому «нынешнему» письму.
Ты не поняла вероятно моего летнего упрека, хотя в той форме, как я его высказал тебе из Марбурга в Швейцарию – он был тяжеловесен и не говорил о жизни. Но это было просто недостатком выражения. Ты еще помнишь? Однажды утром, в обстановке немецкого университета, куда меня привел разрыв с иным, совершенно несходным прошлым, которое тогда казалось мне заблуждением, я узнал, что оно было живою истиною. Если до этого заявления я страдал просто непривлекательностью чуждых мне занятий, навыков и интересов, к которым я приневолил себя силою, как к некоторой обязательной норме, чтобы не быть таким смешным, лиловым, и таким одиноким, чтобы приблизиться к тем немногим дорогим мне людям, которые заставляли меня произносить длинные речи без конца и без ответа и, очевидно, ждали другого языка, при котором они могли бы стать собеседниками; – но теперь к этому мученью присоединилось сознание, что все это было ни к чему и что их былое молчание скрывало в себе согласие и было знаком единомыслия.
Да, это случилось как-то раз в Марбурге. Я бродил с письмом, которое запоздало на два года с лишком и все перепутало в моей жизни. Было так ясно: предстоял новый разрыв, и я не остановился перед ним. Хотелось многое восстановить. Ты вероятно приписываешь мне разные эффектные побуждения и, оделив меня мысленно ими, не можешь не смеяться затем над этим банальным и бедным образом.
Но я тут ни при чем.
Мне надо оговориться. Нужно быть справедливым и благодарным. Твое письмо, то осеннее, из Петербурга, после Меррекюля, длинное, длинное, благодатное, в которое можно было уйти до самозабвения и которое не закрывалось для тебя при твоем приближении; может быть оно только и припомнилось мне сегодня и опрокинуло меня.
Ты думаешь, я вот сижу сейчас и роюсь в старых воспоминаниях и старчески кашляю над выдвигаемыми ящиками стола?
А между тем я перебираю способы, какими можно было бы испытать твое существование сейчас помимо того, больного и почти невыносимого воспоминания.
Пастернак – Фрейденберг
<Надпись на книге «Близнец в тучах». Издательство «Лирика». Москва, 1914. >
Дорогой Оле с любовью и признательностью за одну летнюю встречу…
До следующего свидания на подобной странице
Боря
20. ХII.1913.
Я поступила в Петербургский университет. Стояла осень 1917–1918 учебного года. Университет еще имел старый вид. Знаменитые старые профессора читали открытые публичные лекции. Я помню амфитеатры, профессоров в черных сюртуках, читавших с кафедры. Революция породила вольность. Интеллигентная публика свободно слушала кого хотела. В университет я пришла разбитая бурями пережитого. Как инок я молилась и служила. Это было мое убежище.
В марте я уже училась по-настоящему, по отделению филологии, но еще не знала, какой. Я чувствовала великую силу своей зрелости, которая позволяла, как мне казалось, лучше постигать существо науки. Свобода университетского преподавания чудесно формировала мой кругозор. Профессора отличались друг от друга, имели свое умственное лицо, объявляли курсы, какие им хотелось. Я слушала всех философов.
1919 год был для меня очень важным. Самым важным. В этом году я начала заниматься у Жебелева на классическом отделении…
В ноябре я заболела и слегла. Мы все переехали в одну комнату, где дымилась жестяная «буржуйка». Мама хлопотала на кухне, которая была для нее семейным очагом…..
Страшные дни! Жизнь пустела. Профессора умирали. Живых арестовывали. Университет перестал функционировать, покрывался пылью и тлением. Все боролись, как на войне, дома. Занятия распались…
Отец был смертельно болен, лежал в постели, не вставал. Он страдал жаждой и вкусовыми капризами, которыми терзал маму. Ужасно было ее положение с двумя тяжело больными, без денег и перспектив. 1 августа 1920 года папа скончался.
У меня не было настоящего великого горя. Оно было поглощено ужасом пережитых лет, месяцев, дней, последнего свидания с ним в больнице.
Мама порвала с дядей Ленчиком. Она не могла простить ему, что он после смерти папы не заехал к нам и, легально покидая Россию, не нашел возможности повидать маму и проститься. Правда, получив письмо, адресованное рукой Сашки, он понял его страшное содержание и предложил нам с мамой переехать к ним в Москву и жить с мальчиками (то есть у Бори и Шуры). С какой горькой гордостью мы отринули это приглашение!
Пастернак – Фрейденберг
Москва, Волхонка, 14, кв. 9
29 декабря 1921
Дорогая Оля!
У меня до сих пор лежит летнее письмо мое в ответ на твое издевательское и жестокое. Ты меня тогда не поняла и жестоко высмеяла. Но я так устроен и так люблю твой Humour (это шире ведь, чем юмор?), что полез к папе и сестрам хвастаться тобой: каково, мол, отхлестала! И нашим понравилось, как ты меня отчехвостила, несмотря на то, что моего письма к тебе они не читали и, следовательно, судить о справедливости твоей карикатуры не могли. Так как для тебя не было бы приобретеньем усвоенье более правильного взгляда на все то, что я в своем письме тогда разумел, а ты для меня не делаешься хуже от того, как на меня смотришь, то больше не будем этой темы касаться, а вот что.
Немедленно же, немедленно, прошу тебя, напиши мне, как вы все поживаете, тетя Ася и ты и Сашка, как живете и что ты делаешь. И ради Бога попрактичнее (прости за варваризм). Промедленье в этом отношеньи с твоей стороны очень меня бы огорчило и даже взволновало. Ради Бога, садись писать, не откладывая. Где же я был до сих пор, скажешь ты, если мне так загорелось все это узнать? Оно и правда, да мне и самому неясно, зачем я предпочел месяцы провесть в неосновательных пожеланьях вестей о вас и от вас, ни разу не сделав попытки заложить для этой мечты оснований. Не будь же строга в меру моей глупости, избери ее в мерку своей снисходительности.
Пусть тур эпистолярного контрданса замкнется до истеченья года, я прошу тебя, поскольку это в силах – возможностях почты. А если новогодняя ночь ляжет промеж привета и ответа, то вот тебе и тете и Сашке мой поцелуй за всех шестерых, крепкий и молчаливо до краев налитый всей терпкостью невыразимого в его глухой силе пожеланья, того, которое братается с фатумом и в своей фатальности сбывается, того, которое в живой своей горечи дает богатую цену правдоподобного оптимизма, того, которое видит будущее за теми, к кому обращено.
С Новым годом, Олечка!
Прости, что пишу тебе только сердечно, а не содержательно вдобавок. Прости за небрежность. Я пользуюсь перерывом между двумя порциями новообразовавшегося за последние мои годы глухонемого безделья. Как глухонемые, эти приступы безделья и идиотичны кроме того. А я не хотел, чтобы письма к тебе шли от идиотов. Оля, прошу тебя, садись писать сейчас же. И не пиши ответа на письмо: то есть не считайся с ним; что оно де тебя огорчило или тебя порадовало. Оно ни на мизинец не должно урезать твоего письма, став хотя бы вводной его темой, приступом, поводом или придиркой. Пишут ли вам наши из-за границы? Ты знаешь, они ожили там, и письма родителей моложе адресатов и их глаз, которые тут их читают, стыдно сознаться.
О себе не пишу. Это либо в скорости в очередном письме (за твоим), либо же еще как-нибудь. Мне не хочется целоваться с тобой и тетей после того новогоднего объятия, которое было почти калечащим по иллюзии: оно размягчило мой почерк и заставило руку плясать.
Твой Боря.
Пастернак – Фрейденберг
<Надпись на книге «Сестра моя жизнь». Издательство 3. И. Гржебина Москва, 1922 г.>
Дорогой сестре Олечке Фрейденберг от горячо ее любящего
Бори
16. VI.1922
Москва
Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее.
Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат, и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела.
Пастернак – Фрейденберг
Тайцы. Балтийской. Воскресенье. <25.VII.1924(?)>
Олюшка, дорогая моя сестра!
Ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге, и не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой. Физически это было возможно. У меня было три часа времени. Но я был неуверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уже от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучьем, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было. Если бы я пришел, ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь, – я ведь не допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь недоставало меня, но только оттого, что это чувство испытываю я к вам, оттого, иначе сказать, что в этой большой, далеко вглубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на десять лет, тяжелой, невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы – лучшие, любимейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и я засуществовал бы вновь, с вами, за вас, ты все это знаешь.
И вот я боялся, что вместо этого всего будут Мони, Яши, Берли́ны,[56]56
Речь идет о разных родственниках. Родители Б. Пастернака жили в Берлине.
[Закрыть] обидные темы, недостойные комнат на Канале – и, дорогая Оля, о неужели заслуженные мной? В три же часа успеть подготовить письмом и потом прийти нельзя было, и я эту возможность упустил, обалделыми глазами следя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли, – город Оли и никакой другой.
Помнишь, тринадцать лет тому назад возвращались мы из Меррекюля. Помнишь, как звучали названья станций Вруда, Пудость. Тикопись? Мы их потом никогда не вспоминали. Они попадались впоследствии в датировках Северянинских стихов. А ты мне тогда о нем рассказывала, на извозчике кажется, по дороге с вокзала. Помнишь? Помнишь все? Так тебя тогда папа, дядя Миша встретил! Как я любил его в этот вечер! Помнишь, Оля? Я поворачиваю голову в сторону и вглядываюсь в эту страшную даль. Точно недавно ударившим ветром это все за край поля отнесло, подбежать – подберешь.
Слушай, как чудно, как безрадостно чудесно. Я пишу тебе из Тайц, со станции, смежной с Пудостью. Ты – петербуржка, тебя этот язык Балтийской дороги не может удивить и привесть в возбужденье, ты летами вероятно возобновляла прямо или косвенно звучанье этих чухонских заклятий. Но можешь себе представить, что делает этот словарь со мной. Вот как это случилось. К весне Женя измучилась и истощилась до невозможности: надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик, зовут также Женичкой, она малокровна, кормила, изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас был прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх в две комнатки в Тайцах.
Я остался в Москве, чтобы поработать и написать Илиаду, Божественную комедию или Войну и мир и таким образом радикально поправить дела надолго. Надо ли говорить, что я с таким самочувствием и до Аверченки не поднялся, т<о> е<сть> попросту ничего не сделал. Тем временем я успел захворать, болел пустяковейшей ангиной, которая, однако, отозвалась на сердце, страшно скучал по Жене, и все никак не мог достать денег, чтобы оплатить квартиру за несколько месяцев, разделаться с долгами и к ним съездить. Теперь я наконец попал к ним в Тайцы, и вот тебе объяснение моего трехчасового пребыванья в городе. Первою мыслью моей было просить тебя погостить у нас, об этом бы я стал просить тебя на коленях, принимая на себя все обидные слова и клички, которые ты написала в Берлин. Скажу вскользь, наверно ты права, наверное я мерзок, я этого не чувствую, не знаю за собой, но тебе лучше знать, что с того, что в моем опыте с тобой и с тетей ничего от неловкости, оплошности и т. д. нет, а только всегда порыв, волненье, интерес и преданность. Но это – мимоходом. Я собирался в город вчера, в субботу, но опоздал на поезд. Мне хотелось завезти тебя на воскресенье. Дело в том, что по приезде в Тайцы я увидал, что поселиться просто у нас тебе негде будет (ты сама увидишь), т. е. что тебе тесно будет, неудобно и отдыха никакого. Тогда же Женя стала подыскивать для тебя комнату поблизости, и одна уже есть на примете, точно узнаем на днях. Письмо это преследует одну цель. Напомнить о себе и о том, что пишет письмо не собака. Начинать с этого при встрече было бы тягостно. В середине недели (среда, четверг) днем буду у тебя. Был бы и раньше, но, как сказано, до письма боюсь. При проезде же настоящей причиной того, что не зашел, была невозможность видеть кого бы то ни было до своих, я по них сильно стосковался. Теперь они тут, и, начав письмо, об этом забыл. Крепко целую тебя, тетю и Сашу.
Твой Боря
Пастернак – Фрейденберг
Тайцы. Понедельник <4.III.1924(?)>
Дорогая Олюшка!
У меня болит горло и несколько повышена температура (37,4). В другое бы время я не обратил на это внимания и приехал в точности в назначенный час, тем более, что это для меня одно удовольствие и счастье победить твою несговорчивость насчет издателя[57]57
Тихонов А. Н., редактор «Всемирной литературы». Речь идет о переводе первого тома «Золотой ветви» Фрезера.
[Закрыть] и поездки к нам, но летом я очень провозился с ангиной, трижды возвращавшейся и отразившейся на сердце, что и делает меня до смешного осторожным. Слово тети о тяжести понедельника таким образом сбывается с неожиданной стороны. Я приеду в город в следующий приемный день Современника,[58]58
В журнале «Русский современник» Пастернак публиковал стихотворения М. Цветаевой.
[Закрыть] т. е. в пятницу в три часа, как предполагал сегодня. Не сердись же на меня, если тебе из-за меня пришлось потерять два-три дневных часа, и ради Бога не наказывай меня за движенье бактерий, которое не в моей воле. Вот на всякий случай наш адрес: Тайцы Балтийской ж. д. Евгеньевский пер., 3, дача Карновского. Если бы ты собралась к нам до пятницы, это было бы для нас большой радостью. Жене мало тебя, она еще очень просит тетю и горячо вас обеих целует. От вас на Балтийский ходит трамвай № 2, остановка на углу Садовой и Гороховой, как ты мне говорила. На сегодня у меня был такой план. Если бы мне удалось уломать тебя на завтра (вторник) к нам в гости приехать, то мы бы отправились с тобой на поезде, отходящем из города в 9 часов утра (по городскому времени), и для того, чтобы не проспать его и вовремя поспеть, я бы к вам ночевать напросился. Следующий, к сожалению, идет только во втором часу (1.40) по городскому, а это поздно, половина дня пропадает. Ах, Оля, как жалко, что я тебя сегодня не увижу. Но если два часа назад у меня еще были колебанья и некоторая надежда, что может быть я все же поеду, теперь об этом и говорить нечего: у меня жар увеличивается. Итак, если Бог даст, – до пятницы. Целую тебя и тетю.
Поклон Саше и его жене.
Твой Боря.
Окончив университет и перестав быть учащимся, я потеряла «социальное положение», без которого жить при социализме недопустимо.
Я металась в поисках опубликования своей работы[59]59
Работа о происхождении греческого романа.
[Закрыть]. К кому я могла взывать?.. Марра[60]60
Марр Н. Я. – заведующий славянской секцией в Институте литературы и языка Запада и Востока.
[Закрыть] человек не интересовал. Он жил своей теорией, и человек становился ему виден, когда речь шла об этой его теории. Он прекрасно ко мне относился, и я у него бывала, и он читал мне свои работы, но ему не было до меня, как живого человека, никакого дела.
Я писала с исступлением Боре, писала ему слезами и кровью. Я умоляла помочь моей работе. Луначарский, наркомпрос, и Покровский[61]61
Покровский М. Н. – председатель Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ).
[Закрыть], наркомпрос (не помню их соотношения) хорошо его знали.









































