Текст книги "Я жгу Париж"
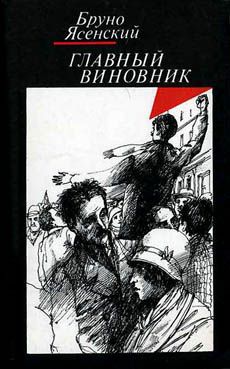
Автор книги: Бруно Ясенский
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Позже оказалось, что это не имя, а фамилия. Имена были другие. Разъезжая по городу, дядя Чао Лин учил его по внешним признакам узнавать имя каждой повозки. Имена были странные, запоминались с трудом: Бра-Зье, На-Нар, Дай-Млер, На-Пьер, Ре-Но.
Однажды по дороге встретился им черный лакированный экипаж, стройный и пышный, как волшебный паланкин, с занавесками на окнах и мягкими серо-бархатными подушками. Назывался еще чуднее: Мер Се-дес. Дядя Чао Лин проводил его влюбленными глазами:
– Вот на такой машине хоть весь свет объезжай!
П'ан заинтересовался:
– Дядя, а в Европу на такой доедешь?
– И в Европу доедешь.
П'ан оглянулся в восторге, но экипажа уже не было. Умчался вдаль.
Питался в это время П'ан главным образом бананами дяди Чао Лина, но иной раз случалось уже заработать несколько тунзеров. Валандаясь по улице, того и гляди подвернешься под руку какому-нибудь дяде – и дело в шляпе: сбегать туда-то с запиской и мигом вернуться с ответом. Были у него крепкие и на редкость быстрые ноги (по-видимому, унаследовал их от отца, который слыл первым бегуном). Пробежишь рысью два-три квартала и обратно. Заработок готов.
Так и в этот день. Какой-то толстый кондитер послал сбегать с письмами к компаньону. За ответ – два тунзера и пирожное вдобавок. Помчался галопом.
Было это далеко. За городом красивый чистый проспект – зелень, а среди зелени, как игрушечные кубики – белые особняки. Такого не видел никогда. Шел медленно, забыв о спешности поручения, мечтательно оглядываясь по сторонам. Вдруг – обомлел. У закрытой калитки черный, блестящий, как чудный паланкин, стоит, слегка похрапывая, он – волшебный Мер Се-дес. Не могло быть сомнения, узнал его сразу. Стоит один, тихонько фыркая в песок. Даже шофер – и тот куда-то ушел. Стоит лишь вскочить на сидение, повернуть послушное колесо и – поминай, как звали. Направо, налево – ветвистые линии дорог, как таинственное «куа» на священной скорлупе черепашьей. Впереди, за тридевять земель, – гигантский железный город Е Вро-па.
От волнения даже уронил записку. Оглянулся кругом – ни души. В ушах назойливо звенел голос дяди Чао Лина:
«На такой машине хоть весь свет объезжай».
Колебался. А в голове – словно пчелиный рой.
Нет, не устоять. Изогнувшейся кошкой вскочил на сидение. Лихорадочными руками включил мотор. Автомобиль плавно покатился. Надбавил скорость. По бокам промчались в бешеной пляске особняки, деревья, развернутая со свистом лента решеток. Впереди – в бесконечность летит длинная межа дороги. Люди опоясали дорогой земной шар, как треснувший кувшин проволокой. Прощай, Нанкин, пинки, ушибы, недоглоданные кости, злой каллиграф, Янцынцзян со священной книгой «И-кинг». Дядя Чао Лин, прощай!
Вдруг обмер. На плече ясно почувствовал чью-то тяжелую руку. Оглянулся – и оробел. Изнутри кареты, из-за отодвинутого стекла, лез белый душистый человек со свирепым лицом, силясь перепрыгнуть на переднее сиденье. Стальная рука схватила П'ана за шиворот. Автомобиль мчался карьером, мягко подпрыгивая на выбоинах. Перебравшись на переднее сиденье, белый господин вырвал из рук у П'ана руль и стал тормозить машину.
П'ан сначала просто испугался и от внезапного испуга выпустил из рук колесо. Но постепенно стал соображать. Белый господин, по-видимому, все время сидел внутри, за занавесками, быть может дожидаясь шофера. Как это П'ану не пришло в голову посмотреть через окошко внутрь? Теперь все пропало. Убьют наверняка. Одно спасение – улизнуть из рук этого типа и нырнуть в заросли.
Автомобиль остановился. П'ан шарахнулся из всех сил и хотел ускользнуть, но белый крепко схватил его за шиворот, выкрикивая что-то на непонятном языке: должно быть, ругался. П'ан понял только слово «вор», которое белый от времени до времени повторял по-китайски. Крепко держа П'ана левой рукой, он правой повернул автомобиль. Покатили обратно. П'ан попробовал было укусить державшую его руку, но в ответ получил здоровый удар в подбородок, от которого у него зазвенело в висках.
Ехали молча. У злополучной калитки белый остановил автомобиль и громко позвал кого-то. Из особняка выбежали люди и окружили машину. Белый все выкрикивал непонятные слова. Отчаянно отбивавшегося П'ана схватили и потащили, не скупясь на подзатыльники. Притащив к крыльцу, втолкнули втемную каморку под лестницей и ушли, заперев дверь на замок.
П'ан сосредоточенно потирал ушибленный подбородок. Попробовал дверь – крепка, не убежишь. Нечего и пробовать. Крышка!
Через час пришли, выволокли из каморки и понесли наверх. В большом великолепном зале, где пол блестел, как лакированная крышка, сидел белый господин из автомобиля, еще несколько белых и один толстопузый китаец, мандарин или купец, в богато расшитом шелковом халате.
Китаец сразу приступил к допросу по-китайски:
– Зачем крал автомобиль? Кто тебя подослал? Назовешь сообщников – не сделаю ничего. Не скажешь – так отколотят, что всю подноготную выболтаешь.
Молчал. И как же рассказать такому толстопузому про железный город, про скорлупу черепахи, про сокровенную тайну белых людей?
Позвали прислугу. Пришли два китайца с толстыми бамбуковыми тростями. Растянули на столе. Бамбуком стали колотить по голым пяткам. Взвыл.
– Назови сообщников!
Толстопузый, как лягушка, прыгал вокруг и квакал:
– Не назовешь – не так еще поколотят.
Колотили долго, с передышками. Не кричал, только взвизгивал. Китайцы – и те уморились. Не добились ничего. Толстопузый, разводя руками, затараторил по-иностранному с белым господином. Китайцы взяли П'ана под мышки и понесли обратно в каморку. По дороге ласково погладили по лицу. Спросили, очень ли больно? И добавили, как бы оправдываясь:
– Барин велит бить – ничего не поделаешь.
Вечером украдкой сунули в каморку миску с рисом и порядочный кусок пирога.
– На… не плачь. Поешь.
Съел жадно, облизывая пальцы. Задумался. Вот опять били. И завтра, наверное, будут бить. Белые – понятно, враги. А этот, толстопузый? По платью видно – богач. Тоже с ними. Танцует перед ними на задних лапках. Значит, и он враг. Правильно говорил дядя Чао Лин. Не только белые – и свои. Император, мандарины, богачи – все сговорились заодно. Давят. Жить не дают. Все на них жалуются. Вот у белых людей машины, чтобы убивать. Когда вырастет большой, вернется на такой машине – этих надо будет истребить в первую очередь.
Уснул со сжатыми кулаками.
Утром потащили снова наверх. Упирался – не помогло. В зале уже торчал толстопузый. На этот раз не грозился. Притворно-дружелюбно скаля зубы, стал расспрашивать:
– Где отец?
– Нет отца, умер.
– А мать?
– Тоже нет.
– А родственники есть?
– Нет.
– У кого живешь?
– Ни у кого.
Передал по-иностранному белому господину… Долго советовались, покачивая головами. П'ан подозрительно оглядывался по сторонам: не несут ли бамбуковой трости. Не принесли. Наговорившись с белым, толстопузый заговорил по-китайски:
– Ты – вор, и тебе бы, как полагается ворам, – на шею «канг»[43]43
Канг – деревянная доска с отверстием, в которое просовывается голова преступника.
[Закрыть]. Но белый господин – милосердный господин. Белый господин жалеет сирот. Много бездомных китайских сирот он устроил в богоугодные заведения. Поэтому он помиловал тебя и решил больше не наказывать, а поместить в сиротский приют христианских миссионеров, чтобы под их руководством ты познакомился с истинной верой и научился почитать великого христианского бога, который говорил, что кража – большой грех. Иди и поцелуй руку твоему благодетелю.
Окончив эту торжественную речь, толстопузый потащил П'ана за шиворот к руке благодетеля, но мальчик так враждебно оскалился, что белый господин, вспомнив, по-видимому, вчерашний укус, торопливо отдернул руку.
Потом П'ана повели обратно через зал и посадили в тот же злополучный автомобиль; вместе с ним влез толстопузый китаец и другой белый господин, и автомобиль покатился в неизвестном направлении.
В белом каменном доме, куда поволокли из автомобиля упирающегося П'ана, суетилось много белых людей в длинных, странных халатах. В большом зале на стене П'ан заметил большое плоское дерево о трех концах, и на дереве прибитый за руки висел маленький голый человек со склоненной набок головой. Должно быть, так у белых людей наказывают воров. Толстопузый говорил: белый бог запрещает красть. Вот сейчас и его так: зачем крал автомобиль?
Большие окна выходили в сад, а в саду П'ан увидел таких же белых людей в длинных халатах.
Толстопузый и господин, привезший П'ана, беседовали у окна с длинным господином в халате. От белых стен, от страшного человечка, прибитого к дереву, П'ану вдруг стало жутко. Господа, занятые разговором, обернулись к нему спиной. Шагах в пяти чернела спасительная дверь. Сосчитав до трех, П'ан кинулся к ней одним прыжком. Дверь в этот момент открылась, и он шлепнулся прямо в объятия входившему длиннополому белому человеку. Человек подхватил его на руки и понес, хотя он отчаянно отбивался, в глубь белых прохладных коридоров.
И тут П'ану стало ясно, что все пропало, что его запирают в белый прохладный погреб, что не увидит уж он никогда дребезжащих колясок, длинных стеклянных вагонов, пестрых, цветных ящиков дяди Чао Лина, сказочных черных паланкинов на бесшумных одутловатых колесах, и он расплакался громко, по-детски, навзрыд, и плач его долго передразнивали длинные белые коридоры.
Было тогда П'ану десять лет.
* * *
К вечеру оказалось – не так уж страшно. Был тут не один. В длинном зале с койками в два ряда – десятков семь мальчуганов. По крайней мере будет с кем поговорить.
Купали. Мыли. Облачили в длинную рубашку до пят. Вечером, прежде чем лечь, выстроили всех у коек на колени, и все хором протараторили какой-то напев. На стене тот же скрученный голый человечек, прибитый к трехконечному дереву, пугал гримасой болезненно искривленных губ.
Расспросил соседа по койке обо всем обстоятельно. Очень ли бьют? Сказал: не очень. Что делают? Учат иностранному языку и еще многим другим вещам. Пожаловался на еду: сладкое дают только по воскресеньям. В общем – скучно.
Вошел «отец» в длинной рясе. Сосед тотчас же нырнул в подушку, притворился, что спит, да так ловко притворился, что когда длиннополый, сделав осмотр, ушел, – храпел уже в самом деле. Пришлось с остальными вопросами подождать до утра.
Вытянулся в первый раз в жизни на прохладной настоящей кровати. Показалось неудобно. Подушка как-то не шла к голове. Откинул ее набок. Зато одеяло понравилось – тепло. Вытянулся поудобнее, задумался.
Что же, вовсе не страшно. Если малый не врет, кажется, здесь просто школа. Учат иностранному языку и другим вещам. Поучиться интересно. Только зачем это белым людям пришло в голову учить китайских мальчиков? Скорее всего – подвох. Надо будет раскусить. Самое главное – выучиться иностранному языку. Тогда можно будет послушать, что говорят между собой белые люди. Авось, проболтаются. Надо быть начеку, смотреть в оба. Разузнать, что удастся.
Уснул, свернувшись в комок, как еж, – пленник во вражеском лагере.
Потом дни и недели. Много странных вещей и чудесных рассказов. Оказалось, человек, прибитый к дереву, вовсе не вор, а самый что ни на есть настоящий бог. Кругленький отец Франциск говорил, что он нарочно обернулся человеком, чтобы пострадать за всех, даже за него, за маленького П'ана. Говорят, его тоже колотили изрядно. Не верилось. С какой стати белому человеку, будь он даже бог, страдать за китайцев? Отец Франциск рассказывал про него много удивительных вещей. Например, когда его колотили и закатили ему одну пощечину, он не отбивался, а подставил другую щеку. На, дескать, бей, сколько влезет. Словно клоун в балагане на ярмарке. Отец Франциск говорил, что смирение – великая добродетель. Но при чем тут смирение, когда бьют? Не будешь защищаться – забьют насмерть. Вот и этого убили. Просто чудак.
Впрочем, не простой чудак, а хитрый. Все про смирение. Не противься злу. Кесарево – кесарю, а богово – богу. Богу, что ж, богу надо немного, а вот с кесарем-то как? Кесарь – царь, император. Император, известно – враг. Помогает мандаринам и белым обворовывать народ, чтобы дохли с голода детки дяди Чао Лина. Как же это бог, справедливый и праведный, велит китайцам не противиться императору? Сразу видно – белый.
Вот отец Франциск говорил на прошлой неделе: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу – в царство небесное». А сам каждое воскресенье принимает от белых богачей подарки всякие – вина да фрукты – и часами любезно с ними беседует, а когда уходят, провожает их до автомобиля, ничуть не смущаясь тем, что они не войдут в царство небесное. Значит, должно быть не так уж важно царство небесное, раз богачи туда не особенно торопятся, да и сам отец Франциск не видит в этом худа. Видно, не очень уж заманчиво это царство небесное, раз посылают туда одних бедняков.
Нет, не полюбился этот смиренный бог П'ану. Видно, подкупили его богачи да императоры, чтобы уговаривал бедняков к послушанию. И колотить себя он мог позволять для примера сколько угодно. Ведь раз он бог, значит ему не больно было. И умереть ему, наверно, ничего не стоило. Нет, нельзя верить такому богу. Этот бог – обманщик.
Но притворялся, что верит. Ревностно крестился и откалывал наизусть аршинные молитвы. Все хвалили его. Даже угрюмый сухопарый отец Серафим, и тот нет-нет – да даст иногда апельсин или пирожное. Очень уж усердный малый этот П'ан. Работал прилежно. По часам, закрыв глаза, зубрил странные иностранные слова. Таблицу умножения в две недели осилил. Чем дальше, тем больше.
К концу года приезжал сам отец Гавриил, старейший из лазаристов[44]44
Миссионеры ордена св. Лазаря.
[Закрыть]. К его приходу два дня мыли да скребли весь приют. Приехал толстый такой, упитанный, еле взобрался на лестницу. Два братца помоложе водили его под руки по комнатам. Беседовал с П'аном. Расспросил про то, про се. Заинтересовался. Стал спрашивать подробнее. Катехизис – на зубок. Похвалил. На прощание дал поцеловать руку и одобрительно погладил по голове. Притаившись у дверей, П'ан слышал, как толстый говорил отцу Франциску:
– Очень, очень способный мальчик. И развит не по летам. Жалко такого в профессиональную школу. Обязательно в гимназию. Я сам переговорю с отцом Домиником.
Отвезли в Шанхай – в гимназию.
В гимназии не только китайцы, но и белые мальчики. Оказывается, и белых учат тому же. Стал учиться еще усерднее. Белые, правда, держались в сторонке, отдельной группой. На желтых поглядывали с презрением. Дразнили: «Косой! куда косу девал?» Однако задачу списать – этим не брезгали. Из-под скамейки ласково потчевали пирожком. Но в перемену – не подходи. Тот, что списывал и пирожок совал, высокомерно отрежет: «Не лезь, байстрюк!»
Однажды П'ан услышал: на большой перемене сговорились переделать в журнале скверные баллы. Курносый с родинкой на щеке украл ключ от учительской. Все баллы переправил. Заметили. Пришли допрашивать. Кто?
Встал курносый:
– Это не мы. Это китайцы. Они нарочно наши баллы переправили, чтобы нам подгадить. Я сам видел, как этот косой украл ключ от учительской.
Указывает на маленького безобидного Ху.
Отец Пафнутий – маленького Ху за шиворот и линейкой по пальцам.
– Вон.
П'ан не выдержал. Подскочил к курносому – и кулаком в морду… бац! Покатились на пол. Еле розняли. У курносого кровь носом и под глазом фонарь с пятак. С расквашенной мордой поплелся домой. П'ана выволокли за уши и заперли в пустой класс.
После обеда на автомобиле примчался отец курносого. Дородный, душистый, с красной пуговкой в петлице[45]45
Высшая степень Почетного легиона.
[Закрыть].
В канцелярии у отца Доминика кричал, топая ногами:
– Немедленно выкинуть!
П'ан слышал через стенку: отец Доминик извинялся. Оказалось, баллы действительно переправил курносый. Папаша смягчился.
– Наказать на моих глазах. Пятьдесят розог, ни одной меньше!
Послали за дворниками. П'ана потащили в канцелярию. Растянули на скамейке. Стали отсчитывать удары. Белый с пуговкой в петлице отстукивал такт ногой в изящном ботинке, раздраженно фыркая. На сороковом ударе трость сломалась пополам. Господин с пуговкой не настаивал. Хлопнув дверьми, укатил восвояси. Высеченного П'ана отец Доминик поставил на колени лицом к стене. Простоял так до вечера.
На следующий день объявили: помиловали только за прилежание в науках. Повторится что-либо подобное еще раз – выкинут вон.
Не повторилось. Закусил губы. На прозвища и ругань белых не отвечал. Мимо курносого проходил, не глядя. Только задач больше списывать не давал. И пирожков не брал. Впрочем, больше и не пробовали. Обходили издали.
Так прошел год.
Однажды отец Пафнутий объявил с кафедры: китайский народ низложил императора. С настоящего времени китайское государство – республика.
На улицах как будто ничего не переменилось. По-прежнему катились трамваи, гудели автомобили; мелькая пятками, мчались истекающие потом рикши, таща быстроспицые коляски с белыми грузными господами. В гимназии по-прежнему тянулись уроки, отцы-лазаристы ставили в журнал отметки и на переменах в канцелярии пили крепкий душистый чай с бутербродами. Как же это понять? Китайский народ низложил императора, и вдруг все осталось по-старому, и белые люди не только не убежали из Китая, но даже с каждым месяцем как будто становилось их больше; и о низложении императора говорили они спокойно и одобрительно, словно о выгодном для них деле.
Значит, император тут ни при чем. Но кто же тогда? Дядя Чао Лин говорил еще: мандарины. П'ан не знал точно, остались ли мандарины, и спросить ему было не у кого, но, кажется, остались. Во всяком случае остались богачи и купцы в пышно расшитых халатах. По-видимому, произошла какая-то ошибка. Видно, мало низложить императора, надо низложить и тех, в роскошных халатах, а их-то низложить и позабыли. Как же это могло случиться?
Этого П'ан не понимал и понять не мог, и не было никого, кто бы смог ему это растолковать, а без этого вся жизнь становилась непонятной и нелепой.
Впрочем, сомнения маленького П'ана не отражались на занятиях. Он по-прежнему старательно зубрил заданные уроки, словно искал в трудных математических задачах разгадки мучившей его тайны. Надо изучить все, познать все, что знают белые люди, и тогда все станет просто, понятно и ясно.
Так проходили месяцы.
Так проходили годы. Есть годы длинные, кропотливые, мучительные, которые проходят, и в памяти от них не остается ничего, пробел, – не потому, что они лишены были собственных, своеобразных происшествий, которыми изобилует каждый день отрочества; просто-напросто в плотном мешке памяти образовалась как будто прореха, и сквозь нее незаметно высыпалось все его сложное содержимое. Оглянешься назад, станешь вспоминать, иной год восстановишь чуть ли не день за днем с мельчайшими подробностями, а вдруг споткнешься – дыра. Год, два, три – роешься, ищешь – не осталось ничего. Общее место: ходил тогда в гимназию; работал тогда на заводе. На таком-то и таком-то. И точка. Из мутной мглы небытия вынырнет какой-нибудь эпизод, мелкий и ненужный: потерянный кошелек, услышанное бессвязное слово, образ – дерево, скамейка, дом, – и расплываются, словно пар. Сколько таких пробелов, и откуда они берутся – как знать? Не страннее ли, откуда берутся в забытом перевернутом ящике памяти все те мельчайшие бирюльки полустертых ощущений, назойливо твердящие, что маленький веснушчатый оборванец, азартно игравший в орлянку и проделывавший всякие гадости, и ты, взрослый, солидный, степенный, умник, – одно и то же, два звена одной и той же цепи, спаянной сомнительным клеем увековеченной в метрической записи фамилии?
В гимназии отцов-лазаристов, на третьем этаже, в трех длинных залах помещалась объемистая библиотека. От полу до потолка по стенам карабкались крепкие дубовые полки, исполосованные корешками томов во внушительных кожаных переплетах. Попадешь туда – и заблудишься, как в лесу, в напрасных поисках просеки. Тропинки и тайные ходы знал в нем один-единственный человек, библиотекарь, отец Игнатий. Учеников в эту обитель пускали, начиная с шестого класса, да и то проникавших в нее легко было пересчитать по пальцам: большинство из них пугала удручающая, беспросветная гуща нагроможденных здесь книг.
Забравшись туда в первый раз, П'ан (исполнилось ему тогда шестнадцать лет) растерялся. Сколько книг, и все необходимо прочесть! Хватит ли на все это времени? Но вскоре ободрился. Сначала кажется много – не одолеешь, а там постепенно убавится. Ведь одолевали же другие, – почему бы ему не одолеть? Главное, не терять времени! Можно поменьше спать. Шести часов в сутки хватит. Вот и два часа прибыли ежедневно. Решил начать с краю и систематически объехать все полки. Вскоре, впрочем, стал разбираться. Много вздора. Про Исусика всякую белиберду можно просто пропустить. Так постепенно полки редели.
Среди трактатов, среди полемик святых отцов попалась книжка, заинтересовавшая его больше других. Благочестивый отец разоблачал в ней какую-то современную ересь – по имени социализм. Прочел внимательно; прочитав, начал перечитывать сначала.
Есть люди, секта, которые захотели все измерить трудом. Принцип, как у святого Павла: «Кто не работает – да не ест». Отобрать богатства у всех богатых и сделать всеобщим достоянием. Уничтожив частную собственность, воздать каждому по его труду!
Долго и сосредоточенно думал. Потом усердно стал искать более точных сведений. Перерыл всю библиотеку. Не нашлось ничего. Случайно, в сносках одного объемистого сочинения наткнулся еще раз на упоминание о таинственной секте. Автор приводил отрывки из какого-то произведения, по-видимому, главаря и зачинщика вредной ереси. Звали его – Маркс.
Решил раздобыть во что бы то ни стало приводимую книгу. Самолично перерыл весь каталог. Упоминаемого автора не оказалось. Долго не решался спросить у отца-библиотекаря. Наконец, набрался духу. Спросил. Отец Игнатий замахал руками:
– Грех расспрашивать про такие книги. Дьявольское наваждение это. Молись побольше и посты соблюдать не забывай!
Только этого и добился П'ан.
Решил разузнать в книжной лавке. Но решить было легче, чем выполнить. Денег наличными не имел. Раздобыть неоткуда. Продать нечего, ничего собственного не было. Как быть? Долго думал и не мог ничего придумать. Потом просто поднялся и пошел в угол, к запыленным полкам, куда не заглядывал никогда даже сам отец Игнатий. На полках валялись толстые фолианты в старинных, тронутых плесенью переплетах. Взял одну книгу на старинном китайском языке, взвесил в руке, улыбнулся. Кража? Остроумные римляне во вражеской стране называли это: добывать фураж. Кстати, интересно бы знать, каким путем эта книга сюда попала? Можно биться об заклад, что тоже не совсем по-христиански. С улыбкой сунул книгу за пазуху и проскользнул по лестнице вниз.
В полутемной каморке антиквара в заброшенном китайском квартале пахло плесенью и гнилью веков; пыль на брюхатых фарфоровых вазах, как и подобает пыли, лежала слоями, чтобы по количеству слоев, как по древней сердцевине, узнавать генеалогию времени. Очкастый, близорукий антиквар долго рассматривал книгу, водя по ней носом, словно по запаху страниц желая оценить ее древность. Дал три таэли[46]46
Приблизительно 1 рубль 45 копеек.
[Закрыть] и книгу унес в конуру.
С деньгами в руке П'ан побежал в европейские книжные магазины. Ни в одном из них книжки не оказалось. Отчаявшись, побрел искать в китайские кварталы. В одной китайской лавке, где были европейские книги, худощавый торговец заявил:
– На складе нет. Можно выписать из Европы. Только за срок не ручаемся. Время там сейчас военное.
Нет, выписывать и ждать, придет ли, – не хотел. Торговец оказался услужливый. Посоветовал:
– Не хотите ждать? Есть здесь один студенческий кружок. Выписывали через меня несколько экземпляров. Зайдите, спросите – может быть, один уступят.
На клочке бумаги записал адрес.
Помчался обнадеженный. Оказалось близко. Прыгая через ступеньку, взобрался на второй этаж. Открыл ему долговязый молодой человек в очках.
П'ан изложил цель визита, сослался на торговца. Попросили зайти. В небольшой, убого обставленной комнате тускло горела лампа. Хозяин был разговорчив и любезен. Расспрашивал про то, про се; где учится, в каком классе, какие отношения, не придираются ли к китайцам, много ли белых. Разговорились.
Подошел к полке. Вытащил книгу.
– Маркса вам читать рано. Трудно. Не поймете. Вот почитайте эту книгу. Это полегче. Ознакомьтесь с предметом. А там, придет время, возьметесь и за Маркса.
Денег взять не хотел.
– Нет, не продаем. Почитайте. Прочтете – заходите, дадим другую.
И улыбнулся:
– Этому ведь у ваших отцов-миссионеров не обучают.
П'ан поблагодарил. Крепко, с застенчивой признательностью пожал руку. Очень понравился ему долговязый. Ведь до этого времени ни с кем не беседовал так открыто и запросто. Бегом вомчался обратно – не заметили ли отлучки.
Книгу прочел с жадностью. Тяжелые, незнакомые экономические термины, как кости, застревая в горле, мешали понять. Прочел вторично. Показалось куда легче и понятней.
Оказывается, гнет и нищета не только в Китае, – в Европе те же десятки тысяч белых людей давят и обирают десятки и сотни тысяч своих же, белых рабочих и крестьян. Суть не в окраске кожи и не в вертикальных разрезах государственных границ, но в горизонтальных наслоениях классов, спаянных, несмотря на различия языков и нравов, общими интересами совместной борьбы. Трудящиеся и эксплуатируемые всего мира – одна большая семья. И белый и желтый страдают и борются за одно. Точно так же и буржуазия. Недаром китайцы-богачи всегда идут рука об руку с белыми угнетателями.
Было все это ново и поразительно. От взрывающих голову мыслей горели щеки, и расширенные глаза, словно на них надели новые очки, смотрели по-иному: двумя сверлящими буравами.
Прочитав книгу от доски до доски, сбегал к долговязому попросить другую. Поговорили насчет прочитанного. Долговязый объяснил непонятные слова, места потруднее, разъяснил примерами. Незаметно соскользнули на современные темы. Про войну, империализм и прочее. Почему для Китая выгоднее, чтобы выиграла Германия? Впрочем, так или иначе, колониальные аппетиты империалистов на некоторое время несомненно ослабеют. Зато другая опасность: засилие японцев. Вытесняют отовсюду белых. Хотят наложить руку на Китай. Ничем не лучше тех, пожалуй даже хуже. На заводах эксплуатируют рабочих невероятнейшим образом и платят гроши, многим меньше англичан.
Дал новую книгу и просил заходить.
Книги сменялись книгами; чем дальше, тем яснее. Читал украдкой, по ночам, – ночи были белые, светлые, утром над неоконченной книгой заставал его рассвет. Днем, на уроках, от усталости слипались глаза. Даже отставать стал в науках. Отцы-лазаристы удивлялись, спрашивали о здоровье, качали головами.
Прочитав книгу, П'ан вертелся как на угольях: скорее бы побежать к долговязому. У долговязого познакомился с другими. Студенты. Кружки, доклады, явки. Политическое самообразование. Горячие длинные споры по ночам. Завидовал, безумно хотелось самому погрузиться в этот заманчивый мир.
Через несколько месяцев присмотрелись, раскусили, стали оказывать заметное доверие. Как-то раз долговязый предложил:
– Хотите, приготовьте доклад о роли христианских миссионеров как орудия евро-американского капитализма в деле порабощения колониальных народов. Тема, кажется, близкая и хорошо вам знакомая. Прочтете на ближайшем заседании нашего кружка.
От радости весь всколыхнулся. Доклад настрочил обстоятельный, длинный. К сожалению, прочесть не пришлось. Отец Пафнутий заметил таинственные отлучки. Проследил. Днем под сенником нащупал истрепанный, испещренный заметками «Коммунистический манифест» и доклад о миссионерах. Весь налился багровым соком. Задыхаясь, засеменил к отцу Доминику.
П'ана вызвали с урока. В канцелярии отец Доминик иссиня-красный, теребил злополучный доклад. От ярости даже слова позабыл, только свист вырвался из горла:
– Вон, паршивая овца!
П'ан спокойно:
– Отдайте книжку. Не смейте рвать!
– Я тебе покажу, сукин сын! Стянуть штаны!
Два сторожа подхватили П'ана под мышки, третий моментально сорвал штаны. Бросили на скамейку. Одному исцарапал морду. Подозвали привратника. Били попеременно двумя тростями. Отец Доминик прикрикивал:
– Я тебя, косой черт, научу благодарности!
Избитого швырнули на пол.
– Стягивай рубашку. Все… башмаки… Все наше. По нашей милости. Кальсоны… все стягивай!
Стянули. Оставили на полу голого. Сторож Викентий притащил откуда-то изорванный китайский халат – рубище.
– На, лезь!
Надел. А все в нем кипело. Подхватили под руки:
– Вон!
Рванулся. Хотел ударить. Вывернутые руки затрещали в суставах. В бессилии отцу Доминику прямо в лицо закатил такой плевок, что благочестивый отец завизжал, затоптался, утираясь, всю рясу испачкал.
Потащили вниз, по лестнице, через сад, к калитке, распахнули калитку настежь и с размаху вышвырнули на улицу. Упал на середину мостовой, калитка захлопнулась.
Подошел полицейский.
– Ты что?
П'ан поднялся и, стыдливо закутывая просвечивающее сквозь лохмотья тело, боковыми улочками поплелся к долговязому.
Долговязый пожалел. Куском полотенца обмыл ушибы. Вытащил из ящика пару белья и из угла какое-то старое, потертое платье. Помог одеться. Ночевать оставил у себя.
Дня через два П'ана пристроили. На английском текстильном заводе – чернорабочим. С восьми до восьми. Плата – два мейса[47]47
1/10 таэли – приблизительно 141/2 копеек.
[Закрыть] в день. Этого и на один рис не хватит. Нашли ночлежку. Дальше уже перебивайся сам. На работу шел бодро, с охотой. Там столкнется вплотную с рабочей массой, с настоящей трудовой жизнью.
В восемь часов вышел с завода ошарашенный и угрюмый. Нет, этого он не воображал. Что книжки, что голод, нужда, абстрактные таблицы статистики? Здесь впервые расширенными от испуга глазами измерил всю бездну человеческого горя, поругания, всю бесконечность простой человеческой муки.
На заводе стояла невыносимая жара, люди работали полуголые, обливаясь потом. Между машинами прохаживались по залу белые мастера с кнутами в руках, и кнут то и дело со свистом взвивался, как змей, над сгорбленной спиной оплошавшего рабочего и плашмя падал вниз с жалобным воем. На сгорбленных спинах, словно отметки отработанных часов, множились красные черты, и пот в этих местах струился алый. Больше половины рабочих составляли женщины и дети, зачастую не старше десяти лет, и по их сведенным от непосильного напряжения лицам лил пот, крупный, как слезы, как непонятные, страшные капли, которыми истекают подчас беспомощные удивленные глаза истязаемых животных.
Огромные машины, подобные чудовищным двуглавым драконам, глотали серые клубы пакли, грязные, как клубы дыма, чтобы через минуту выплюнуть их тягучей слюной длинных волокон, молниеносно наматываемой на вертящиеся волчками катушки. Потом железные пальцы в сотый раз хватали, разматывали эти волокна, растягивали в бесконечность тонкими нитями, и нити, натянувшись до треска, разрывались в воздухе, чтобы тут же перехватывали их, скрепляя на лету мгновенным узлом, живые пальцы работниц. Тогда из брюзжащего рта машины в плевательницы громадных корзин посыплются брызгами катушки; и нагруженные корзины потащат куда-то в туман надрывающиеся от чрезмерного груза хрупконогие мальчики.









































