Текст книги "Ненадёжный рассказчик. Седьмая книга стихов"
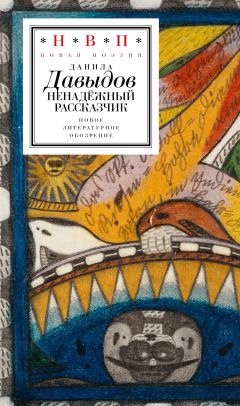
Автор книги: Данила Давыдов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Данила Давыдов
Ненадёжный рассказчик. Седьмая книга стихов (написанное до 24 февраля 2022 года)

Две обезьяны, робот и шёпот рептилии
Все мои любимые поэты – в той или иной степени панки, и Данила Давыдов тоже. Быть панком в поэзии – это делать что-то трикстерское, нестабильное, парадоксальное в зоне языка и смыслов. Новая книга стихов Данилы называется «Ненадёжный рассказчик». Что такое «ненадёжный рассказчик», кроме известного литературного приёма, когда автор намеренно ведёт повествование от лица, которое может вводить читателя в заблуждение? В случае Данилы ненадёжный рассказчик – это, как мне кажется, рассказчик мерцающий. Мерцающий – в смысле «мерцательности» в работах Дмитрия Пригова и Льва Рубинштейна, использовавших этот термин[1]1
«МЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ – утвердившаяся в последние годы стратегия отстояния художника от текстов, жестов и поведения предполагает временное „влипание“ его в вышеназванные язык, жесты и поведение ровно на то время, чтобы не быть полностью с ними идентифицированным, – и снова „отлетание“ от них в метаточку стратегемы и не „влипание“ в нее на достаточно долгое время, чтобы не быть полностью идентифицированным и с ней, – и называется „мерцательностью“. Полагание себя в зоне между этой точкой и языком, жестом и поведением и является способом художественной манифестации „мерцательности“ (Пригов Д. А. Предуведомление к одному из сборников начала 80‐х годов // Словарь терминов московской концептуальной школы / Сост. А. Монастырский. М.: Ad Marginem, 1999. C. 58–59).
[Закрыть]. Мерцательность как ненадёжность может осуществляться на разных уровнях: как нестабильность смысла, дискурса и субъекта, мерцание между иронией и серьёзностью, между обыденностью и метафизикой, как постоянная игра с контекстом – колебание смысла между тем, что находится внутри некоего контекста и вовне него. Все эти вещи характерны для литературного концептуализма, недаром Данилу Давыдова вместе с рядом других поэтов его поколения относили к постконцептуализму, делая акцент на сочетании у этих авторов элементов концептуалистской поэтики и прямого лирического высказывания. Впрочем, сам этот тип мерцания – между прямым лирическим высказыванием и концептуальной иронией – для меня всегда был значимой составляющей поэтики Дмитрия Пригова, и он сам осмыслял эти вещи в своих поздних работах.
Данила в одном из своих стихотворений отрицает присутствие в его поэзии метафизического измерения и прочего «из этой серии»:
в моих стихах нету метафизического измерения
‹…›
и трансцендентального нет
и сакрального нет
и трансперсонального нет
и просто-таки духовного нет
всем присутствующим привет
Но мы помним, что перед нами, во-первых, ненадёжный рассказчик, а, во-вторых, метафизическое измерение тоже может быть ненадёжным, колеблющимся, может так проступать сквозь обыденное, что будет всегда непонятно – есть оно или просто кажется, как некий намёк, эффект, мерцание. И, мне кажется, для субъекта этих стихов сохранение мерцания и отсутствие «окончательной ясности» – принципиально важно:
в тот момент
когда перестал ловить рыбу в мутной воде
он встал за станок
или взял оружие
Я выделяю – очень грубо – для себя две стратегии современных типов письма: поэзию, стемящуюся к выражению невыразимого, того, что находится за пределами языка, преображающую язык через этот опыт, и поэзию аналитическую, исследовательскую, ориентированную на работу с обыденным языком, в фокусе внимания которой, в первую очередь, именно язык и связанные с ним социальные контексты. И мне кажется, поэзия Данилы Давыдова выполняет своего рода связующую роль между этими стратегиями и «питается» напряжением, возникающим между ними. Такой внутренний конфликт между языком и невыразимым, позитивизмом и, скажем так, доступом к Иному, в первую очередь, напоминает проблематику «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна. Даже не столько проблематику, сколько заданную этим способом мышления систему координат. Я помню, что много лет назад, в первой половине нулевых годов, когда мы с Данилой познакомились, мы в разговорах как-то затрагивали эти темы и упоминали Людвига Витгенштейна, а потом однажды утром после встречи Нового года в Мытищах, году уже в 2015‐м, я помню, как Данила Давыдов и поэт Андрей Полонский ожесточённо спорили о том, как правильно понимать фразу Витгенштейна «О чём невозможно говорить, о том следует молчать».
С того же самого момента нашего знакомства (2004 год, скорее всего) я всегда узнаю интонацию и ритм стихов Данилы, эту нарочитую неровность и театральную неловкость формы, с примитивистскими и наивными вкраплениями, отголосками как вышеупомянутого концептуализма, так и обэриутов, лианозовцев, – я бы сказала, что эти стихи в принципе учитывают опыт неподцензурной поэзии в её самых разных изводах, даже внешне как бы не очень близких автору, вплоть до капризных ломаных интонаций и поэтического юродства Елены Шварц.
Кроме того, мне кажется, что в поэтике Данилы присутствует и то, что он сам назвал применительно к другим авторам «некроинфантилизмом» (экзистенциальный ужас перед смертью и небытием, провоцирующий поэта на «детскую» оптику и «детскую» речь). И, безусловно, контекст поэтики Данилы Давыдова – это также ряд других замечательных и в разной степени поколенчески близких ему поэтов: Анна Горенко, Шиш Брянский, Марианна Гейде, Ирина Шостаковская, Виктор Iванiв… Поэтов, которые входили в литературу на сломе тысячелетий и сталкивались со сходными ощущениями, задачами и, пожалуй, сходной потерянностью:
мы смерть зовём, хотя зачем зовём,
когда она и так повсюду ходит.
мы с ней играем. каждый о своём,
хотя и взрослые, казалось б, люди
…
но там уже, надеюсь, мы не пешки,
не представители каких-либо систем.
идем, грызем небесные орешки.
Iванiв, Колчев, Горенко со мной.
Сам этот контекст – для меня очень родной. Я немного моложе указанных поэтов, но стала публиковаться в начале нулевых, в 17 лет, и тоже оказалась внутри именно этого контекста и соотносила себя с ним, и позднее, когда мои фактические ровесники заявили о себе как о поэтах, я часто ловила себя на ощущении, что поэтически мне ближе те, кто был немного старше и со многими из которых мы начинали одновременно. И в те годы Данила Давыдов был именно тем человеком, который собирал и выстраивал поле новой поэзии, он потрясал невероятной эрудицией, знал всё, читал всех. Всегда подчёркивал свой научный, «позитивистский» взгляд на вещи, но при этом мог горячо любить стихи, в которых на первый план выходила метафизика, миф, религиозные мотивы и пр.
Интонация стихов Данилы действительно странная, уникальная. Порождена она, как мне кажется, ужасом. Тем самым, экзистенциальным. Эта интонация иногда нарочито «умничает» – заговаривает ужас, стремится держать ужас в рамках путём усиления научно-остранённой составляющей. Корявость и наукообразие его рифмованной речи, её концептуалистские обертона выглядят именно как растерянность перед ужасным и волшебным, попытка говорения поверх всепожирающего ничто. Отсюда появляются в стихах Данилы все эти завиральные конструкции рассуждений о языке. Здесь вспоминаются и Введенский, и Пригов, и Шкловский. Остранение в поэтике Данилы, как ему и подобает, работает на слом автоматизма восприятия, порой вышибает почву под ногами, заставляет пережить удивление. Рифмы вместе с остранённой интонацией часто подчёркивают афористичность текстов Данилы, превращают их в своеобразные афоризмы-парадоксы. И сам язык, и остранение, и встроенная в эти тексты ирония, и элементы аналитической, исследовательской оптики, – один из способов ответа на ужас. Параллельно у Давыдова существует другой способ ответа на ужас – вдруг возникает что-то наивное, (некро)инфантильное, и часто именно в таких местах отчётливей всего ощущается лирическое начало, та самая беззащитность и непосредственность лирического высказывания, которая тоже мерцает между искренностью и приёмом, и, возможно, парадоксальным образом прибегает к этому «детскому» и примитивному языку как к своего рода опосредованию.
Я думаю, что именно синтез и конфликт остранённо-научного и инфантильно-лирического создаёт уникальность интонации Данилы. Со стороны остранённо-научного – аналитическая философия языка и разные другие современные дискурсивные пространства. Со стороны инфантильно-лирического – рифма и перебивчивый ритм, превращающие философскую лирику в страшные считалки, в которых проявляется то, что за пределами языка. Синтез и конфликт остранённо-научного и инфантильно-лирического и есть те самые витгенштейнианские отношения языка и невыразимого.
Если брать современное отечественное культурное поле, интересно, что у Данилы Давыдова, на мой взгляд, есть ряд пересечений именно на уровне общих базовых координат мысли с филологом и философом Вадимом Рудневым. Руднев тоже опирается на аналитическую философию языка и так же она у него оказывается способом говорить об ужасе и других экзистенциальных вещах. Хотя Данила, как мне кажется, больше пытается оставаться в рамках позитивно-научных координат мысли, тогда как у Вадима к витгенштейнианской проблематике добавляется психоанализ, и он часто пишет свои книги свободным потоком ассоциаций.
Неуверенность, шаткость, ненадёжность субъекта и его речи, постоянное усилие осмысления отношения слов и вещей и вообще огромная воля к познанию, маска условного «позитивизма» и экзистенциальный ужас, проблески высокого, «классического» штиля в сочетании с чем-то наивным, детским, испуганным, потерянным и маргинальным, покорёженным и покоцанным, «утомлённая привычность иронии», артистическая лёгкая небрежность владения словом, парадоксальность мышления, изящество, ум и образованность, стоящие за этими стихами, и, простите за выражение, точность и глубина синхронизированной с поэзисом мысли (лингвистически-философски-экзистенциально-социально-антропологической), – так бы я описала своё впечатление от стихов Данилы Давыдова. Его взгляд как бы видит всё надвое и мерцает между этими возможностями видения: через детерминизм и через непостижимое. А пластичность его языка оказывается способна выдерживать недюжинную содержательную плотность этих стихов.
В стихах Данилы чувствуется постоянный диалог с контекстом. Это не те стихи, которые пишутся без оглядки на контекст, наоборот – с постоянным его учётом. Данила говорил мне, что хочет указать в подзаголовке книги, что все вошедшие в неё стихи были написаны до 24 февраля 2022 года, так как, по всей видимости, полагает, что с этого момента контекст восприятия стихов радикально изменился. Однако при прочтении рукописи этой книги, я обратила внимание, что многие стихи читаются так, как будто они могли быть написаны уже после, в качестве отклика на текущие события. Есть тексты, как будто абсолютно точно к настоящему моменту подходящие. В действительности же – это стихи в основном последних пяти лет, с включениями ряда более старых текстов в середине книги. Самые ранние из вошедших в сборник стихов были написаны в 2012‐м, основная масса – в 2016–2021 годах. Эту книгу Данила собирал долго, несколько лет работал над ней, всё не мог собрать окончательный вариант, и, мне кажется, в итоге получилась продуманная, выстроенная, точно выверенная композиция.
В основном стихи «Ненадёжного рассказчика» – ритмически организованные, рифмованные; периодически возникающие верлибры на их фоне обнажают свою, несколько отличающуюся от основной массы стихов в этой книге, роль: они чаще оказываются стихами-жестами, они более концептуальны, в них больше иронии, прагматики, дискурсивности, прямого высказывания и рефлексии. Они возникают в книге как штрихи-пунктиры, задающие определённую рамку чтения, оформляющие основной массив рифмованных стихов. Вот, например, что говорит субъект этой поэзии о себе в стихотворении под названием «Прямое высказывание», которое одновременно как бы и является прямым высказыванием и показывает его проблематичность:
но что делать, если
прошлое и настоящее раздроблено так, что не соберешь,
если нет никакого такого «я»,
что жило бы вне времени, обстоятельств, способов говорения,
какого-то там истинного, сущностного «я»
ну, или что делать, когда
мой настоящий голос –
едва слышный шепот рептилии,
неподвижно сидящей на камне,
смотрящей на мир будто бы остановившимся,
будто бы даже и мертвым взглядом
Постоянно звучащий мотив в «Ненадёжном рассказчике» – судьба человека как вида. Его путь между обезьяной и «божественным роботом». Обезьяна – это, например, горилла Коко[2]2
В рамках исследовательской программы Стэнфордского университета зоопсихолог Франсин Паттерсон обучила самку гориллы большому количеству жестов американского жестового языка амслена. Утверждается, что Коко была способна воспринимать на слух и понимать около двух тысяч английских слов, умела шутить и описывать свои чувства, понимала, что такое прошлое и будущее, узнавала себя в зеркале. У неё были собственные кошки, о которых она нежно заботилась.
[Закрыть], которой в книге посвящено пронзительное стихотворение:
Памяти гориллы Коко
улетела куда-то хорошая птичка
и собственно ей среди этих вот
делать было особенно нечего
такой получился вид, но в просторечии род
ты говорила лучше чем мы
этими вот оказавшиеся случайно
времени тебе сновидений, прекрасной безлюдной страны
я там плакать, лошадь печальна
Примечание: «Коко – хорошая птичка», «я там плакать», «лошадь печальна» – фразы Коко.
Для меня этот текст выражает трагизм вдруг пробуждённого в рамках некоего непонятного эксперимента в животном теле сознания и мышления, мучительных и неполных, приходящих через освоение языка, и кажется, что это не про гориллу Коко стихотворение, а про каждого из нас. Может, она должна была быть просто животным и не вступать на этот трудный и болезненный путь рождения сознания, путь для неё заведомо обречённый, имеющий неотменимые ограничения? Ну а для нас? Может быть, наше мышление и язык тоже находятся, по сути, в сходном положении, просто на более сложном и развитом уровне? Качественное это различие или только количественное? Может быть, выпадение сознающего разума из времени сновидений, в котором все вещи способны превращаться друг в друга, ничто себе не тождественно, ничто не определённо и существует в объединяющей всё, не расщеплённой языком целостности, – это вообще какая-то страшная ошибка, не только для гориллы, но и для нас? Зачем это всё, и почему от этого всего так больно? И так жаль этого нашего общего с Коко пра-дома, времени сновидений, в который можно вернуться после смерти, что и сказать нечего кроме «я там плакать», «лошадь печальна». Может быть, поэт, человек, таким странным образом употребляющий речь, – и есть что-то вроде гориллы Коко, только для человеческой популяции: тот, кто немного, чуть-чуть, не то страшным, невероятным усилием, не то милостью избравшего его экспериментатора, сумел вырваться за границы видовых ограничений сознания, мышления и языка.
В новой книге Данилы Давыдова для меня, наверное, это самая сильная и мучительная нота: экзистенциально-антропологический вопрос о возможности жизни, сознания, мышления и языка на фоне ничто, ужаса, одиночества, смерти, вечного молчания бесконечных пространств и грядущего постгуманизма и возможного изменения природы человека. В том, как эта тема звучит у Давыдова, есть что-то паскалевское, мысляще-тростниковое, совмещающее переживание человеческой ограниченности и детерминированности и мучительную попытку выхода из неё посредством беспрецедентного вселенского скандала – существования на фоне этих огромных безмолвных пространств в смертных животных телах мыслящего сознания[3]3
«Человек – всего лишь тростинка, самая слабая в природе, но это тростинка мыслящая. Не нужно ополчаться против него всей вселенной, чтобы его раздавить; облачка пара, капельки воды достаточно, чтобы его убить. Но пусть вселенная и раздавит его, человек все равно будет выше своего убийцы, ибо он знает, что умирает, и знает превосходство вселенной над ним. Вселенная ничего этого не знает» (Паскаль Б. Мысли / Пер. с фр. Ю. Гинзбург. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1995, C. 136–137).
[Закрыть]:
просто надо помнить,
что мы лишь ящички, передающие код,
и если кто-то что-то успел узнать и понять,
то это уже неплохо
Очень значим для этой книги, на мой взгляд, «Трактат о божественном роботе», в котором, в частности, есть посвящённый этому божественному роботу гимн:
робот робот божество
сотворен из ничего
и уйдет в ничтожество
нету у него души
стоит он теперь гроши
и каких он множество
славься робот божество
славься робот божество
из металла сотворен
или протоплазмы
нам все равно нужен он
потому что разны
многолик он но един
раб наш равно господин
Несмотря на «постгуманистическую» проблематику и ироническую подачу, эти стихи звучат как вполне классическая русская философская поэзия, которая не может жить без самых главных, предельных вопросов. Чем-то они мне даже напомнили знаменитый текст Сергея Стратановского про Григория Сковороду и обезьяну Пишек (удивительно, что и здесь – обезьяна!):
Говорил Мельхиседек,
Старец иудейской,
Что подобен человек
Кому грязи мерзкой.
Говорил казак Петро,
Внук Мельхиседека,
Что тигриное нутро –
Бремя человека.
‹…›
Ах, мартышечка моя,
Дорогая Пишек,
Есть в проблемах бытия
Черных дыр излишек.
‹…›
Хор с неба:
Празден разума вопрос
Чушь – дела земные
Перед тем, что спас Христос
Атомы больные.
Однако если в стихотворении Стратановского чёрные дыры в проблемах бытия находят разрешение через юродство и веру в Спасителя, то у Давыдова на месте божества оказывается робот, который, похоже, собирается очистить мир от биологической жизни. И между обезьяной и роботом пока ещё есть пустое место (где и находимся мы):
между обезьяной и роботом
словно по пути в дамаск
как не поделишься ты опытом
какой не выдумаешь рассказ
посерединке прочерк
незаполнена графа
скажи, куда ж ты хочешь
а то кончается строфа
Вообще в этой книге много всего, что можно было бы разбирать через призму posthuman studies. Взгляд наблюдателя – часто нечеловеческий. Это может быть взгляд этого самого «постхьюмана»:
так рассуждал один постхьюман,
взглянув сознаньем нутряным
на дольний мир, который умо –
непостигаем, но сравним
с какой-нибудь другою штукой,
что до сих пор не завелась,
лежит, непознана наукой,
потенциальна, ждет свой час
Или взгляд метанового астронома из далёкого будущего на наши метания и копошения:
и на титане в замысловатый свой окуляр глядит
метановый астроном,
и кристаллы углекислотного льда поют ему о былом
Телесность самого говорящего субъекта принимает порой нечеловеческие монструозные формы. Человеческая форма разрушается:
теперь я стал иной – ветвист, неудержим.
в другие области направлены тентакли,
и, слизывая слизь с пылающих ланит,
и ты таким становишься – не так ли?
Разрушение человеческой формы тела соответствует разрушающемуся пониманию того, что такое «быть человеком». В самое последнее время я остро чувствую эти вещи. Как раз после 24 февраля все вокруг без конца расчеловечивали друг друга, и в итоге у меня тоже произошло какое-то тотальное «расчеловечивание» – у меня рассыпался в голове некий единый смысл того, что такое «быть человеком». Я больше не смотрю на другого, как на того, кто заведомо должен быть похож на меня в каких-то предельных основаниях своего бытия. Я теперь смотрю на каждого встречного, как на чёрный ящик, где может быть абсолютно всё, что угодно. И я чувствую, что эта установка в действительности сейчас более справедлива и продуктивна. С этим моим чувством очень перекликается последнее стихотворение в книге Данилы:
даже не знаю, как к тебе подойти, с какой стороны, как
начать разговор и о чем, собственно, разговаривать,
я ведь не знаю совсем ничего о твоем устройстве, не понимаю,
как ты вообще существуешь, не говоря уже о всяких более
частных
подробностях. не понимаю, где ты начинаешься и где
завершаешься,
не могу осознать, каким именно образом ты отделяешься от
всего прочего, того, что не-ты, не вижу границ и даже
представить
не в состоянии, насколько четко обозначены эти границы
…
не ясно, можно ли к тебе хоть как-то обратиться, есть ли
пускай бы и
самая малая надежда, что это не будет обращением в пустоту.
но я пытаюсь, не имея, в сущности, никаких оснований для этого,
все-таки вступить в диалог, наладить какое-то подобие связи,
ну или хотя бы пускай и одностороннюю коммуникацию,
питая ложную в своих самых глубинных основаниях, совершенно
смехотворную, но надежду…
Мне кажется, что это стихотворение (обращённое к человеку? Богу? неведомому будущему читателю этой книги? кому-то безусловно Другому?) – абсолютно точный финальный жест, который позволяет увидеть всю книгу в том числе как поэтическую мысль о человеке и том, что находится за его пределами, о внутренней конфликтности и ненадёжности бытия человеком, о природе человеческого как мерцательности. И этот финал – такой взгляд на другого, который даёт надежду, даже при том, что единого способа бытия человеком нет.
Алла Горбунова
1
«примерно понять, как устроен язык…»
примерно понять, как устроен язык –
не значит еще знать язык.
точно так же устроено у людей и зверей,
у минералов и всех иных
но мы вот научились жать,
чтоб не знать слово жать,
мы научились всех понимать,
не понимая, как понимать
мы просто рецепторы, и число
наше знать не дано
ни тем, кто сеет свое в полях,
ни тем, кто идет на дно
примерно знаем, как не нужно быть,
но мы не умеем не быть
мы самая суть, мы самая сыть
мы плоть, нам это дано
но плоть разлагается, гниет, превращается в газ
в кучу мерзких штук
давай, нажимай скорее на газ
хватит смолить мундштук
ты труслив, я труслив, всякий труслив,
но у нас отличие есть –
мы плоть и кровь, но по сути мы знак,
который вам не прочесть
да, по сути мы тот самый знак,
что есть, и покуда здесь
«так живём ничего не узнав…»
так живём ничего не узнав
кто-то прав кто-то не прав
поменяли шило на мыло
старое кончилось, новое прибыло
категорически не согласен с любым
он может быть кем-то любим
но не согласен и с отдельными представителями
они могут оказаться незарегистрированными жителями
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































