Читать книгу "Наполеонов обоз. Книга 2. Белые лошади"
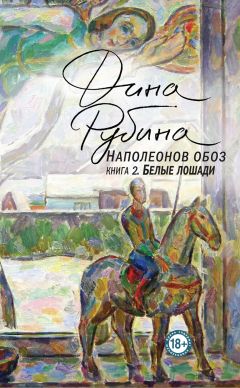
Автор книги: Дина Рубина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мимо прошла, не оборачиваясь. На крыльце как-то по-бабьи взвалила тяжёлую сумку за спину, достала ключ, отворила дверь, вошла в дом и заперлась.
…Как истукан стоял он, не в силах одолеть этот тягостный морок. Больше всего его поразило, что в доме не зажгли света. Ни лампы, ни свечки, ни фонарика, ни искорки огня! Будто, войдя внутрь, она сгинула там без следа, будто тёмный дом сожрал её, переварил, растворил в своей загадочной безмолвной утробе.
Его подмывало броситься к двери, заколотить, замолотить по ней кулаками, заорать, долбануть ногой… Что, что можно делать там одной в темноте?!
…только плакать. Она и плакала: тихо, безнадёжно, сутулясь за маминой швейной машинкой, которая уже никогда, никогда не застрекочет под мамиными руками.
И Стах, пропавший из её жизни на целых два месяца, оторопелый и раздавленный, стоявший по ту сторону двери, – просто не мог знать, что за это время случилось многое, и главное: они сравнялись в сиротстве. Что, так же как и он – отца, она внезапно, в считаные минуты, потеряла мать. Только в этом горе его не оказалось с нею рядом.
* * *
Мама скончалась за праздничным столом, в шестнадцатый день рождения Надежды: и было это как в страшном сне, после которого просыпаешься в холодном поту и ещё долго бормочешь: слава-богу-слава-богу, – твёрдо зная, что в жизни такого просто не могло произойти.
Но – произошло.
Уже подали десерт – ореховый пирог и фрукты; Аня с Надюхой сновали вокруг стола, разносили десертные тарелочки, и к ним – мамины любимые мельхиоровые вилки с красно-зелёными эмалевыми попугаями на ручках. (На стол «попугайчики», обожаемые детьми, подавались в исключительных случаях, мама считала, что эмаль стирается.)
Мама пробовала сливы и нахваливала:
– Надо же, крупные какие, ты пробовал, Петя? Правильно я взяла два кило. И мягкие такие, и, главное, слад… – и, захрипев вдруг, задёргав головой, потрясённо вытаращив глаза, мама – нарядная и красиво накрашенная, с причёской, сделанной в лучшей парикмахерской города, – сползла на пол в окружении целой толпы людей: тут и муж, и дети, и гости, и кое-кто из соседей, – всего человек двадцать. (Дни рождения у Прохоровых считались самыми главными, неотменимыми праздниками…)
«Скорая» приехала довольно быстро, но оказалась – так, чем-то вроде почётного караула; мама уже не дышала… Врач объяснил оглушённой семье: сливовая косточка в дыхательное горло… Бывает, к сожалению. Вы и представить не можете, насколько часто.
«На миру и смерть красна», – приговаривала на поминках одна из соседок. Другая вздыхала и вторила: «Рано, конечно, зато какая лёгкая смерть у Танечки – и празднично, и вся семья вокруг…» Третья подхватывала: «И такая красивая в гробу лежала, и стрижка новая – будто готовилась!»
Папка в ответ на это цедил сквозь зубы:
– Дуры, курицы, идиотки народные! – и без конца плакал, и на похоронах, и на поминках, и на девятый день… Плакал, ничуть не стесняясь ни соседок, ни собственных детей: «Дети мои, ангелочки мои… Сиротки мои…»
Хотя под титул «сиротки» подходила, пожалуй, одна только школьница Надюха. Старшие были уже взрослыми людьми, каждый жил своей натруженной жизнью – кроме Димы, бедненького: тот много лет находился в специальном интернате «для безмозглых» – так, понизив голос, добавляла Анька, которой на язычок попасть – мало не покажется. (Дима, бедняга, никого не узнавал, распух и совсем потерял свою восточную красоту, да ещё и чесался весь – от лекарств, что ли, или тик это такой?.. Но папка с мамой непременно навещали его каждый месяц, а что сейчас будет – кто его знает.)
Старший брат, Кирилл, лет пять как жил своей семьёй в далёком Мурманске, куда его после института увезла жена – на свою родину. Прижился там, в тундровых сопках, работал механиком в порту и всем был доволен; по телефону зазывал к себе родителей, полюбоваться на красоты Кольского, заодно и с внуками познакомиться – с двухлетними близнецами.
Люба, третья по возрасту (если считать несчастного Диму), – тоже семейная, мать двух девочек-погодок, – жила в Твери и возглавляла армию бухгалтеров на каком-то продвинутом фармацевтическом предприятии. А Богдаша – пострел, которого мама когда-то привязывала вожжами к столбу, чтоб не убежал… о, Богдаша стал знаменитостью! Вся его прыть, всё нетерпение в ноги ушли, в футбол. Закончив детскую спортивную школу, он несколько лет играл нападающим в «Торпедо» во Владимире, а три месяца назад его переманили в столичное «Торпедо». Вся семья гордилась своим футболистом, а мама – та даже купила отдельную папку, в которой хранила две вырезанные заметки из раздела спортивных новостей областной газеты, где Богдашу называли самым перспективным форвардом будущего футбольного сезона.
Вот и Анечка тоже: поступила в химико-технологический техникум во Владимире, успела познакомиться и подружиться с основательным аспирантом Ромой и правдами-неправдами отхватила себе место в общежитии. Она всегда была такая: напористо-обаятельная.
Грешно так говорить, но мама будто подгадала умереть именно к нынешней осени, когда младшие, внезапно повзрослевшие дети переступили некий житейский порог, а дом на улице Киселёва, всегда переполненный буйной горластой и хохотливой жизнью, затих и словно присмирел, – пустоватый и скучноватый. «Совсем семья обмелела», – вздыхала сама Таня…
И вот её тоже нет…
Нет больше мамы, молчит «зингер», скучают домашние растения в кадках. И не то чтобы не поливали их – а просто у мамы была такая заботливая «зелёная» рука – её даже растения любили.
После грустных, грустных похорон все старшие разъехались по своим делам и своим городам – жизнь-то не остановишь. Анечка, само собой, тоже умчалась во Владимир, полная забот и планов: готовиться к началу учёбы, обустроиться в общежитии; первый учебный год – не шутка. Ну, не могла она дома застрять! Да и зачем? С папкой Надюха остаётся, девка она ответственная, значит, за него можно не волноваться. Какие возражения?
Никаких, по сути. Кроме одного: волноваться за папку очень даже стоило. Он, который всю жизнь проповедовал умеренность в привычках и желаниях, в том числе и в спиртных искушениях… – он запил по-чёрному. Не мог понять, не мог принять самоуправство судьбы. За что?! Почему?! Сейчас, когда жизнь так правильно обустроилась, налилась уже накатанным счастьем, любимой работой, житейской радостью при мыслях о выросших детях, ожиданием ещё не скорой, но уютной старости?!
Папка запил и пошёл вразнос: неделя, другая… месяц прошёл в отупелом тумане. Когда приходил в себя, виновато лепетал: «Ты потерпи, ангел мой… Я очнусь, вот увидишь, я возьму себя в руки… Когда я в дыму, со мной мама говорит… И я отзываюсь. А так я ж её больше и не услышу…»
Он опух, почернел и уже не вставал с дивана в мастерской. Надежда стаскивала с него, беспамятного, обмочившегося, штаны и бельё, подстилала клеёночку, как под младенца, мыла его, переодевала, стирала-гладила…
И что ж это за наказание для девчонки, вполголоса говорили меж собой соседки, – обмывать естество родного отца!
Она выбивалась из сил. Почти перестала есть – не хотелось… Не справлялась с уходом за крупным, тяжёлым телом отца и стыдилась попросить у кого-то помощи.
Словом, когда к нему уже и войти нельзя было от тяжёлого запаха, по настоянию директора музея (тот явился проведать Петра Игнатьича, выяснить – отчего он никак не выйдет на работу, и был огорошен картиной этого распада) Надежда вызвала наконец «скорую».
Увозили папку в Народную больницу на носилках, и врач говорил:
– Что ж ты, красавица, припоздала… Такие вещи запускать нельзя. Давно надо было в набат бить.
А как бить в набат, когда и людей стыдно, и папку жалко, и каждый день надеешься, что завтра станет полегче. А главное, не признаешься же врачу, что ты, мол, не хотела их разлучать – папку и маму – и сама на его мольбы потихоньку таскала это проклятое зелье, лишь бы не плакал он, не звал свою Таню, а беседовал с ней, хотя бы и в пьяном бреду.
Каждый день с утра она уходила в больницу, сидела рядом с койкой отца, следила за капельницей, читала не пойми что, бессмысленно гуляя глазами по строчкам книги, завалявшейся в рюкзаке; вскакивала на слабый его зов, подкладывала судно, выносила, обтирала тощее тело влажной пелёнкой…
Она забыла, что в её жизни был Аристарх, забыла разузнать – куда он делся, и груз своего разнообразного горя просто волокла изо дня в день, сутулясь, медленно к нему привыкая. Сама себе она казалась таким кладбищенским пригорком, на котором берёзки да ёлочки пускают медленные корни в беззащитную глубину. Ядром её горячей боли оставался папка, его она тащила, его вытягивала, выносила из беды, догадываясь, что настоящая повседневная схватка с бедой для него лишь начнётся, когда – исхудалый, подавленный и трезвый – он вернётся домой, чтобы привыкать жить (не так уж и долго, впрочем) без жены, в опустелом доме, вдвоём с последней дочкой.
Глава 5
Юность
Как вспомнишь, чего только в их юности не уместилось! Как задумаешься – почему неистово и неизбежно сплелись в ней любовь и самые главные в жизни потери? Почему проросли друг в друга – не разнять! – тоска расставаний и счастье первого пробуждения вместе в шатре наклонённой ивы, – когда на всю ночь они остались на своём Острове.
И ничем, и никогда уже не стереть из памяти обоих ни холодного песка, ни блеска золотой луны, раздробленной ветвями, ни шороха мерно катящейся реки, ни соловьиного рассвета.
Её тело светилось, как лампа, и грело его, и плавилось, растворяя в себе до сладкого изнеможения, до терпеливого и преданного его ожидания – когда же, когда она запоёт… И – ах, как она наконец закричала – запела: изумлённо, изнутри, впервые, всем телом, горячим животом, пульсирующей грудью, изгибаясь голосом мощной дуги и всё длясь и длясь под ним, постепенно замирая, стихая… – так что шелест ветвей подхватил этот вздох и всё звучал и дышал, и перебирал-перестирывал воздух над их распростёртыми влажными телами.
* * *
В эти именно месяцы заболела и стала медленно умирать Вера Самойловна Бадаат. К тому времени она как-то смиренно и необратимо поддалась старости, оставила уроки пения в младших классах, но оркестром ещё дирижировала, не желая сдавать последних позиций. «Умру на сцене, – говорила, – под аплодисменты».
Так или почти так и вышло.
Выступали на ежегодном Всероссийском празднике песни. Мероприятие ответственное, с традицией, да и место особенное: Фатьяновская поляна – просторная площадка с большой эстрадой среди берёз.
Как всегда, широким полукругом расставлял поодаль свои лавки и навесы Город мастеров, со всеми видами местного рукоделия. И такая живописная пестрота заполоняла все эти столы и лавки, что сердце радовалось, а у приезжих, и даже у местных, привычных, казалось бы, к этому набору чудес, глаза разбегались и рука тянулась к кошельку. Однако всего не купишь. Вот и стоишь, рассматривая это ярмарочное веселье, или просто ходишь вдоль рядов туда-обратно, сравниваешь, любуешься, прикидываешь, что выбрать: расписные деревянные ложки-плошки, лоскутные покрывала или половички из таких ярких заплаток, – аж глаза разбегаются! А перламутровые шкатулки, а кружевное царство из Мстёры! Особенно кружевные вазочки – их для придания формы выдерживали в сахарном сиропе.
Бойкий, дружный праздник был: собиралось тысяч до пятнадцати народу, а исполнители наезжали самые известные – от Зыкиной и Бернеса до Золотухина и Хворостовского. Ведь на стихи Фатьянова кто только из композиторов не писал задушевных песен. Тут и память напрягать не надо, все они с детства на слуху, ну-ка, подпевайте: «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Если б гармошка умела…», «Соловьи, соловьи…», «Три года ты мне снилась…» – да места здесь не хватит всё перепеть! Сто десять песен – прикиньте-ка! А напоследок – конечно же, вот эта, родная-домашняя, справедливо любимая вязниковцами: «В городском саду играет ду-уховой оркестр…»
Кстати, духовые оркестры в этот день проходили по улицам один за другим, потому как, повторим, много их было в городе.
И наш школьный, тоже примечательный и уважаемый в городе оркестр, как всегда, блистал и гремел, исполняя попурри из песен Фатьянова. Юные солисты, пришедшие на смену прежним выпускникам школы, старательно выводили свои партии, а вечная старуха Баобаб – в своём не сносимом мужском пиджаке и чёрной бабочке – привычно махала и махала дирижёрской палочкой… И посреди самого яркого «тутти» оркестра – «Первым делом, первым делом самолёты!» – пауза… – «Ну а девушки?..» – вдруг качнулась, уронила руки…
(«В башке замутилось», – объясняла потом Стаху.)
…и стала оседать на деревянный помост…
Оркестр и хор разом сдулись и протяжно охнули. Уже ребята постарше бежали к ней – подхватить, уже ковылял по поляне, тряся брюхом, администратор мероприятия Афанасий Львович – звонить в «скорую»… Ну и далее по известному сюжету, с носилками да под сочувственные вздохи, понеслось спасение старухи, вплоть до койки в третьей палате отделения интенсивной терапии Народной больницы…
…где Стах её и нашёл.
Вера Самойловна лежала у окна, за которым росли старые липы и молодые ёлочки. Она была оживлена и настроена на скорую выписку. Сказала:
– Удачно, что я гигнулась в городе, а то бы куковала сейчас в нашей поселковой богадельне. Вид из окна здесь, конечно, чудесный, – ты обратил внимание, какие роскошные липы? Мы ещё погуляем, конечно. Но долго валяться я не намерена.
Обитательницы остальных пяти коек с интересом разглядывали Стаха, гадая – кем он приходится старухе, – внуком, что ли? Уважительный: «вы» бабке говорит.
– А придётся поваляться, – невозмутимо отозвался он (уже беседовал с врачом, знал результаты анализов: скверные по всем статьям). – И не советую скандалить.
– Ты с ума сошёл? У нас только три репетиции до заключительного концерта!
– Лежите смирно, – вздохнув, проговорил он, подтягивая на старухе одеяло и приподнимая подушку под её головой. – Что скажет доктор, то будем делать.
– Молодец, – вдруг подала голос старушка с соседней койки. – Правильно говорит. Он и сам доктором будет.
– Это Эльвира Самойловна, – пояснила Баобаб. – Моя отчая тёзка. Культурная женщина! Всю жизнь заведовала аптекой, потому никаких лекарств, кроме соды, не принимает… С чего вы решили, что он будет доктором?
– А похож, – отозвалась та. – Серьёзный такой, и руки заботливые.
– Это он дурака валяет. Вообще-то, он музыкант, и недурной, играет на английском рожке…
– Когда это в последний раз я на нём играл! – хмыкнул Стах.
* * *
На самом деле он удивился проницательности Эльвиры Самойловны, «отчей тёзки». То ли угадала, то ли, желая похвалить, не придумала – аптекарша! – другой профессии. А может, просто подвернулись на язык приятные слова?
Он ведь с детства знал, что станет медиком.
Как ни странно, на выбор этот повлиял батя, – вернее, случай, произошедший в один из воскресных дней, когда в очередной раз они возвращались из своей железнодорожной бани, которую батя уважал за «сухой пар». Он задержался тогда в буфете – пиво пил со Славой Козыриным. Десятилетний Сташек, уже демонстрирующий норов, ждал-ждал, да и заскучал. И, разозлившись на батю, отправился домой самостоятельно. Обогнув здание вокзала, свернул во двор и чуть не споткнулся: на асфальте поперёк дорожки валялся незнакомый пьяный (ну да, воскресенье!). Мужик корчился и что-то мычал… Сташек брезгливо переступил через него и пошёл себе дальше – дома ждал воскресный обед.
– А где отец? – рассеянно, через плечо спросила мама, перемешивая ложкой салат. – Я ж просила к обеду не опаздывать. У меня репетиция ровно в три.
Батя ворвался минут через пятнадцать – бешеный, с перекошенным лицом, дышал как паровоз. Бросился к сыну, в ожидании обеда засевшему с книжкой на диване, навис над ним и резко развернул к себе. Батя, в сущности, очень редко физически воздействовал на сына – так, отвесит лёгкий «поджопник» (по лицу и по голове никогда не бил), – и этого хватало. И голоса никогда не поднимал – не требовалось. Но тот свистящий шёпот, которым он сейчас заговорил с сыном, оглушил мальчика гораздо больше, чем оплеуха:
– Ты видел… там, на станции… человек лежал? Стало так тихо, что «тик-трак» больших настенных часов затарахтел над самым ухом. Сташек поднялся с дивана, робко пытаясь не то что оправдаться, просто объяснить… Почему-то оцепенел от страха, ещё ничего не понимая.
– Лежал, мычал и дёргался?!. – перебил отец тем же зловещим шёпотом.
– Бать… это ж… пьяный какой-то…
– Дуррррак!!! – загремел батя. – Это эпилептик. Приступ его свалил! Ты что, не заметил пены у рта?!
Сташек молчал, не в силах выдавить ни слова, ни глаз поднять на отца.
Тот вышел, хлопнув дверью. Не стал обедать. И притихшая мама (её-то за что наказал?) с совершенно подавленным сыном быстро и неинтересно поели, заглатывая борщ ложку за ложкой и опасливо поглядывая на входную дверь.
А вечером, уже другой, сосредоточенный и спокойный, батя вошёл в комнату к сыну, сел напротив и подробно объяснил – как помогают при эпилептическом припадке. Так же обстоятельно всегда растолковывал ему ситуации и положения, в которых считал «жизненно необходимым (его любимое присловье) знать, как следует действовать».
Как грамотно спасать тонущего.
Как делать искусственное дыхание.
Как наложить шину на сломанную кость.
Однажды на Клязьме, на рыбалке (Сташеку было лет двенадцать), он преподал ещё один важный урок. Вытащив здоровенного серебристого красавца-леща, вдруг велел Сташеку отсечь тому голову, распороть брюхо и распластать рыбину.
– Что там видишь внутри? – спросил, не поворачивая головы, напряжённо глядя на воду.
Внутри рыбы оказался вязкий вонючий белый порошок. Сташек потрогал его и брезгливо вытер палец о штаны.
Батя кивнул на противоположный берег:
– А теперь глянь туда…
На том берегу вдоль зарослей камыша ползло по воде большое белое одеяло.
– Удобрения, мать их! Минеральные… – Он сплюнул. – Никто их не использует, вот и привозят сюда и сваливают в реку. Сматывай удочки – конец рыбалке на Клязьме!
И всю обратную дорогу матерился, успокоиться не мог, припоминал ещё и ещё «безобразия»:
– Болота осушили! Да вы хоть знаете, мать вашу, что без болот ручьи и речушки захиреют. А на них – тысячи плотинок и запруд, чтоб вода скапливалась, отстаивалась, а уж потом – в Клязьму, на радость стерлядочке! Ну, теперь – всё: Клязьме – конец, Мещёре – конец… Стране – конец!
Примерно в то же время он, батя, выписал для сына два «толковых», по его мнению, журнала: «Науку и жизнь» и «Химию и жизнь». Выписал, конечно, не на домашний адрес, а в желдорбиблиотеку, что было для него характерно: не один ты на свете, пусть люди пользуются. (Пользовались, впрочем, три человека: Сташек с мамой и закройщик городского ателье Вадим Вадимыч.) Сташек любил и прочитывал от корки до корки оба журнала, но особенно уважал «Химию и жизнь», считая его более «прогрессивным». Материал там подавали броско, стильно: с иллюстрациями в духе завораживающе-странных композиций Сальвадора Дали. Так что с химией он познакомился раньше школьного курса. Одни лишь бензольные кольца на какое-то время стали камнем преткновения, но потом он и их осилил. А Перельман и Ландау с Китайгородским вообще долгое время были самыми важными людьми-книгами. Всё это вместе, плюс многолетняя дружба с Верой Самойловной, накопило годам к пятнадцати странноватый для его возраста нарост избыточной, хотя и несколько отрывистой эрудиции в самых неожиданных областях знаний. Примерно в это же время он оказался записан в Учительскую библиотеку. А как туда попал – тоже история.
Учился Сташек, не особенно себя обременяя: устные домашние задания игнорировал, к письменным снисходил время от времени. Школьный курс разных предметов пролетал между прочим, легко лавируя меж островками фактов, открытий, биографий и прочих сведений, добытых из разных книг и осевших в голове как попало – так стая перелётных птиц рассаживается передохнуть на крышах сараев, на кронах деревьев и на лодках у воды. Это касалось и языков. В школе преподавали только немецкий, и не то чтобы он старательно его зубрил, но когда загорелся прочитать Генриха Бёлля, то и прочитал – в подлиннике, со словарём; только такой и отыскался в библиотеке, а прочитать хотелось. Он прилично говорил и читал по-французски. Однажды Вера Самойловна целых три месяца демонстративно общалась с ним только по-французски, объявив это «сессией погружения в стихию языка». Он пытался восстать, огрызаясь по-русски, но в конце концов смирился, и вскоре обнаружил, что в бытовом разговоре уже с большей лёгкостью подыскивает нужные слова, а порой так и шпарит готовыми штампами. Но мечтал-то он об английском, и потому нашёл самоучитель, в котором медленно продирался сквозь надолбы абсолютно, считал он, идиотской грамматики.
Сидя за партой, всегда держал на коленях какую-нибудь книгу. Если учителя это замечали и требовали повторить только что сказанное, он повторял – практически дословно. И на него махнули рукой…
Хотя однажды Стах угодил на «проработку» в кабинет к директору школы Валентину Ивановичу – по забавному поводу: из-за «Руслана и Людмилы», вернее, из-за иллюстраций И. Я. Билибина к данному произведению А. С. Пушкина.
Там на толстой ветви узловатого дуба, в полном соответствии с текстом поэмы, сидела девица с мясистым, раздвоенным, как у щуки, хвостом. И опять же, в полном соответствии с текстом поэмы, Прасковья Сергеевна называла девицу «русалкой».
Сташек поднял руку и сказал:
– Это не русалка. Художник маху дал. У славянских русалок были ноги как ноги, а это – нимфа.
Прасковья Сергеевна залилась румянцем, бросила на стол ни в чём не повинную книгу – так что самописка подскочила и подкатилась к краю стола. Ребята замерли, глядя на пылавшее гневом лицо учительницы: видно, кончилось её терпение выслушивать мнения этого наглеца. Ведь началось всё давным-давно, когда они Тургенева проходили, незабвенную «Муму». Сташек тогда невинно поинтересовался – отчего же Герасим, вместо того чтобы топить любимого пса, не сбежал с ним в родную деревню?
Прасковья Сергеевна оторопела тогда, задумалась… и потом долго и многословно пыталась ответить на этот простой, в сущности, вопрос, который так и повис над головами учеников.
А уж с нимфой… то есть с русалкой этой… Уж Билибин-то, выдающийся мастер книжной графики… И вообще, кого интересуют эти физиологические различия мифических… девушек?!
– Да кто ты такой, – критиковать тут известных советских художников?! – выкрикнула она, полыхая лицом. – Ты сам-то что собой представляешь, псевдоэрудит несчастный?!
Псевдо… э… в общем, хорошо припечатала. Вероятно, годами копившаяся неприязнь взыграла, подсказав Прасковье Сергеевне острое и очень обидное почему-то словцо.
Влепила двойку и погнала к Валентину Ивановичу.
Впоследствии эта самая «двойка по нимфе» сыграла свою роковую роль: из-за пониженной четвертной отметки Сташеку не досталось золота. Серебро – оно тоже почётно, конечно, и мама успокаивала: мол, чепуха, к настоящей жизни всё это отношения не имеет. Но он-то знал: имеет. Ещё как имеет золото отношение к жизни – в самых разных своих видах и ипостасях. Ему, например, пришлось сдавать вступительные экзамены в институт, и он сдавал, и сдал как миленький.
А в тот незадавшийся день он стоял перед столом в кабинете Валентина Ивановича и бубнил своё унылое объяснялово: Билибин, русалки, традиция, то-сё… извините, больше не повторится… Хотелось поскорее уйти: до конца урока оставалось минут десять, и в класс можно было не возвращаться – покурить за школой.
– А вот у Репина в картине «Садко» русалки тоже с хвостами, – вдруг заметил директор задумчиво.
– А у Маковского и у Крамского – нет! – запальчиво возразил Стах. – Они, наверное, сначала изучили историю предмета. Врубель – тот скрыл в воде нижнюю часть тела. Может, не был уверен, а может, просто, композиция картины требовала… – Он оборвал себя, подумав, что вот, опять выглядит наглым выскочкой. Добавил только: – Хвостатая нимфа – это, скорее, европейская традиция. Андерсен… и так далее…
Оба они помолчали.
– Тебе клубной библиотеки хватает? – неожиданно спросил Валентин Иванович.
– Нет, – ответил Сташек почти обрадованно. Он был записан и в фабричную, и в железнодорожную. Обе – скудноватые, обе прочитаны вдоль и поперёк, обе стали ему катастрофически малы.
– А что нужно?
– Античную литературу, – быстро проговорил он. – Например, поэму Демокрита «О природе вещей».
К тому времени он уже норовил вместо «художки» взять что-нибудь «более питательное». Демокрита потом использовал для доклада по физике.
Валентин Иванович вырвал из блокнота листок, что-то на нём нацарапал и пустил пальцем по столу. Листок взвился, Стах его обеими руками цапнул.
Это оказалась птица счастья: лёгким отрывистым почерком в двух словах там значилась личная просьба к директору городской педагогической библиотеки (в просторечии – «учительской») – в порядке исключения внести Бугрова Аристарха в список постоянных читателей.
Вот где было раздолье!
Странное и замечательное оказалось книжное святилище, явно не для советских учителей; будто неким тайным указом обобрали академические библиотеки по городам и весям, изъяв всё редкое и ценное.
Добирался Сташек туда пешком: сбегаешь от оврага к центральной площади, пересекаешь её, поворачиваешь направо – за первым же переулком открывался дореволюционный двухэтажный особнячок с кое-где сохранившейся лепниной. По лестнице – каменной, с перилами стёртого дерева – взлетаешь на второй этаж, а там просто: стойка для посетителей, по обе стороны от неё – картотеки, за стойкой – читальный зальчик мест на пятнадцать-двадцать. А вот уже за ним – стеллажи, стеллажи, стеллажи… – улицы и переулки из книжных корешков, ведущие в глубь заповедной страны (а здание – глубокое!). По этим улицам и переулкам Сташек бродил часами.
Здесь хранились подшивки журналов двадцатых годов; в «Интернациональной литературе» Стах обнаружил «Улисса» Джойса. На дом такое не выдавали – читай здесь. И он приходил и читал, вернее, продирался, то и дело зависая в мерцающем мороке длинного дублинского дня.
Там же наткнулся на кумачовое собрание сочинений Ильфа и Петрова, где обрёл город Колоколамск, не включённый в позднейшие собрания вплоть до конца восьмидесятых.
Нашлись и классики римской литературы – те самые «двойные» дореволюционные книги: оригинальный текст на латыни – слева, перевод – справа. Он собирался к мучительному преодолению какой-то неизвестной вершины… и с изрядным удивлением обнаружил, что свободно оперирует многими словами и фразами на латыни, причём «источником» этого вновь оказалась Вера Самойловна. Это её громогласные: «Повтори дважды этот жалкий пассаж, что за «ля́пис оффэнсио́нис»! (Камень преткновения.) Или: «Позорно проскочил эту фразу. Куда ты мчался?! Ну-ка, снова, и «ле́гэ а́ртис»!.. (По всем правилам искусства.) А сколько раз после урока, заварив свой безумный чифирь и намазывая масло на ломти белой булки, она произносила назидательно: «Литтэра́рум ради́цэс ама́рэ, фру́ктус ду́льцэс сунт!» (Корни науки горьки, плоды – сладки.)
…Кстати, потом – в институте, на зачётах – этот домашний, бренчащий старой медью багаж пословиц и изречений пришёлся весьма кстати.
Библиотекарши – две бывшие учительницы пенсионного возраста – работали посменно. Поначалу он их даже не различал, принимая за сестёр. Обе худые, сутулые, с седыми клубками на затылках, они – ради смеха, не иначе – ещё и путались именем-фамилией. Одну звали Кира Васильевна, у другой фамилия была: Кирова. За глаза обеих так и звали: Кира Кирова. Душевные старушки, повидавшие за свою педагогическую жизнь невероятное множество характеров и судеб, детей они прочитывали мгновенно. Низкий им поклон за то, что с первого же дня, с первого взгляда сквозь очки перестали что-либо рекомендовать «соответственно возрасту» этому бычку-недомерку, просто запустили в закрома – бродить, листать и выбирать. Бодаться с самим собой. Пережёвывать на свободе самостоятельно добытый подножный корм. Со временем так привыкли к нему, что подкармливали буквально: поверить не могли, что он такой худющий «от природы». Всё им казалось, лишний бутерброд может спасти мальчика от голодной смерти.
В этих драгоценных, потаённых странствиях он наткнулся на «Грамматику фантазии» Дж. Родари, трактат о туалетах с древности до наших дней, на «Разговор о стихах» Эткинда. Нашёл и проглотил за два дня «Алхимию слова» Парандовского. Из физики – отыскал Ландау с Китайгородским и книг пять по теории Эйнштейна; обнаружил «Мнимости геометрии» – избежавший «чистки» том Павла Флоренского.
А главное, в свободном доступе там находились неохватные залежи научпопа, причём увлекательного, доступно написанного… Огромный раздел замечательных книг, писанием которых зарабатывали на жизнь «прикрытые для науки» умницы под псевдонимами. Одна из таких, потрясших его, книг оказалась без обложки и без автора; в ней рассказывалось о различиях в домашнем обиходе эллинов и римлян: дом, еда, раб как член семьи; обучение и развлечения… Помнится, потом он долго обдумывал: какими разными они были, греки и римляне, и как же мучительно медленно в человечестве прорастает милосердие!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































