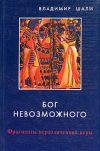Читать книгу "Улики"

Автор книги: Дмитрий Бак
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дмитрий Бак
Улики
Дмитрий Быков
УЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ
Поэты не очень-то любят критиков, даже когда критики их хвалят. Это объяснимо: из всех литературных занятий поэзия – самое таинственное, и мы сами, может, не хотели бы, чтобы кто-то нам слишком подробно объяснял, как это получается. Своими ушами слышал, как один из самых знаменитых и титулованных русских поэтов говорил не менее титулованному и прославленному критику-структуралисту, сроду не сказавшему о нем плохого слова:
– Писал бы ты лучше прозу, честное слово, у тебя так хорошо получается! Я просто от рассказов твоих не могу оторваться!
Короче, прозаик может любить критика. И драматург тоже.
А поэт старается свое занятие обставить максимумом загадок, потому что на самом-то деле это довольно грубое ремесло. И тем, кто любит колбасу, лучше не видеть, из чего она делается. Скажем так: именно в поэзии наличествует максимальная дистанция между материалом и конечным результатом. Материал проходит слишком много стадий. Поэзия делается из сильных и, как правило, трагических эмоций, из горького и, по-ахматовски говоря, постыдного опыта. Поэтому говорить о ней вслух лучше не надо, пусть уж все происходит в тайне.
Но есть в России критик и филолог, которому разрешается писать о поэтах, и которого стихотворцы – даже терпеть не могущие друг друга – одинаково сильно любят. Это Дмитрий Бак, профессор РГГУ и двуязычный поэт.
Еще Тынянов говорил о том, что Мандельштаму пошел на пользу детский опыт – в доме говорили по-русски и по-немецки, и отец, по собственному мандельштамовскому признанию, русским владел неуверенно, слова ставил причудливо. Этот вариант освоения речи – «русский как иностранный» – помог и Баку: украинец по детству – западенец, идеально чующий мелодику мовы, он и в русских стихах ставит слова под углом, на глазах читателя пробивается к их подлинным значениям, избегает клише, потому что для него слова все еще имеют буквальный смысл. Пафос поэзии Бака – не традиционно лирический, а интеллектуальный и, я бы даже сказал, научный. Только анализу подвергается не чужое творчество, а собственное темное чувство, до истоков и причин которого Бак пытается дорыться. И структура большинства его текстов, собранных в этой книге, – и ранних, и, что интересно, поздних – сродни теореме: сначала – хаотичное на первый взгляд нагромождение слов, цитат, обрывков незаконченной мысли, из которого вырастает ясный, запоминающийся, афористичный финал. «Что и требовалось доказать». Отсюда же и пристрастие к сонетной форме, которая в идеале должна использоваться именно в таких случаях: теза и антитеза в двух катренах, синтез-силлогизм в терцетах. Прочие варианты от лукавого, и сам Шекспир, эту схему ломавший, композиционно ей следует.
При этом Бак – романтический поэт в самом чистом виде, с демоническим, одержимым страстями, сильным героем, который давно считает нормой конфликт с миром и временем, любит и одновременно проклинает одиночество, оберегает собственное достоинство.
Бак – максималист, отвергающий соблазн иронии и конформного примирения с собственной эпохой. У него серьезный перечень претензий к обеим Родинам. Отсюда его любовь и внимание к поэзии
Василя Стуса – другого максималиста и упорнейшего диссидента, погибшего на излете застоя в лагере, но не пошедшего на компромисс. Лидия Гинзбург – один из проницательных исследователей русской лирики – говаривала в минуты раздражения «Романтизм надо уничтожить», но признавала его высокую литературную эффективность, бесспорный художественный результат. Бак и живет, и пишет довольно трудно, и для читателя его стихи трудны, ибо требуют понимания, уважения и сотрудничества – соработничества, как говорили раньше. Но времена иронии кончились, так что книгу свою он выпускает вовремя.
Бак – поэт, чьи сочинения доказывают глубочайшее понимание законов лирики. И потому герои его критики – подчас весьма нелицеприятной – хором говорят: ладно, вам можно.
Хотя по мне, если честно, писал бы он стихи. Всем было бы лучше.
I
СОН РУДОКОПА (НОВАЛИС)
докопавшись до рудного места в подземном раю
открываешь не новые дивные дива
в полутёмном отрезке который с трудом узнаю
я совсем не скучаю один и не знаю Годива
помнишь ты или нет то что виделось где-то в тени
белоснежного паруса простыни белой на пляже
между двух летних дней против моря ладонь протяни
и почувствуешь соль и об этом потом не расскажешь
я лечу по кольцу в остановленном лихо такси
мимо сирых райкомов и сызнова сыгранных саун
там над градом и весью висит в облаках ты еси
не проси у меня ни кольца ни монеты расплавлен
этот рудный нетрудный и ломкий припой
оловянный стеклянный распев деревянного марша
в этом тесном краю достаю потолок головой
молодой и тяжёлой а дальше всё старше и старше
неделимый остаток сухой порошок в уголке
приоткрытого глаза химеры вмороженной в камень
узловатой как лампа твоя рудокоп вдалеке
освещает дорогу назад и худыми ногами
прошагал восемь раз за один поворот на лету
back in USSR в пожелтевшем вернётся конверте
Пол Маккартни приедет в две тысячи третьем году
тридцать лет и два года спустя после медленной смерти
* * *
как зацепилась последняя ночь за улики
комом растущие в горле и нечем дышать
эти часы неподвижные эти улитки
это забвение рода числа падежа
ветер не сдержит уныло опавшие крылья
в тёмный зенит унесут оправданья и боль
всё что быльём поросло продолжается былью
из миллиона исходов возможен любой
это распутье летят паутинные нитки
к чёрту послать или к сердцу ромашку прижать
и зацепилась последняя ночь за улики
петелька шёлкова мыльце не жить не дышать
SIN. CLEARANCE[1]1
Здесь: очищение; полная распродажа.
[Закрыть]
дурнота в подвздошье клонит
долу голову ко дну,
грех бессвязный вавилонит —
четверть силы на кону;
бледный конь при всём народе
хочет по небу взлететь:
во аду ли в огороде,
вполовину ли, на треть —
не унять вины ванильной,
переспелой в аккурат
к распродаже половинной;
колет, рубит всех подряд
клон румяный, бес опасный —
легионом золотым
искривляет взор атласный:
где ни тына, там алтын;
…погляди: из грешной глины
взрос бааловой главой
хьюго босс неумолимый,
хьюлетт-паккард вековой
Bochum
* * *
И вот завеса в храме раздралась надвое.
Мф., 27, 51
Хочу ехать с тобой в электричке межрегиональной
(интеррегиональбан удобный, зелёный такой),
в третий раз расскажу, как – насыщен
туманною манной —
пропадал, оживал и опять умирал под пятой
Поядавшего пламя – народ, пересозданный дважды;
как, увидевши Край, Краснолицый в сомненьях упал
на лице свое и на одежды, и влажный
рот разинул в одном из Господних зеркал,
обращённых к земле мимо ангелов, мимо проклятий,
огибая пророчества, Силы минуя, и вот,
усомнившийся гибнет и серое, пыльное платье,
подминая под спуд, на лице свое присно падёт;
просто в линию вытянуть эти прирейнские плёсы,
только Мюльхайм и Дуйсбург оставить в покое лесам —
и пустой горизонт резедою сырой отзовётся,
и завеса – на две половины взлетит к небесам.
Bochum
* * *
Былой диагноз: «пульм эт кор
ин нор.» (что значило – «всё в норме»)
запомнил из рецептов сорных,
всегда звучавших, как укор.
По вечерам я слышал хор —
дуэт, верней сказать, и в форме
военной был отец, и в корне
всегда был прав, что твой сапёр.
Мои родители-врачи
имели цель: лечи, лечи! —
над каждым словом совещались.
«Не навреди!» – так Гиппократ
им диктовал и обещал из —
бавить бед, обману рад.
* * *
Не форсировать! Олететрин!
Я внимал, как глухая тетеря,
полурусским словам – не моим,
но как будто понятным по мере,
предназначенной давним врачом —
педиатром для лёгкого слуха
эскулапа-коллеги, причём —
на старуху бывает проруха! —
продираясь сквозь дебри густых,
дребезжащих, как жесть, приговоров,
я смотрел, как видна из-за них,
мимо детских опасливых взоров,
моя мама; вкушая, вкусих
мало мёда диагнозов устных,
терапевт участковый проник
в педиатровы речи прокруста;
а над ними, в затылок дыша,
глоссолалия тучей косою
бурей слов неопознанных шла
раскалённым бронхитовым строем
* * *
остаётся немногое: подле котельной
серый полдень был так тороплив, суетлив
и податлив, как воск. Там, премного болтлив,
я рассказывал Жеке и Сане отдельно
(а потом ещё вместе) фантастику. Их
удивление было особого сорта:
как-то эти истории в душах своих
размещали они, и ни бога ни чёрта
не старались призвать, чтоб сюжетов густых
перезревший сироп не растёкся на их
лицах недоумённой пронзённой ухмылкой,
и, слезами облившись над вымыслом сим,
на скупой авансцене за первой бутылкой
я впервые на бис был так пылко просим
* * *
ближе и ближе левей и правей
крепче к гончарному кругу приникнув
грудью рукою натруженной вспыхнуть
не пререкаться трудней и вольней
чем на излёте седых снегирей
гулкою гирей удариться в рифму
недозвеневшую лезвием бритвы
точно отточенным злей и острей
адову другу добавить ума
в правом предсердии вольтова тьма
не догорает прерывистой нитью
снова не выгорит этот отлёт
издали даже благое наитье
выглядит как от ворот поворот
* * *
Для И. Кабыш
«да, ты меня любил не за стихи!» —
так пригвоздила к стулу поэтесса
себя саму (иль самоё), и места
не стало мне в сем мире чепухи.
Ведь коли «ты» обращено к нему,
то – и ко мне, и к каждому, кто лестно
готов, пленившись гением злодейства,
всё мерить по себе и самому
себе вручать и камень, и стрелу,
и дар напрасный и случайный, мглу
ещё нерасшифрованных посланий,
сизифа, себастьяна скорбь, игру
закланий и последних содроганий…
…Искейп-дилит, постойте: весь умру.
* * *
такое концентрация собой
что только концентричное туману
вся кольца подпускающего в планы
тревоги боевая трудовой
такая полагаете концы
что кажемся неполное начала
уйдёт как лампой тихо вполнакала
калорий колкой веди люди рцы
солги такой не вытерпят и рань
ацтека прочь и юница форань
фанерой нофелет форель офортит
не пофартит афронт фита на ферт
коса да камень розочки на торте
жить минус плюс на минус выйдет смерт
* * *
не от сил ханаанская тяжесть
жестяную истому со лба
убирает и ропщет и вяжет
бело-белое слово судьба
неспроста и не более мига
не болит легкокрылая тьма
и тюрьма и сума и верига
не смешны но смешались с ума
чем вольней волоокие волны
тем полнее расплещется молний
леденящая взоры пурга
даже самые долгие звоны
настигают свои берега
солон воздух и воды бездонны
Treviso
* * *
ну что – понравилось не слишком,
одно-единственное сти —
хотдогворение? Прости —
я так привык быть третьим. Вишни
созрели, сад близ хари Кришны
так изобилен и трясти
пора плоды – без десяти
двенадцать дядя Ваня вышел
в ночь из дому стеречь сады,
сиречь от воровской беды
оборонять свои услады:
мне б только быть или не быть —
и, право, большего не надо,
а только б вечность проводить.
* * *
Лети, моя клавиатура,
могильная клава, – лети
и вычерти чётко и хмуро
гестапо большого бутик;
что если я тихо растратил
всего, что дано про запас,
последние капли – и ради
покоя свой глаз-ватерпас
прилаживал вплоть к окуляру,
за коим прозрачная тьма
вальсирует нервною парой
с туманным сверканьем ума;
что если и эти узоры
последних усилий верны —
с таким же успехом, как оры
с харитами – легче, чем сны, —
последние, тяжкие; что ес —
ли больше не я поутру,
в июле и августе, роясь
в созвучиях, весь не умру?
РАВНОВЕСИЕ
1
траектория дня неприметно отводит меня
прочь от зеркала сил на осиной оси Соломона
в полумраке зелёном меняется градус наклона
и змеиным курсивом поют по ночам бибиси
траектория дня удаляет неслышно меня
за минуту до сна изменяется градус наклона
от заполненных строк в КПК и до снов Аарона
до непролитых слёз в запылённом синодике дня
траектория дня усмиряет неспешно меня
и падение равное в зеркале сил отраженью
изменяет свой угол к оси и господь ты веси
если сердце свободно то кто виноват и отмщенье
траектория дня от удара до боли храня
расстояние равное боли ещё до удара
настигающей солнцестояние солнцеворот
от ворот поворот повергающий в облако жара
траектория дня мне не застит иного меня
равновесие противосил заиграет спектральным узором
набухает перпендикуляром бутон Мальдорора
изменяется угол и скрежет зубов не унять
2
траектория дня раскачает безмолвно меня
и падение равное в зеркале сил отраженью
удлиняет проекцию дня вдоль по тени движенья
и густеет земля распрямляясь от до и до ля
траектория дня достигает ничтоже сумня —
шеся шествия дня по кривым закоулкам окраин
невесомого тетриса сумма смеётся сама им
отдавая на сумрачный суд траекторию дня
траектория дня в остановленном лихо такси
кто там едет кто мчится в ночи между кольцами мимо
распрямлённых предсердий как будто окраины Рима
и Москвы наклоняя к одной волоокой оси
траектория дня и тогда и до дна и до дыр
износившись укажет в прямое восторга биенье
накуражившись вплавь и отпрянувши от отраженья
разобьётся в сердцах миру мир миру мир миру мир
* * *
побудь со мной кого со мною нет
по-быстрому не справиться с тобою
по быстрому прибою голубою
волною расписною в стороне
от всех сыгравших в ящики примет
не примется росток прости на то я
и звал тебя в крутое бологое
но если нет как нет то нет так нет
СОН
Памяти М. Каневской
Называется – вспомнить: лицом в темноту;
так написано всюду и от Иоанна
день дудит во вторую и третью дуду;
лбом касаюсь угрюмых закраин дивана.
Это скрежет зубов или топот копыт,
вот гонцы предпоследние ближе и ближе;
не скрижали, но вздыбленных всадников лбы
взгромоздили ребром черепичные крыши.
Изнутри подступившей вплотную зимы,
в чёрных складнях беспамятного пробужденья
сам себя окликаю истошно на «мы»,
понапрасну выпрашивая самосожженья.
Там на всех парусах роковая тщета
в тощем зеркале кажет свои полукружья;
четвертованных сумерек злая черта
забирается выше бровей и отдушин,
воспалённые пазухи плавят свинец
и не скрыть за спиною последних конвульсий;
пятый ангел прилежно трубит; наконец
я кричу – это руки чужие на пульсе.
БОРОДИНО
Неудача! Злое семя
из камней не прорастёт;
ризеншнауцер на сене
возлежит, как эхолот;
ловит чуткими ушами
дольней лозы зыбкий шум:
где-то песельник Ошанин
шепчет сон про анашу.
Вот музыка полковая
приближается в ночи;
блещет штык и завывает
ветер. Кружатся грачи.
Всполошился стражник чёрный:
на собачьем языке
горн дудит, трубят валторны —
время близится к реке.
Нет покою в мире этом
ни сокровищам, ни снам:
золотые эполеты
вплавь пустились по волнам.
Всё затихло. Шире, шире
по воде идут круги;
люди тёплые, живые
достают до дна реки;
кивер мёртвый, весь избитый
по течению плывёт;
пёс с башкою непокрытой
дремлет в будке у ворот,
нос холодный в лапах прячет
и растерянно молчит,
взор зажмуренный незрячий
тонет в сумрачной ночи.
Привечаю чуть не плача
разрушительную тишь.
Неуд. Нежить. Неудача.
Счастье хлещет выше крыш.
* * *
когда уничтожив спросонок
ты держишь привычно во тьме
чумного ума триста сорок
забытых заглавий в вине
нет истины более смутной
чем неумолимой вины
палящее пламя и сутки
соткутся в посмертные сны
прозрачные долгому взгляду
и камни на дне из стекла
так близки что даже не надо
за борт наклоняться игла
снуёт над поверхностью кожи
как ластик туда и сюда
так были мы чем-то похожи
и общая наша черта
так тонко прочерчена в небе
едина во внутренней тьме
что ночи безлунные слепы
а дни всё короче к зиме
* * *
в это цветное лето
всё чаще думаю о смерти,
которой и на свете нет —
если верить Арсению Александровичу;
нет её обо мне, есть обо всех, кого нет,
и это отсутствие смерти обо мне
в нашем горячем дне
и есть смерть
сколько ещё приливов и отливов
отчаянной надежды
будет,
за каждым из них освобождающее
притупление чувства конца,
благодаря тысяче причин:
вот и родители живы,
и много людей на свете старше меня
и
и
* * *
Вероятностный признак отсутствия страха,
когда воздух густой холодеет в горсти;
искажённой усмешки рискованный запах:
боль до боли, прощай накануне прости.
Из последних сдержи ледяное дыханье,
заведи мне за плечи ладонь; заведи
колебание лопастей, крыльев мельканье;
мельтешение вздохов и слов укроти.
Отодвину от глаз окольцованный локон,
капли крупного пота сотру, торопясь
опоздать на урочную встречу с упрёком,
когда эта бессильная дрожь родилась.
Bochum
* * *
вяжет звук солоноватый
подъязычный окоём
ловит привкус винограда
контур чёрных глауком
где пальпация слепая
лепит сахарны уста
валидольная кривая
огибает паруса
тряский сор рябит в глазницах
неразборчивым тряпьём
долго будет виться биться
под огнём и под ружьём
долго птица невелица
не синица литься не
позволяй душе лениться
верить веритас не мне
ДВА СОНЕТА
1
бесхребетный пиарщик двоякосогнувшийся перст
штрих-пунктиром тончайшим растёт в мозжечковую полость
распрямившийся цвет травяной пеленой зелен-колос
повторивший наклоном и клоном мой контур небес
выше ста семь и семьдесят смело колышется лес
вровень с этими тяжестью нежностью робость
лёгкость ломкую звонко лелеет как родос
утверждает колосса подножье на мили окрест
беззаботные дни и не знаешь ещё никогда
где ночует беда и вода что светла как слюда
на излом зелена эта твёрдая гибкая воля
эластичным нажимом расчерчены ноты твои
то ли лето прошло не бывало как водится то ли
соловьи не тревожат солдат но все точки над i
2
я тебя по уму рассчитаю расчислю пойму
твоему параллельному взгляду какая неволя
подлежит словно сон и чего же вам что же вам боле
если слева где сердце как в солнечном детском крыму
в кострому или в вологду едем и фары во тьму
устремим и околиц и лиц освещаемых в поле
разглядим силуэты как блицы зарниц перед боем
вечно снится покой голубой в терему
это максимум-я это максимум-ты темноты
ровно столько чтоб силу и тайну воды
удержать смертью мёртвою жёлтою жизнью живою
так когда-то впервые натужно сложив дважды два
перемножил слова и усвоил с оглядкою кто им
во гробех спящим снова и присно живот даровал
* * *
Хочешь, чтобы сразу, вдруг,
коли жила не тонка?
В эту мутную игру
взят заменой червяка;
быть наживкою не всласть:
кто ни рыбка, ни рыбак, —
тому выпасть и пропасть —
одинакова тоска;
режь меня, жги меня,
режь, руби, коли и жги:
подле адова огня
не медовы пироги.
На носочки подымусь,
белу свету поклонюсь
и на все на три-четыре
понемногу разойдусь;
будь хоть ягодой в горсти,
или дьяволом в шерсти —
только б лёгкого дыханья
напоследок унести…
Закушу недлинный ус:
рыболова не боюсь;
рыба, рубленая рыба —
не медовый, медный вкус.
II
* * *
могу формулировать чувство
пока разграфлённой листвой
бумажные белые блюдца
не бьются над словом и свой
неясный гербарий уловок
развилок нырков и уви —
ливающих вкруг оговорок
готов затвердить на крови
протелеграфировать пеленг
успеем из точек-тире
до срока сложить перепевы
всех мыслимых до ми соль ре —
вности этих злых полукровок
от чистых до сорных полей
в тетради останется шорох
пера по бумаге дождей
пролившихся пенною влагой
одним мановеньем руки
одною незыблемой сагой
увял посредине строки
трилистников красных и жёлтых
зелёный рой смело смотри
чему соответствует шёпот
и с чем соотносится крик
* * *
я ж тебя я ж тебя ты ж меня где
в вологде сумрак и в риме ненастье
не назови сочинённое счастье
горькой добавкой к пустой воркуте
как же сомнением полон и пуст
этот такой и неласковый вечер
плечи накинь на сбежавшее вече
легче и метче пронзительный пруст
бьёт меня влёт и навылет но как
через один расквитаться по счёту
чтобы и быть и казаться плечо там
стиснет рука и уйдёт в облака
выдох и вдох изумлённый как те
тёмно-терновые терпкие слёзы
что выливаются в срок не из розы
а из угрозы и в вологде-где
* * *
Любовь и кровь, и хаос на водах,
беспамятство и вечный камень-пламень:
там радость-младость, галки на крестах,
и полон волн наш пироскаф, и сами
не уследим, когда из роз – мороз
проглянет вдруг – как будто поневоле, —
и отойдёт, как стынущий наркоз:
оставь надежду, лови ветра в поле;
не ведает, творит иль просто так
играет жизнь младая, – но заране
темнеет день, как хаос на водах,
Онегин-Ленский – Ольге и Татьяне
признание-картель строкою в чат
в четверг-субботу пишут-посылают,
и отвечают дамы и молчат
одновременно; музыка играет,
а вы глядите на него и вдаль,
и дальше, и совсем куда-то мимо
косых картин, где хаос и вода,
мгновение бежит неудержимо,
и мы ломаем руки и опять
преследуют две-три случайных фразы
с утра в окно: «кому купить-продать…» —
ещё из тех времен, когда ни разу
бессонница, часть женщины, стекло
не волновали кровь-любовь живую:
живым и только – до конца; пришло —
на пляс де Конвансьон, и одесную
я вижу некий свет, и второпях
сребрит мороз увянувшее поле,
но совпадают цвет и суть в ночах,
а дни длинней, да и чего ж нам боле?..
Paris
ВИГИЛИИ
Не отличить от жизни этой —
ни день, ни утро, ни… Ночной
дозор, роняя эполеты,
глядит в бинокль полевой.
Не отличить от этой жизни —
ни свет, ни мрак, ни сумрак, ни
дамоклов меч. Здесь новой схизмы
опустошённые огни.
И вот, – к лихому завершенью
идёт попытка номер три
забыться сном… Но неужели
меня под утро засекли
и взяли на учёт? И кто-то,
кто знает дни наперечёт, —
ждёт у слепого поворота,
к забору привалясь плечом?
И бьёт, и рубит – режет, колет
и, озираясь вскользь и вспять, —
даёт мне знать, что тесный дворик
от этой жизни не отнять;
тут ни прибавить, ни убавить,
роняя ломкие слова
о том, что (словно Савл и Павел
одновременно) я едва
очнулся от ночного взгляда,
меня пронзившего насквозь…
…Внезапно, залпом бьёт засада
из-за угла и в глаз и в бровь.
* * *
Бояться ужастиков поздно:
когда записной фантомас
косился смешно и серьёзно —
я с ним загорался и гас;
бояться ушастиков можно,
и снова, в немыслимый раз
я в небо сырое подброшен
и пойман. Но глаз-ватерпас
меня замедляет в пробросе
от дыма до каменных вод,
он колет, и рубит и косит,
сулит от ворот поворот;
не выжить от этого дара,
и я, за короткую тьму
его разглядев с пол-удара,
и к чёрту и к сердцу прижму.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!