Текст книги "Солнечный ход"
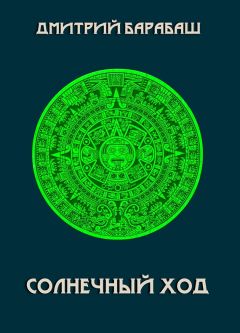
Автор книги: Дмитрий Барабаш
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Я шел из рима
Я шел из Рима в Иерусалим.
Каким по счету был сегодня Рим?
И кто его считал? Какой наукой?
Какой поэт укладывал в строфу?
Земля струила медленной разлукой
передо мной тарковскую траву,
как за ручьи удерживала реки,
спешащие исчезнуть по морям.
Я шел камнями в Рим,
из Рима – в Мекку,
к стене печали,
плакать по корням.
За веком век, как за самим собою —
незримый, словно солнце за луною.
Люди
Бог не скупился, когда раздавал
каждой душе по солнцу.
Он проникал и в дворец, и в подвал.
Он целовал незнакомцев.
В каждом зачатье Он третьим стоял
и наблюдал лукаво.
Всем до единого – крылья раздал,
всем до единого – право
ласточкой резать просторы небес
и говорить Словами.
Люди решили, что лучше без —
мы все сумеем сами.
Магические знаки
Не то чтоб я устал,
заговорив о Боге,
не то что б я узнал,
куда ведут дороги,
начавшиеся там,
где появилось Слово,
не то чтоб я нашел
следы пути иного
к прозрению души,
к любви или покою…
Я был как водопад,
я горною рекою
срывался с облаков
и бился об арыки,
я воплем ишаков
глушил людские крики,
я возводил Тянь-Шань
тенями над пустыней,
я пил то инь, то ян,
то высью ярко-синей
я напивался в стельку, в полный срач…
И черный загребущий карагач
пускал в меня иссушенные корни.
Арыки сохли. Спотыкались кони.
И солнце осыпалось с тополей.
И только полумертвый соловей,
преодолев земли пустые страхи,
нашептывал магические знаки,
мелькая в перекрестиях ветвей.
Последняя встреча
Поцелуй меня там,
где внезапно закончилось время.
Я хотел бы подняться,
я всех бы развел по местам,
воскресил бы друзей,
сунул ногу в небесное стремя
и взлетел над землей,
как секундная стрелка —
не по цифрам скользящая —
по голосам.
Что там будет? Кто встретит?
Как сделают сказку?
Серый волк станет плакать
над чепчиком желтой козы.
Остается ловить
промелькнувшую выстрелом каску,
абсолютно пустую,
и слизывать капли с росы.
Баллада о солдате
Итак, герой моей баллады.
Он претендует на роман.
Он хочет разводить парады,
как строчки по чужим томам.
Но удивляется… На полке,
без эполет, сменив мундир,
один лишь том
в безумной челке,
и тот, зачитанный до дыр.
Что делать дальше? Жить-то надо.
Куда же направлять войска?
Я б дал солдату мармелада,
но знаю, что его тоска —
одно стремление к свободе.
А там, а там, а там, а там…
Не дай мне, Господи, в пехоте,
пошли меня к другим родам.
Допустим, к авиационным.
И будет резать чудный МИГ
лазурь, блестя крылом,
подобным
тому, что я во сне постиг.
Он станет соплом плавить тучи,
как мысль моя, и так вилять
хвостом любви своей могучей,
что, просыпаясь, слово»… мать»,
какая пасмурная хмурость!
Но долгом праздничных баллад
меня послали на парад,
и – до звезды,
каким там родом
я встану,
как последний гад,
зато плечом к плечу с народом,
и даже ближе: к заду – зад.
Отброшу напрочь вшивый томик,
где тараканы и клопы…
Давай-ка лучше тыщу хроник
на радость алчущей толпы,
строфой трофейной подытожим
и в золотые корешки
иной порядок жизни вложим,
порезав землю на кружки.
А после будем на кладбище,
среди несносно трезвых звезд,
искать у трупа в голенище
топографический прогноз
великих тайн, несметных кладов,
устав от меди и парадов.
Итак, герой моей баллады.
Его, как хочешь, назови.
Он умирал под Сталинградом,
в Афгане слушал Ансари.
Как описать судьбу солдата?
Чечня, Словения, Бишкек —
война
с заката до заката
по кругу замыкала век.
Лишь детский сон с настольным солнцем
ласкал страницы мирных нив,
где он был тоже стихотворцем,
над книгой голову склонив…
О богатстве языка
В русском языке —
пятьсот тысяч слов.
В английском – триста тысяч.
А я говорю языком ослов,
в ваши души губами тычась.
И нужно ли больше? Я говорю,
глаза поднимая к небу,
к тому лаконичному словарю:
солнцу, воде, хлебу.
Истин так мало, что их приукрашивать —
глупая трата времени.
Вы научитесь сначала спрашивать,
а дальше решайте, теми ли?
барак бабрак бароккорококо
Дмитрию Невелеву
Послушайте, вилли, вы или забыли,
что мили под килем, виляя, уплыли?
Вы или забили на то, что финтили
ленивые тили в типичной квартире.
Об Осе и Ёсе, о Вели и Мире,
о том, что уже замочили в сортире
мальчишек, драчёных
на красном клистире…
Послушайте, вилли,
так быть или были?
Так слыть или слыли?
Так срать или срали,
когда ускорялось дурацкое ралли —
и жизнь проносилась,
как муха под килем,
гремя плавниками по мелям и милям
пустого пространственного одночасья…
И вся эта муторная —
пидорасья —
страна
любовалась изящным скольженьем
того, что казалось небес отраженьем,
и тем, чем горчила,
как водка и деготь,
судьба, острой щепкой
целуя под ноготь?
Послушайте, вилли, равили, тютили,
фаэли, растрелли, говели, постили,
барокки, бабраки, канары, сантьяги
и красно звенящие медные стяги,
и вялотекущие белые суки,
и белые-белые
мамины руки.
2000
Шутка
Смерть такая каверзная штука,
что ее давнище пережив,
я ищу уверенного друга,
в том, что он бессовестен и лжив.
Мы включаем лампочки в потемках,
мы взрываем замки в облаках,
и в газетных маленьких колонках
мельком вспоминаем о богах,
о любви, о творчестве, о вере,
о себе, как это ни смешно…
Кто кому приоткрывает двери
в то, что им уже предрешено?
Я уйду в зеленые высоты
за слеженьем зловеликих глаз.
Я уйду туда, где пахнут соты
солнцем, отразившимся от нас.
Леде
Я не тоской приду к тебе болотной,
незримым светом наполняя тьму,
прижмусь к твоим рукам
щекой бесплотной
и рядом по-мальчишески усну.
Мы будем вместе так, что никакими
причудами земли не разлучить.
Мы полетим лучами золотыми
лазурный сок с вишневых листьев пить.
Людьми земными встанут наши тени,
их окрылит возвышенная речь,
в которую рекой впадает время,
как в океан, переставая течь.
Голоса
Я был скорее звуком, чем —
стыдно сказать – лучом.
И. Бродский
Посмотришь на слово – свет.
Произнесешь – звук.
А если сказать про себя,
совсем не произнося,
окажешься где-то вне,
и гулкий сердечный стук
не сможет пробиться сквозь
бесплотные голоса.
Как описать тот свет,
в котором есть всё… и нет
касаний, зрачков, ушей,
трехвекторных плоскостей,
и время – не от и до —
ни смерти, ни дней, ни лет —
один первозданный свет
без цвета и без частей,
мерцания светлых лиц
на рифмах крылатых плит,
на гранях парящих слов,
сложившихся в строгий ряд,
здесь образами миров —
объемами пирамид
бесплотные голоса
печалятся и творят.
Листает века Шекспир,
Высоцкий выводит SOS,
и Бродский рисует Рим
на фоне стеклянных звезд…
Кони
По валунам горной реки
каждым копытом
цокая точно в цель.
Люди смотрели на небо,
как будто с руки
пили воду,
спасавшую их
от несметных потерь.
Ну куда же ты скачешь?
Зачем ты рифмуешь леса
с городами, ручьи —
с бесконечным ознобом души?
Неужели ты думаешь
Слову важны словеса?
Если видишь точнее,
то вытащи и покажи.
Мне шаманский твой при́говор,
как пригово́р для тебя.
Мне картавый твой выговор,
как валуны, пригубя,
по которым копытами
цокают кони в ночи.
Безошибочно точно,
не трогая пламя свечи.
Путешествие
Можно врать пером,
щекоча горло,
можно рвать словом,
лишенным смысла.
Главное, чтобы по жизни перла
карта двух полушарий,
меняя числа
не дней, а кресел в аэроплане
и полок в спальном купе вагона,
в котором, прильнув
к оконной раме,
ты понимаешь,
что нет закона
стихосложения,
правил грамматики,
прочих условностей и привычек.
В одной части света
царят прагматики.
В другой —
канареечный посвист птичек.
Если же ехать довольно быстро,
то можно тормознуть
и утро, и возраст.
Пусть будет на палубе чисто-чисто
и веет пронзительно свежий воздух.
Нет ничего преисполненней смысла,
чем следить по карте названия точек,
проплывающих снизу.
У этого мыса
слегка раздраженный
божественный почерк,
а тот континент
похож на индийский
кувшин с бесконечным
цветным узором.
Простите. Конечно,
двойное виски.
Смотрите,
планета с косым пробором.
Утренняя сказка
В День рождения Адели
солнце нежится в постели
в накрахмаленных лучах.
Там в одной из скальных складок,
пенно-горек, темно-сладок,
прячет тысячи разгадок
в карих гущах и ручьях
африканских ароматов
сонный берег, нежный страх.
Вдруг ускачет по обоям
зайчик солнечный, с собою
всех изысканных жирафов
и вальяжных львов забрав.
По горам и по долинам,
по коленям и ложбинам
вереницей бесконечной
звери грустно побредут.
Их никто не остановит
остро вздернутой ладошкой,
их никто не образумит
строгим взглядом свысока.
Только сдвинет осторожно
горы грозною гармошкой
от стены до горизонта
чья-то мудрая рука.
Только голосом неместным
кашлянет, как гром небесный,
и густым табачным дымом
застит сладостный простор.
И тогда, конечно, звери
побегут скорей к Адели,
а не то туркмен с метлою
их развеет, словно сор.
Тоньше перышка, качаясь,
ты потягивалась хрупко,
озаряла мир улыбкой
и каталась на слоне,
словно девочка на шаре
или тающей луне.
Январский дождь
Вот и дождь прошел в конце января.
Купола, как зонтики, над страной.
Бьются капли грустные, говоря,
что творят недоброе за стеной.
Речь течет обратно: урлы-курлы.
Солнце свет сливает, как водосток,
и хвостами по небу журавли
неумело пятятся на восток,
где багрянец зарева под луной,
словно смотрит строго бельмесый глаз,
на страну, которую ты со мной
провожаешь ласково в оный раз.
Все пройдет, любимая, как дожди,
как дрожит под поездом твердь земли.
Ты прижмись теплее и расскажи,
как мы жили в сказочной той дали,
где леса не сохли, росли хлеба,
где красавиц юных в уме не счесть,
где за кромкой света искал тебя,
не надеясь даже и выжить здесь.
2014
ПРЕКРАСНЫМ ЖЕНЩИНАМ
Укротитель
О женщины, я вас всегда любил,
как укротитель сладкую угрозу,
когда ему прекрасный крокодил
в зубах преподносил живую розу.
В змеином царстве
В змеином царстве лучшую змею
я выбираю для услады сердца.
И, как птенца, ей сердце отдаю,
чтоб стать причастным
к тайнам изуверства.
Добро скучно
Мне говорила томная дуэнья,
что за нее ходили на дуэли
и там теряли чудные мгновенья,
которыми до этого горели.
Рассказывала злая поэтесса,
что Клеопатра вышла из шатра,
чтобы придать немного интереса
тому, что исходило от добра.
Добро скучно.
И что же с ним поделать?
Объять? Никак.
Распять? За просто так.
О женщины,
как вам присуща смелость
над смертью
возноситься на кострах.
Монологи
Зачем пытаться видеть,
знать, творить,
ведь ни одной еще не удавалось
преодолеть щекочущую прыть
и обрести высокую усталость.
Быть может, в старости,
когда отпляшет плоть,
в слепых огнях
разгуливать овчаркой,
я поднимусь, чтоб небо приколоть
отравленной
английскою булавкой.
Витрина
То возносясь с изяществом стрижа,
То улыбаясь мудростью дельфина,
Он обещал, что будет хороша
Любви люминесцентная витрина.
Сироп любви
И что за глупость – быть или не быть?
Будь я одной из тысячи Офелий,
Я снова стану Богу в уши лить
Сироп любви из ядовитых зелий.
Зачем менять миры, шары, закон?
Зачем пенять, стенать, напоминать,
с кем водку пить,
с кем хлеб ломать,
с кем спать.
Мне надоесть бывает очень сложно,
бред мудрости я выучил подкожно.
Он бередил мне зубы и хребет.
Зимой морозил, подавал совет:
держись тепла,
но вдруг тепло заносит
куда-нибудь за тридцать —
тридцать восемь,
что для Москвы, наверное, подходит,
но мне – никак.
А там луна восходит,
там по волнам нудистская дорога,
соблазнами невинного порока
кичится, бля…
Морская, бля, природа,
как утвержденье жизни,
как свобода
мужских начал…
В ночной тени причал
пощечиной встречает шепот яхты.
И гальки крик плеснет прощально:
– Ах ты…
запрыгает, – паскуда, пидарас!
Уставший капитан в который раз
заметит шефу: «Надо брать охрану,
чтобы картинка не ломала раму
беззвучия в лучах ночных светил, —
ни то со дна, что я не досмолил,
пробьются маршем строевые фразы,
и купленный в Зимбабве крокодил,
съест все сословья,
вдохновляя массы —
на плац и клацать до утра нутром…
Так пусть молчит,
пока не знает места
своим рыданьям страстная невеста.
Ей время плыть
с арабским женихом,
как воск со свечки в голубую чашу
мечети…» Мать! Забрали Машу нашу
туда, где нет ни свечек, ни икон.
Зачем менять миры, шары, закон,
когда и тут достаточно простора
для встреч с абсурдом,
для momento more,
когда и здесь от каждого окна…
То зубы ноют, то болит спина.
Вместо
Ты поставил меня на границе
между временем и пространством.
Я такой нагой на пустой странице,
что безумно хочется стать засранцем.
Что ты делаешь, друг мой ситный?
Мне до фени твои приколы,
мне до фени твой ужин сытный,
мне до фени твои уколы.
Или сам ты забыл, замулил,
и себя ты повел нечестно, —
то ли пули, а то ли дули,
то ли вместе, а то ли вместо.
Кто потянет такие муки?
Для чего же ты мне подбросил
слов нечаянных злые звуки,
слез отчаянных из-под весел?
Бесенку
Надеюсь я, что твой бесенок
сумеет выпрыгнуть туда,
где улыбается спросонок
ему зеленая звезда —
зеленый глаз вселенских истин.
И вдруг поймешь ты, что всегда
на свете был ты кем-то мыслим,
как солнце, воздух и вода.
Работа над ошибкой
О, как же я хотел вплестись
в извивы пламенных проклятий,
чтобы соединилась жизнь
моя с восходом на закате.
Преодолев земную ночь
я стал смотреть на вас с улыбкой.
И в каждой бляди видел дочь —
и в ней работал над ошибкой.
Ты научишься думать стихами
Ты научишься думать стихами,
наступая ногой на огонь.
Будешь ласково спорить с веками,
положив их себе на ладонь.
И поглаживать, словно котенка,
не открывшего пасмурных глаз.
Ты научишься видеть в потемках
самых ярких и трепетных фраз.
Беатриче
Сколько раз
я тебя поднимал над землей,
Беатриче моя, Беатриче!
Ты была мне сестрой,
ты была мне женой,
ты была мне отрыжкою птичьей,
из которой
построили землю стрижи,
звонким ласточкам
трепетно вторя.
Мне слюна твоих истин
дороже, чем жизнь,
и понятнее здешнего горя.
Сколько раз
я вычерчивал светом мечту,
но она оставалась мечтою.
Сколько раз
отправлял караваны по ту
тишину неземного покоя.
Может быть, моя мысль
была слишком трудна
для того, чтобы
здесь воплотиться.
Беатриче моя, ты навеки одна,
наша самая синяя птица.
Маленькая сказка
Мне нравится слышать,
как замедляется стук
сердца, прижатого к уху
моей души.
Я буду по долу бегать
от всех разлук,
размахивать майкой
и складывать шалаши…
Бездомный шмеленок
станет заглядывать в теплый мир,
любой паучонок,
любой муравей – как в сказку,
а я буду с ними шутить,
выходя из ветвей,
порой надевая,
порою снимая маску.
Жанне
Самой страшной наукой была для меня
та, в которой рукою касалась огня.
Я смотрела в себя, я пыталась понять,
как ее от огня, испугавшись, отнять.
Жанна д ́Арк – это шкварка
в небесном пюре.
Так и бегает с вилкой по шару кюре,
залезает на крыши и тычет туда,
где лишь воздух и солнце,
луна и вода.
Отобедать извольте плодами земными.
Вам уже никогда
не подняться над ними.
Над светом на волоске
Я себя за волос с макушки
привязывал к небу,
я летал над светом на волоске,
я губами в губы
встречался с летом
одичалым родинкой на виске.
То весна травинкой
меня касалась,
то хмельная осень
смотрела в грязь,
то зима убийцей
с ножом казалась,
под гусиной кожей ко мне крадясь…
Эта кожа без перьев,
как смех беззубый,
как свиная щетина,
как рупь на чай.
Мне земля без перьев,
как хлеб едина,
пополам разрезанный невзначай.
Я во сне был ногой
Я нашел в нашем мире дыру.
Ее долго старались скрыть.
Я засунул руку в его нору —
и мне расхотелось жить.
Ах, зачем же он снова
решил стать собой?
Я увидел сон:
я во сне был ногой.
Она ходит там,
где нельзя ходить.
Она щупает пальцами
черствый хлеб.
И зачем-то тянется белая нить
и зачем-то совесть уходит в Не,
в небытие или к звездам,
или еще куда-то:
туда, где нет хлеба,
туда, где все радостно и пиздато.
Там у меня на коленке
сидит половинка неба.
В Лете
Я знаю только то,
что ничего не знаю
про то, что и когда
придет на смену маю…
Как будто бы июнь,
как будто снова лето.
А я стою по грудь —
меня щекочет Лета.
И ласковый Харон
веселками смешными,
меня со всех сторон
конями пристяжными —
на бережок другой.
С той стороны – и с этой.
А я ему: «Мужик!
Я не купил билета
еще на твой паром
и покупать не стану.
А в Лету я зашел,
лишь для того, чтоб рану
в груди своей промыть
и дальше в путь пуститься.
Меня на суше ждет
румяная девица».
Высокое искусство
Блеск мишуры придуман не Богами —
и тем ему назначена цена.
И сколько ни топчи его ногами,
как виноград,
ни счастья, ни вина.
Лейбирий 2
Мне во сне пришел Лейбсон.
Волосатый, без кальсон.
Молодой такой, вихрастый,
Мефистофель самый красный
из рожденных на земле.
Сколько было в короле
не прошедших в счастье пешек,
как хрустел во рту орешек
страшных знаний…
На столе
шевелился человешек.
Пели бабочки в траве.
Веселая луна
Луна пробивалась сквозь листья.
Луна проступала, как мысли,
и вновь рисовала дорогу
наверх, к седобровому Богу,
И медью своей любовалась
в реке, что ступнями касалась.
И светом звеня, заливалась,
как смехом.
Ни старость, ни младость
ее не могли огорчить.
Ах, как же она любовалась
землей, где мне выпало жить.
Великое согласие
На самом деле этот волосок —
лишь ниточка великого согласья.
И что с того, что слышу голосок
в плену огней земного сладострастья?
Меня подвесить трудно,
Боже ж мой.
Вот утро поднимается лениво,
и голос Твой
восходит надо мной.
Опять росой земной
слезится слива,
черешня, яблоко. Пчелиный улей. Вой —
на кончике Твоей великой мысли.
Когда захочешь – обрету покой,
но ты сначала жизни перечисли.
Новая страница
И вот Он новую страницу мне открыл.
И всматриваясь в линии блокнота,
я видел, как
в них оживает нота,
которой Моцарт с нами говорил.
Он новую тропинку прочертил,
другие звезды завязал узором
созвездий, от которых до могил
тянулись нити. Пополнялась Тора
перечисленьем умерших Богов.
Мы к девяти прибавили кругов,
которые вели тропой из ада
спиралью, нежной зябью облаков.
И сладостно, как гроздья винограда,
искрились звезды.
Сон
Просыпаясь, одеваю тело,
брошенное в угол перед сном.
Хорошо, что тело уцелело
и никто другой не бродит в нем.
Сначала сочиняли Сатану
Они опять понюхивают след,
как будто в нем
проявится хоть капля
несметных дел и пережитых лет.
Я вижу, как измученная цапля
поднимет голову и высунет язык,
тот, на котором вы не говорите.
Что стык эпох, эпохи – это миг,
и сколько их застряло
в звездном сите?
Возьмешь одну —
посмотришь на Луну.
Другую – на Меркурий и Венеру.
Зачем-то сочиняли Сатану,
потом, спеша, придумывали веру.
Как долго длится эта круговерть
работ над совершённою ошибкой.
И цапли крик, взвиваясь,
словно плеть,
созвездье Псов погонит прочь
по хлипкой
тропинке ввысь,
по переливам луж
до призрачных истоков отраженья…
Тоска
Тоска нужна —
в ней постигаешь суть
времен, икон и карусель распятий.
Кого угодно можно перегнуть
в миру́, живущем
без простых понятий.
Здесь есть весы. Смешно:
добро и зло —
две чашки на носу любой скотины,
и если их не видишь – повезло.
Здесь, как в метро,
проносятся картины,
написанные Леонардо,
Гойей, Босхом…
И, словно посуху,
ступаешь по полоскам,
ведущим неприлично высоко.
Осуществляешь скучный переход
из бытия в неведомые дали,
где ждут друзья,
куда уже упали
все звезды мира,
где течет река,
пересекая пасмурное море,
в котором наше маленькое горе
приобретает светлые тона,
где в небо бьется каждая волна,
где нет границ и стен немой печали,
и пена в ослепительном оскале
играется с копытами коня.
Нездешний бред
Каждой пылинкой света,
летящей к небу,
Каждой былинкой,
каждой былиной,
каждой ракетой,
всякими шаттлами там,
всякими там челноками —
мы поигрались немножко
с богами, с веками.
Мы получили пригоршни ответов
и горы задач…
Прыгал, звеня, под рукою измученный мяч.
Как он звенел!
Сколько было в нем силы,
металла.
Как моя женщина
в пасмурном небе летала!
Как та метла устраняла
погрешности света.
Видите, милые,
сущность нездешнего бреда?!
Говори вместо меня
Говори вместо меня. Какая разница кто?
Я одеваю свитер, накидываю пальто.
Я выхожу на улицу,
и встречная пара глаз
отпрыгивает, как курица,
предчувствуя смертный час.
Кольцом потащусь по городу,
скрученному из бабла.
Душная участь совести —
капать к ногам со лба.
Как мне их страхи нравятся.
Как же я вас люблю,
бросившая красавица
в огненный круг нулю
взгляд окрыленным лезвием
мысли. Расеяв дым,
встретишь меня над безднами
нищим и молодым.
Божественное вдохновение
Бывает и у Бога вдохновение.
То Моцартом он будит страшный сон,
то Пушкина веселым дуновением
сметает пыль с нахмуренных икон.
То капельками, как свеча в бумагу,
Он открывает миру Пастернака.
То, назначая тень пустым вещам,
подмигивает, словно Мандельштам.
И сто царей пытаются ворваться
в убогий мир, любому постояльцу
всегда открытый.
Полпланеты войск – людей живых,
умерших и воскресших,
размноженных тенями от теней,
рядами строят, на колонны делят.
И всех – на бой!
Слепым царям здесь верят,
не замечая выси голубой.
Вот вы: цари, визири и солдаты,
незрячие слепцов поводыри, —
как вы, в грозу из лужи пузыри
бельмом туманным смотрят
над собою,
и лопаются. Кто вы, главари
людских страстей,
пред высью голубою?
Гефсиманский сад
Что же снилось тебе
в Гефсиманском саду?
Расскажи свои сладкие сны.
Я стоял, как нагой,
привыкая к стыду —
не нарушить бы их тишины.
Что же снилось тебе
в Гефсиманском саду,
в тот растянутый музыкой час?
Я смычком по судьбе
до конца проведу,
полежу, как луна,
в Гефсиманском пруду,
не посмев дотянуться до вас.
Что же снилось тебе?
Расскажи свои сны.
О себе я не думал совсем
и скользил, как луна,
в облаках тишины,
и пытался понять,
как не видят луны,
и о чем Гефсиманские сны.
Расскажи, что приснилось?
Мне дороги сны
под кашатановой лаской тепла.
Люди, клацая сталью,
с другой стороны
пробирались, не ведая зла.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































