Текст книги "Ось земли. Сага «Ось земли». Книга 4"
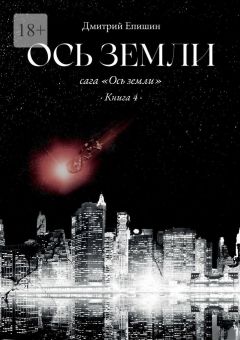
Автор книги: Дмитрий Епишин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Вы, милейший, так сказать, реалии эпохи должны осознавать. Юношу в цвете лет! Этот юноша князю Бутурлину язык отрезал и собакам скормил. Тут крутиться надо, а не то, быстро секир башка сделают. Но это к слову.
Да, странника по времени я в Вас признал, а вот кто Вы– не знаю-с. Однако, будучи человеком не самого дурного воспитания, позволю себе представиться: Порфирий Петрович Поцелуев, в свое время известнейший литературный критик. Почил в бозе в 1937 году от переизбытка хереса в организме. А Вы, почтеннейший, позволительно спросить, чьих будете?
– Александр Зенон, профессор славистики Дрезденского университета.
– Здесь какое-то недоразумение. В моих заклятых врагах числился Александр Зенон, профессор славистики Петербургского университета. Но тот имел совсем другую внешность. Правда я его еще молодым знал. И должен сказать, горько печалился над его ехидными отзывами о моих статьях.
– Думаю, что речь идет о моем родителе, только не понимаю, причем здесь ехидные отзывы.
– Что же тут непонятного? Папаша Ваш выдавал себя за ревнителя чистоты русского языка. Теперь вспомните, какое время было тогда в Петербурге, какие нравы! Декаданс! Свобода любви, свобода слова, свобода кисти и мазка. Поэты упивались этим дивным состоянием творчества: ничевоки, имажинисты и другие прочие. Конечно, и Ваш покорный слуга позволял в своих статьях некоторые вольности с родным языком, ведь надо было искать новые формы выражения смысла. И я находил их! Но меня буквально преследовал Ваш батюшка. Он просто не оставлял меня в покое. Никогда не забуду, как едко он издевался надо мной за следующий пассаж. Я отрецензировал тогда «Балаганчик» Саши Блока, который прямо скажем, был вещью мрачной и сомнительной. Сашу тогда безумно мучила его жена своими изменами, хотя, следует сказать, что ничего необычного для людей сцены она не делала. Богема, знаете ли. Саша должен был знать, куда отпускает Любовь Дмитриевну, но он был поэт с большой буквы. Тем не менее, я очень снисходительно, даже щедро отозвался о его бледно-синем «Балаганчике» и написал следующее. Процитирую на память:
«Поэт вновь продемонстрировал интуитивно-ассоциативный механизм своего могучего творческого либидо в сочленении с духовидческим апофеозом». Согласен, я несколько вольно обращаюсь с терминами, но, бесспорно, суть блоковской поэзии схвачена как железной петлей. Согласитесь!
– И что же написал по этому поводу мой родитель?
– Он позволил себе пересмешничать, что не очень красит профессора университета! Единственное, что его извиняет, так это его молодой возраст. Он был самым молодым профессором Петербурга. Так вот, ваш папаша написал следующее. Никогда не забуду:
«Поцелуев вновь продемонстрировал свой могучий ассоциативно—писсуативный механизм в сочленении с литературным анурезом»
Согласитесь, грубо и недостойно. И что это за фамилия такая поганая: Зенон! Будто футбольный клуб, я извиняюсь?
Александр Александрович вспылил:
– Как видно, для того чтобы стать литературным критиком, ничего кроме слов анурез и апофеоз знать не надо. Прав был мой родитель, что так Вас под орех отделал. А фамилию Зенон добровольно взял мой прадедушка, когда его Александр Первый в Париж помощником военного агента посылал. С русской фамилией разведкой не так сподручно было заниматься, нежели чем с такой эллинской. Взял он ее не случайно, потому что широко образованным человеком был. Так вот, существовал в Элладе философ Зенон Элейский, основавший субъективную диалектику, которая кажется парадоксальной, но до сих пор не опровергнута. Долго я вас утомлять не буду, но главное в этой диалектике то, что он доказал единство и недвижимость сущего бытия. Время по Зенону не существует, множественности нет, а движение – плод человеческого воображения. Вы, конечно, можете спорить, но то, что происходит с нами, говорит больше в его пользу.
– Да-с, согласен. С марксистской диалектикой мы бы тут с Вами с ума рехнулись. Шастаем, понимаешь, по времени туда-сюда.
– А как же Вы в странники времени попали?
– Уникальным образом, к сожалению. Но уже в другую эпоху, будучи человеком советской формации.
– Вот это необыкновенно интересно!
– Да, я искренне принял социалистическую революцию и пошел ей честно служить. Вместе с Маяковским, с Пешковым, с Леоновым. Мы были не разлей вода. В ту пору я сошелся с театральным критиком Васькой Тарарашкиным. Тот щелкал перышком вокруг Мельпомены и жил превосходно. Вы, наверное, знаете, в тридцатые годы наша Мельпомена просто фонтанировала талантливыми вещами. Правда экспериментальный театр уже уходил в тень, но классика возвращалась. Премьера за премьерой, сенсация за сенсацией. И при этом в театрах просто предавались чревоугодию и винопитию. Спросите меня: почему? Не отвечу. Возможно, традиции. А может потому, что НЭП приказал долго жить, времена настали голодноватые и у людей в такие периоды открывается тяга к пресыщению. У тех, кто может себе позволить, конечно. А в театральных буфетах водилось все, что душе захочется. В недоступных для публики, разумеется. Туда ведь руководители партии и правительства заглядывали. А быть вхожим в Мельпомену было делом обязательным. Тем более мне, чей голос звучал на литературной ниве в полную силу. Я буквально не вылезал из-за кулис от Мейерхольда и частенько принимал участие в их попойках. И вот однажды, после банкета по случаю новой постановки «Турандотки» мы с Тарарашкиным, сели на спор пить херес в буфете. Тарарашкин был питок достославный и брюхо его прозывали пожарной бочкой. Я тоже был не из слабых, как никак, в молодые годы большую школу прошел, но тут просчитался. Дело кончилось тем, что после четвертой бутылки упал я под стол. Меня отнесли в номер и, как полагается, бросили одного, а сами продолжили бражничать. Когда же Тарарашкин, добрая душа, догадался меня наведать, сердце мое уже не прослушивалось, хотя, как потом оказалось, все же потихоньку стукало. Вызвали карету скорой помощи, помчалась она с гудками в Хамовники, но на Бережковской набережной ее занесло на сырой дороге и слетела она в Москву– реку. Слетела и была такова. Розыски ни к чему не привели. Как говорится, ищут пожарные, ищет милиция…. По тем временам народ еще темный был, про дыры времени ничего не знал, а карета как раз в такую дыру и угодила. И вот, вместо того, чтобы попасть, как полагается на Страшный Суд, помчались мы всей компанией: водитель, врач и два санитара по спирали времени. Попутчиков моих быстро разбросало по сторонам и где они, я не знаю. А я сначала в царстве Елисавет Петровны плюхнулся, но потом смекнул, как с этим временем управляться и перебрался к Ивану Васильевичу. Вот и все. Уже седьмой десяток скитаюсь в этих пампасах без руля и ветрил. Ни родных, ни знакомых. Так, эпизоды истории. Да вот иногда такой гость как Вы заглянет.
– Что, и такие случаются?
– Случаются, однако, не все они приятны.
– Позволю себе вернуться месту нашего знакомства. Что там, собственно происходило?
– История достославная. Государь заподозрил, что немочь его происходит от стараний лекаря Елисея Бомелии. Мы —то давно знали, что голландец этот – волхвует над царской фамилией, да государь все не верил. Ну, наконец, поручил он Малюте за лекарем глаз держать. Тот выследил, что Елисей государю ртутный настой в яства подливал. А Елисей —то, хоть и голландец, в настоящем услужении у англичан состоял. Это мы выявили. Англичане ух как не любят нашего государя. Он ихних купцов пошлиной с ног до головы обложил и торговать с Индией не дает. Сначала волю торговать дал, а как они сюда понаехали – обложил. И поделом, кстати. Сущие псы.
Дальше все по закону. Лекаря схватили, пытали, выкрутили признание и казнили.
– Не слышал, чтобы так на Руси казнили. Вертел…
– Опричники много нового в эту науку внесли, собачьи головы. Они прежде, чем на вертел его насадить, еще и кровь из него пустили.
– Господи, страсти какие!
– Бросьте Вы, господин Зенон. Чай у нас на дворе шестнадцатый век. Польская шляхта вон малороссами дороги украшает. Знаете как?
– Как же?
– А вот нападут на взбунтовавшееся село и вдоль дороги всех бунтарей на кол сажают. Едешь и любуешься, как они там сутками умирают.
– Ужасно. Знаете, это мне напоминает Палестину конца тридцатых годов, когда англичане с еврейским терроризмом пытались бороться.
– И как же?
– Там у еврейских поселенцев специальные группы были, которые английских чиновников крали и на крестах распинали. Бывало, вдоль дороги тоже представители Империи на крестах рядком висели и в страшных муках умирали.
– А как же Его Британское Величество?
– Его Величество мог, конечно, в один момент навести порядок, только в чьих руках находятся мировые деньги? Поэтому он таких вещей не замечал, а мечтал побыстрее от мандата на Палестину отделаться.
– Да, дела. И зачем же Вы к нам прибыли?
– Да вот как раз с ядами хотел разобраться. Значит, говорите, ртуть у Елисея нашли? И зачем он это делал?
– Сам-то он ничего не придумывал. Колдун, он и есть колдун. У него заказчик должен быть. Да. И заказчиком таким был Ричард Ченселор, посланник английского короля. Вот вражина, так вражина! Этот все про русское государство понял. У них-то, у англичан уже во всю протестантизм развивался, а мы в Третий Рим стали превращаться. Вот тебе и историческая сшибка. Потому как Третий Рим для протестантов хуже отравы, хуже католиков. Третий Рим как стена на пути у лихоимства стоял, больше преград не было. Католики уже сдались, разрешили деньги в рост давать. А православный государь – ни в какую. Лихоимцы же всегда с врагами коварно поступали и резать их из-за угла не боялись. Змеиное племя. Поэтому план был простой – подсечь голову русскому православному государству, привести его к падению и поставить своего человечка. От ртути бывает бред, буйные припадки, галлюцинации. Царь становится словно буйнопомешанный и рожает слабоумное наследство. Это все призвано было подорвать народную любовь к царю, внушить народу, что царская власть отвратительна. Дальше пойдут волнения в государстве, а, там глядишь и его развал. Вот и получилось, что сам Иван Васильевич и все здоровые члены его семьи были отравлены ртутью. А в результате Смута, подставные правители. Русь едва устояла.
– И сколько лет действовал этот Елисей?
– Четверть века.
– Что ж, похоже на англичан. Теперь многое становится понятным. А Вас что здесь, с позволения сказать, держит?
– Как что? Свобода!
– Я не ослышался?
– Свобода, свобода! Что Вы на меня так уставились? Опричники – это свободные люди! Мы как птицы небесные сами себе работу ищем, сами службу сочиняем, сами Господу поклоняемся.
– А как же царь?
– А царь у нас главный монах. Не знаете, что ли как он себя кличет? Игумен земли русской!
– Неужели и вправду хорошо?
– Ну, уж если совсем в открытую говорить, то служу я из идейных соображений.
– ???
– Что Вы так на меня уставились, господин историк? Скажите мне, чем была опричнина при Иване Васильевиче?
– Это общеизвестно. Средством борьбы с боярской оппозицией. Орудием установления единовластия.
– Все точно сказано, да главного не слышно, господин хороший. Поди, боярская-то оппозиция ничем от других стран не отличалась. Хотела власти и богатства. Возьмите хоть шляхту, хоть какого-нибудь, прости Господи, герцога Оранского. Все бояре, если им волю дать, за власть борются и тем самым образуют в стране разброд и шатание. Ну, к примеру, установят они в Речи Посполитой свою шляхетскую республику и что в результате? В результате полное полоумство и перекобыльство. Значит, чуть погодя растащат эту шляхетскую республику на части более сильные соседи. А соседи какие? Империи! Габсбурги, Романовы, да и Фридрих Второй тоже успеет Силезию оттяпать. Поэтому я сегодня помогаю боярскую республику к чертовой бабушке предотвратить, а единовластие установить. Потому как на такой огромной земле, как Россия о республиканской федерации может говорить только последняя свинья. Единовластие! Вот единственно возможная форма благополучного существования нашей Отчизны!
– Это все и школьнику понятно. Только среди наших современников вопросец один имеется, о цене этого единовластия. Как свидетельствуют хроники, Иван Васильевич вельми жесток был с боярской оппозицией. Ни самих бояр, ни их семя не жалел. Море кровушки лилось. А Вы тоже, что ли кровь пускали?
– Сударь, меня кровушкой не усовестить! Кто ее на Руси не лил? Хотите поведаю, как я к крови в первый раз отношение поимел?
– Любопытно!
– Уж не знаю, что Вы сейчас скажете. Так вот, юность свою я сутенером начинал в северной столице. Да-с, сутенером. Время было бурное, конец девятнадцатого века, Россия бурлила. Промышленность дымила, деревня в город лезла, купечество богатело и так далее. Короче говоря, батюшка мой, из самых ничтожных обывателей, никаких денег на учебу дать не мог, а на бесплатный билет я своими доблестями не вытянул. Малый я был с ленцой. И прибило меня к развлекательному заведению господина Мосина, которое торчало посреди грязной Чухонской улицы, что за Финляндским вокзалом. Заведение состояло из трактира на первом этаже и нумеров на втором. Сначала меня наняли половым, а через год я уже посетителей встречал и куда надо распределял, о качествах барышень рассказывал, да и сам их добротой порою пользовался, чего уж скрывать. А потом стал девушек к постоянным клиентам на дом водить. Так вот, в номерах тоже живые люди работали. Там всякие были, но в основном из наших, из городских мещанок. Девки, конечно, конченные, пьющие, больные, а то и заразные. Эти желтые билеты – все ерунда. И вот однажды произошел такой случай.
Появилась у нас девчушка одна из деревни. Как ее занесло – не знаю. Только свежа была, словно малина и слух о ней тут же в округе прокатился. Так вот, хаживал к нам один парень молодой, путиловский рабочий. Собою видный, при копеечке. Путиловские тогда хорошо получали. Он в девушку эту влюбился и взял ее к себе на содержание. Уголок какой-то снял, то да се. А господин Мосин не хотел эту работницу терять – больно прибыльная. И подсылал меня к Манечке с мелкими подарками, а заодно справиться: что да как, не бросил ли ее жених, не пора ли назад возвращаться. Вот от этого и стал я невольным свидетелем народной трагедии. Как потом оказалось, сделалась Манечка от этого парня тяжелой и просила его о женитьбе. А что ей делать, куда с ребенком? Как по Вашему, хорош у парня выбор? Взял на содержание проститутку, влюбился в нее, а потом пришла пора жениться. На ком? На проститутке! В слободе засмеют. Прохода не дадут. Люди-то у нас добрые! Парень, видно стал сильно колебаться, но в конечном итоге решил ей отказать. А в это время дружок его, к их брачному ложу совсем непричастный, но видно душой милосердный, решил божескую милость сделать и Манечку взять. Такое на Руси бывает. Ей куда деваться? Любит она дружка или не любит, уже не главное. В общем, прибежал я с очередным подарочком от Мосина к ней на квартирку, а там только что все свершилось. Женишок с топориком встретил Манечку и дружком на выходе из квартирки, съезжали они уже, и всех порешил. Остался ли дружок в живых – не знаю. Тот ему плечо разрубил, рана большая, кровь так и хлыстала. А Маненчку обушком в висок, она сразу и готова. Лежит как живая, только в виске дыра да крови лужа возле головки. Глаза огромные, синие и улыбка ангельская на губах. Видно, хотела убийце доброе слово сказать.
– А сам с собой ничего не уделал?
– Нет-с. Ничего. Как бы ножичком перочинным себя в сердце пырнул, да что-то промахнулся. Я одним из первых свидетелей был. Ох, тошнехонько мне тогда было. Рвало-крутило, навыворот выворотило от этой картины. Едва разум не потерял. Потом народ сбежался.
– И что Вы этой сценой хотели рассказать?
– А то, сударь, что было мне всего восемнадцать лет и глянул я на жизнь и смерть в обнаженном их виде и понял, что жизнь могуча, а смерть еще могучее. Она тенью за жизнью ходит и в любой момент, легким движением может ее остановить. Поэтому ничего диковинного при дворе Ивана Васильевича я не обнаружил. Зря ему особую жестокость приписывают.
Время тогда такое было. Когда его отец умер, Иванушке всего-то три года было и насмотрелся он, как вокруг бояре друг друга душили. Любовник его матери, Елены Глинской, поганый Ванька Овчина-Телепнев-Оболенский начал с того, что сразу после смерти отца его дядьев удушил и голодом извел, да так и покатилось. Цена жизни была копеечная, а цена государству – историческая. Поэтому сильно убиваться по поводу кровопролития я давно не могу. Хотя сам ни разу себя кровью не запачкал. Я все же гость из будущего.
– Вы нигилист!
– Хотите со мною размолвиться? Не советую. Присмотритесь по началу ко всему. Может и Вы на мою точку зрения встанете.
– Нет, не встану. Я тоже кое что за свою жизнь видел и ни за что происки смерти спокойно воспринимать не стану.
– Ваше дело, господин Зенон. Только ругаться нам не с руки. Мы теперь нужны друг дружке.
– Но я сейчас вернусь в двадцать первый век, а Вы останетесь здесь.
– Это верно. Только Вы ведь теперь вечный ходок по прошлому. Поверьте мне. И никуда Вам от меня не деться, потому что я, Порфирий Поцелуев, Вас по любой жердочке проведу между Сциллой и Харибдой и все, что Вам надо, Вы с моей помощью узнаете. А без меня Вас любой Малюта прищучит. Я Вам, лучше одно дельце предложу – пальчики оближете. Если согласитесь – все про Россию и ее душу поймете.
– Это что же за дельце такое?
– А такое – пеньком притвориться, этаким непрошенным зрителем. Присутствовать время от времени незаметным образом при одной дамочке. А дамочка эта такой путь прошла, о котором и сам Достоевский не писал. Она душу чертям продала и за это власть получила. И такую картину падения собой продемонстрировала, что Фауст прямо ребенок по сравнению с ней. А ведь Родина наша – тоже женского полу. Ее тоже бывало, из крайности в крайность заносило. Или нет? Вот тут Вы для себя все главные аналогии и сыщете. Как выдающийся литературный критик вам говорю.
– И что же это за дамочка?
– А вот летите прямо в 1922 год в нижегородское управление ГПУ. Там отыщите сотрудницу Ольгу Хлунову и бывайте при ней регулярно невидимым образом аж до 1937 года. Тогда все поймете.
1922 год
Город распластался на мерзлой земле как голодный, обессиливший зверь. Улицы темны и пустынны. В редком окошке тусклый отсвет лампады. Холод, безмолвие. Город опустил к Волге голову с закрытыми веками ставней и лакал черную воду языком причала. Льдины кружились и тыкались в причал, словно потерявшие дорогу путники. Великая река уносила ледоходом остатки двадцать первого года: следы навоза, дохлых птиц, скелеты животных. Россия встречала еще одну суровую революционную весну, а в бездонной Вселенной над ней мерцали звезды, равнодушные к человеческим страстям, изменяющим жизнь, но бессильным изменить вечность.
Холодным апрельским вечером 1922 года в общежитии сотрудников нижегородской ГПУ справляли «красные крестины». Правда, новорожденной стукнул уже почти годик и праздник несколько запоздал. Маленькая Воля начало своей жизни прожила без регистрации и сегодня ей выдали справку о рождении. Она увидела свет в селе Саврасове, где жили ее бабушка и дедушка. Мать ее, Ольга, приехала рожать к родителям, потому что мужа у нее не имелось. Отец Воли, начальник окояновской уездной ЧК Антон Седов бросил Ольгу ради другой женщины, а потом и вовсе погиб при подавлении крестьянского бунта. Ольга тяжело переживала свою беду, так неудачно начавшую ее взрослую жизнь. Шел уже второй год с тех пор, как Антон покинул мир земной, а она все страдала от его измены. Образ его не уходил из ее памяти, постоянно напоминая об унижении покинутой души. Измена подняла в молодой женщине неведомые ей ранее темные силы, хотя где-то на краешке ее сознания нет-нет да и мелькала догадка, что не все так просто в этой истории, что за неправедное овладение Антоном с помощью приворота она была наказана кем-то таинственным и могучим, охраняющим мир от этой неправедности. Великое дело для молодой девушки – приворотить лучшего в уезде жениха и завладеть его любовью. Конечно, она была на седьмом небе с Антоном, но всегда ее чувство было пропитано ощущением тайного обладания им. Все шло так, как она хотела, и желанная беременность должна была вскоре увенчаться их браком. И вдруг приворотившая Антона колдунья Фелицата необъяснимо и страшно сгорает в собственной бане, а жених, словно в один день переменился и отвернулся от нее.
После случившегося Ольга почувствовала в душе холодную пустоту, в которой будто шевелились невидимые злые твари. Ей хотелось отомстить за свое несчастье всему миру, который устроен так несправедливо, в котором существует невидимая сила, управляющая ходом вещей по своим законам. В ней теплился протест против этой силы, и она не хотела думать, что страшная смерть Фелицаты стала воздаянием за ее колдовство. Это страдание изводило ее и с его приходом в ней стало увядать чувство любви к своим близким. Будто сердцем она уже не принимала участия в повседневных делах, и только голова творила свои холодные рассудочные мысли.
Иногда, по вечерам, на нее накатывали воспоминания о прошедшей любви. Начинали душить слезы, хотелось плакать навзрыд. Но она находила в себе силы сдерживать рыдания и выпускала вперед них темную злобу. Лицо ее искажалось спазмами, а пространство вокруг будто сгущалось от невидимого напряжения. Верунька, тогдашняя хозяйка домика, где квартировала Ольга, приходила в оторопь от вида своей постоялицы.
– Сильна ты, матушка, страстями, ох сильна – говорила она – не дай Бог под твой гнев попасть. И что же это тебя так бесы корежат? Чай бы уж смирилась. И суженный твой в земле лежит и ребеночек в утробе покоя просит. А ты все гневом исходишь!
Ольга понимала правоту хозяйки. Поздно уже с Антоном счеты сводить. Но ничего не могла с собой поделать. Осев у родителей в ожидании родов, она больше всего размышляла о будущем. Что делать? Оставаться в деревне не хотелось. Вокруг сплошная нужда и грязь, беспросветная, убогая жизнь. Ей, проработавшей целый год в уездной ВЧК, на хорошем пайке и в чистых условиях, было ясно одно – после рождения ребенка надо возвращаться в город. Постепенно в голове ее образовался план возвращения. Когда родилась девочка, Ольга не стала ее крестить в местной церкви, как и завещала колдунья Фелицата, а записала в подушной книге сельсовета по имени Воля. Односельчане охали и плевались: девчонка нехристь и имя у нее как у нехристя. Что за Воля такая? Местный народ отсталый, еще не знал того, что успела узнать Ольга в городе. Сегодня на революционные имена мода. А Воля – это свобода. С таким именем при советской власти жить будет легче. Она на время оставила ребенка у родителей, перетянула натуго переполненные молоком груди и поехала в Нижний Новгород. Путь ее снова лежал в ЧК, которая была ей ясна и понятна, а главное, не страшна. Поначалу Ольга думала рассказать свою историю с Седовым, выдав себя за несостоявшуюся вдову погибшего чекиста. Но потом решила, этого не делать. Кому неудачники нравятся? Поэтому, попав на прием к заместителю председателя Губчека Потапову, она опустила в своем рассказе связь с Седовым, зато толково изложила заранее выученную историю о том, что поработав в окояновской чрезвычайке, прониклась страстью борьбы с врагами советской власти. Потапов велел придти через неделю. Ему понравилась бойкая и смазливая девица, явно годившаяся для редкого ремесла женщины-оперативницы. Все при ней: и происхождение из неимущих сельских учителей, и пролетарская сознательность, и опыт работы в ЧК. Хоть и секретаршей, а тоже важно. Значит, много знает, много понимает. Он запросил Окоянов телеграфом и получил положительный ответ. Девушка характеризовалось со всех сторон хорошо. Правда, в вопросе с отцовством ее дочери высказывалось предположение, что основным виновником являлся Антон Седов, но на то и революция, чтобы крушить устои старого мира. Свободная любовь рыцарей новой жизни тоже заслуживала уважения.
В тесной комнатке Ольге стояли сдвинутые столы, накрытые газетами, на них красовался большой чугунок вареной картошки, нарезанное тонкими ломтиками сало, деревенская квашенная капуста, корзина ржаного хлеба и бутыль со спиртом. Все это было конфисковано при обысках у контрреволюционеров и спекулянтов и выдано со склада Губчека по торжественному случаю. Гости, десять чекистов, шумно разговаривали, раскрасневшись от выпитого. Виновница торжества уже сладко спала в уголке материнской койки и громкие голоса ее совсем не тревожили. Рядом с ней сидела мама Ольги, Анна Егоровна, приехавшая помочь дочери в уходе за ребенком.
Очередной тост взял начальник опергруппы Сергей Доморацкий, бывший матрос речной флотилии.
– Дорогая Оленька, любимый ты наш товарищ Хлунова! Знаешь ли ты, какое значение имеет для нас всех факт твоей работы в нашей чрезвычайной комиссии? Нет, не знаешь. Вот я прихожу на службу и думаю: сейчас увижу товарища Хлунову, и как же она меня оценит? Все ли у меня в порядке с внешним видом, какие такие советские манеры я ей продемонстрирую? Думаю я об этом, и значит, себя соответственно воспитываю. А еще больше имеет значение то, что ты у нас находишься на самом ответственном участке борьбы с внутренним врагом и многое о наших делах знаешь. И опять, для меня не просто так, что думает товарищ Хлунова о моих успехах в этом нелегком деле? Вдруг она считает что я недорабатываю? С одной стороны, на это есть начальство. Но начальство – дело служебное, а товарищ Хлунова – так сказать душевное. Перед ней тоже лицом в грязь ударять не стоит. В первую голову потому, что она у нас передовица борьбы с контрреволюцией и за короткий срок работы уже немало на этом передовом фронте сделала. Так давайте все выпьем за здоровье нашего маяка товарища Оленьки Хлуновой!
Присутствующие дружно подхватили тост и с веселым шумом выпили за здоровье хозяйки. А она смотрела, улыбаясь на гостей, и ставшая привычной манера давать каждому человеку трезвую оценку, порождала в ее голове непрерывную цепочку мыслей.
Вот Сергей Доморацкий. Веселый, добрый парень. Живет делом революции, настоящий чекист. Но в нем прячется еще один человек, совсем не похожий на этого. Был случай, когда ей пришлось увидеть того человека. В самом начале ее карьеры по наводке осведомителя чекисты схватили подпольного спекулянта крупой. Никчемный, грязный мужичонка прятал у себя в курятнике три мешка перловки и на развес менял крупу на всякие цацки. Когда Домораций вытащил из земляной дыры узел с золотыми украшениями и высыпал его перед хозяином на стол, тот упал на колени и завыл собакой. За такое ничего, кроме расстрела ждать не полагалось.
Сергей отвернулся от него и коротко бросил:
– Собирайся, пойдешь под трибунал.
Мужичонка медленно поднялся с колен, вытер рукавом лицо и, неожиданно злобно сверкнув глазами, ответил:
– Пойду, куда же денусь. Только и твоя очередь придет, душегуб!
Доморацкий медленно повернулся к арестованному. На лице его играли желваки, рука нашаривали кобуру. Сердце Ольги сжалось от крайнего напряжения. В помещении назревало что-то страшное.
– Душегуб, говоришь – произнес Сергей сдавленным голосом – душегуб! А ты подводы видел, которые по утрам мертвых беспризорников собирают? Дети от голода мрут, а ты крупу на золото, е…. твою сучью маму, сволочуга!
Он одной рукой схватил спекулянта за грудки, а другой дергал ремешок кобуры, не желавшей открываться. Мужичонка вырвался, отскочил к стене, сжался в комок, не в силах взглянуть смерти в глаза. Сергей, наконец, выхватил из кобуры револьвер и навел на задержанного. Лицо его свело судорогой, глаза остекленели. Мужичонка почуял смертный миг, по-заячьи вскрикнул: «Не надо»! но комнату уже заполнил грохот выстрелов. Пули с чавканьем входили в тщедушное тело, выбивая из него брызги. По комнате пополз запах пороховой гари и крови.
Жена мужичонки завизжала и бросилась на чекиста с горящей керосиновой лампой в руке, но тот не глядя ударил ее ногой в пах и она рухнула на пол.
Ольга была заворожена происходящим. Сначала ее охватило состояние жуткого страха, но потом к нему добавилось острое возбуждение, распирающее сердце и наполняющее тело пьянящим состоянием неизведанного доселе восторга. Потом, возвращаясь к этому состоянию, она вспоминала ночь, когда они с колдуньей Фелицатой привораживали Антона. Что-то похожее владело ей при звуках заклинаний. Такая же радость от возможности управлять невидимой частью мира, нарушать законы, которым следуют все. И ведь получилось! Антон стал ее добычей. Конечно, тогда эта мысль не приходила ей в голову. Она была влюбленной девушкой, познавшей огонь настоящего чувства. Но потом, когда все кончилось, эта мысль обнажилась: да, она завоевала Антона с помощью колдовства и нисколько об этом не пожалела. Есть в этом тайном мире огромное наслаждение невидимой властью. Жаль, что колдунья погибла, обязательно Ольга пришла бы к ней за наукой.
После расстрела спекулянта Ольга поняла, что твари, поселившиеся в ее душе в момент колдовства, хотят этого необычного торжества и не оставят ее в покое. Ей уже хотелось перешагивать через заповеди и правила, охраняющие сложившийся порядок и получать от этого тайное наслаждение.
И совсем непонятно ей было поведение Доморацкого, который после операции повел себя странно. Вернувшись в управление, он закрылся в своем кабинете и никого не впускал. Ольга испытывала беспокойство: что там происходит? Она дождалась позднего вечернего часа, когда большинство сотрудников разошлось по домам, и тихо постучала в дверь Сергея. После длительной паузы ключ изнутри повернулся и в проеме появился ее начальник. Он был сильно пьян. За его спиной, на письменном столе виднелась недопитая бутыль самогона. Доморацкий посмотрел на Ольгу мутным взглядом и едва пошевелил рукой, показывая на стул:
– Садись. Что пришла?
– Страшно стало. Вы закрылись, не появляетесь. Случилось что?
Сергей грузно сел на свой стул и заговорил медленно, едва ворочая языком
– На днях батя ко мне приезжал. Из Кстова. Жестянщик. Ночевал. Думаешь, что говорил?
– Нет, Сергей Михайлович, не догадаюсь.
– Лучше бы не догадалась. Говорил, его в поселке боятся. Говорят, сын в чрезвычайке душегубом работает. Приедет, любого к стенке поставит. Слышишь, душегубом! И этот, которого сегодня стрельнули, тоже говорил: душегуб. Неужели мне легко стрелять в него было? Ведь вся душа переворачивается, такой крик стоит внутри, а я стреляю! Потому что надо! Я врагов революции караю, а родной отец говорит: душегуб. Родной поселок говорит: душегуб. Враги говорят: душегуб. Я душегуб?!









































