Текст книги "Заговор Ван Гога"
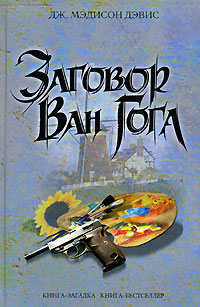
Автор книги: Дж. Дэвис
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Глава 4
ЧЕРДАК
– Все в порядке? – спросил Хенсон, глядя сверху вниз и пытаясь понять, что же так расстроило Эсфирь.
Девушка быстро спрятала листок в кармане.
– Мы в тупике, – резко ответила она. – Что вы вообще собираетесь тут найти?
Хенсон опять одарил ее долгим взглядом, словно раздумывая, стоит ли спросить насчет конверта и письма. Когда же он решился-таки заговорить, то слова прозвучали осторожно.
– Кто знает, – начал он. – Ведь тип по имени Шток искал нечто эдакое…
Он присел на корточки рядом и коснулся тыльной стороны ее кисти.
– Послушайте, если вам трудно…
Она отдернула руку и вскочила на ноги.
– Это мой отец! Родной отец! Я тут стою, как дура, смотрю на всю эту ерунду, всякую мелочь из его жизни – и не вижу ничего! Ничего! Кем он был? Кем?!
Она выхватила письмо из кармана и швырнула ему в лицо. Внезапно в ее груди словно образовался огромный пузырь рыданий, который все ширился и рос, пока наконец не прорвался сквозь перехваченное горло, пролившись слезами. Она закрыла лицо руками и бросилась в коридор. Хенсон двинулся было за ней, но стоило ему положить ладонь ей на плечо, как девушка принялась отбиваться. Хенсон бросил беспомощный взгляд на валявшееся на полу письмо, затем отступил на шаг.
– Не сердитесь. Мы еще все выясним. Никто же не уверен на сто процентов, что он был Мейербером.
– Ой, да хватит! – крикнула она. – Вы же сами так думаете! Вы просто ищете доказательства!
Хенсон не нашелся что ответить.
Эсфирь ухватилась за перила лестницы и взяла себя в руки. Раны разыгрались не на шутку. Впрочем, она была только рада этому: боль не давала все время думать про отца.
– Может, вам лучше подождать на улице? – предложил Хенсон.
– Осталась еще одна комната, – мрачно ответила Эсфирь и пошла по коридору.
Хенсон проследил за ней взглядом. Вторая спальня оказалась столь же пыльной, как и подвал. Стены не знали свежей краски уже много лет. В низенькой тумбочке белого цвета не оказалось ничего, кроме мотка проволоки. У двери валялась перевернутая картонная коробка, служившая, видимо, местом хранения одежды, ворох которой лежал рядом. В углу под толстым слоем пыли находилась еще одна большая коробка, и когда Эсфирь приподняла ее, то сначала подумала, что нашла какую-то деревянную клетку. Сообразив через секунду, что на нее смотрит миниатюрная кроватка, девушке стало ясно, чем была эта комнатушка. Это ее детская. Несмотря на то что Эсфирь прожила здесь менее года, Мейер все равно три с лишним десятилетия хранил у себя ее младенческую мебель. Если бы не слезы несколькими минутами раньше, сейчас она бы уж точно разрыдалась. Но теперь внутри все словно онемело. Эсфирь взглянула на заляпанный потолок, пустую тумбочку и распахнутый стенной шкаф, совершенно пустой, если не считать пару-другую проволочных вешалок. Неужели это действительно была ее комната? И если да, то разве не должна она хоть что-то припомнить, пусть даже самую малость?
«Все, что ты можешь, это только причинить ей боль».
– Подвижки есть? – В дверном проеме появился Хенсон.
Она покачала головой.
– Остается только чердак. Я и сам мог бы справиться…
– Нет уж, – сказала она. – Я тоже пойду.
Хенсон распахнул низенькую дверцу, и глазам предстала узкая, крутая лестница из деревянных ступенек. Он повернул старомодный, еще бакелитовый выключатель, и над ними загорелась желтоватая лампочка. Светлый оттенок дерева напомнил девушке древние лестницы Иерусалима, что еще остались в Старом городе.
Голые балки на чердаке создавали впечатление, будто они попали в чрево какого-то зверя. Грубо обтесанные доски устилали только часть пола. Дальше между стропилами зияли пустоты, прикрытые потолочной дранкой расположенных ниже комнат.
– Коробки какие-то, – заметил Хенсон. Их оказалось только три, все открыты и перевернуты.
– Сплошная пыль, – сказала Эсфирь, разглядывая паутину на решетке слухового окна, приходившегося на уровне бровей. – Должно быть, он редко сюда поднимался.
Хенсон тем временем едва не раздавил какой-то тазик.
– Э-э, да у него крыша течет, – сказал он, щуря глаза на древний и, конечно, неработающий светильник, подвешенный к кровельному скату.
Провода, изолированные матерчатой оплеткой и удерживаемые на месте керамическими бобышками, шли по стропилам через весь чердак.
– Не вздумайте трогать, – предупредила Эсфирь.
– Да ну, их сто лет как отключили, – сказал Хенсон и в доказательство ткнул пальцем влево. Там, свисая с одной из жил, покачивался закрытый зонтик.
– Ничего я здесь не вижу, – продолжил он, дойдя до последней половицы и осторожно переступив на не-обшитые балки, ведущие к слуховому окну. – Ого, у него тут летучие мыши жили…
Эсфирь присела на корточки, желая покопаться в ворохе вещей, вываленных из опрокинутой коробки. Так, несколько простеньких женских платьев. Она подтащила другой ящик поближе к свету и обнаружила в нем десятки магнитофонных бобин. На коробочках написаны чьи-то имена.
– Когда-нибудь слышали такое имя, Рейнхард? – спросила она.
Хенсон остановился, пожал плечами и, выпрямившись, ударился головой о кровлю.
– Тьфу ты, черт!
– Поосторожней там, – посоветовала она. – Как насчет Биксби… нет, Бикс Бейдербек?
– Немцы? – спросил Хенсон. – Чьи-то записи, наверное. Вы видели внизу магнитофон?
– Да нет, только радио на кухне и телевизор в гостиной.
– Что ж, придется взять с собой.
Он повернулся к девушке, все еще потирая ушибленный лоб. Затем, неуклюже переступая по узенькой балке, пошел назад из темноты.
– Текс Бенек, – прочитала вслух Эсфирь. – Джимми Лансфорд. Это что за немцы с такими именами, Текс и Джимми?
– А! – сообразил Хенсон. – Это же ребята из «Биг Бенда»! Джанго Рейнхард. Еще мой отец… – Тут он едва не оступился, но, отчаянно взмахнув руками, сумел-таки остаться на ногах.
Затем, дотянувшись до электропроводки, снял с нее висевший зонтик, чтобы с его помощью удерживать равновесие, как акробат на проволоке.
Только девушка хотела заметить, что ему повезло не получить удар током, как Хенсон перепрыгнул на доски настила и приветственно помахал зонтиком.
– Что такое? – тут же сказал он недоуменно и заторопился поближе к свету.
Теперь Эсфирь тоже могла видеть, что его так заинтриговало. Внутри, вокруг стержня была обмотана какая-то коричневая бумага. Хенсон отогнул кусочек и увидел под ним еще какую-то бумагу, на этот раз очень толстую. Хотя нет, это холстина, плотная и жесткая.
– Ага! – воскликнул он и принялся торопливо вытаскивать находку. Мешала зонтичная ручка. Промучившись полминуты, Хенсон наконец отломил ее, а затем вытряхнул рулон на пол.
– Что это? – спросила Эсфирь.
Хенсон упал на колени, с наслаждением подтянул рукава повыше и принялся не спеша разворачивать холст. Глазам предстала характерная масляная поверхность, рыжевато-желтые пряди… Мужской портрет?
Когда рулон оказался развернут полностью, Хенсон плюхнулся задом на пол.
– Чтоб мне провалиться, – тихо сказал он. – Нет, чтоб мне провалиться…
– Картина? – спросила Эсфирь. – Это картина, да?
– Если я не ослеп окончательно, – раздалось в ответ, – это Ван Гог…
Девушка прекрасно разобрала слова, но, убей бог, не могла взять в толк, что бы это значило.
Она еще подыскивала правильный вопрос, который помог бы выяснить смысл происходящего, как внизу раздался сильный хлопок, а вслед за ним ухнул раскатистый гром. Весь чердак словно приподняло дюйма на два и тут же бросило вниз, как самолет в воздушную яму. Из-под ног неожиданно выбило пол. Хенсон опрокинулся на спину и замахал конечностями, напоминая перевернутого жука. Эсфирь же швырнуло ничком, она ловко приземлилась на руки и сразу подумала про рану на голове.
– Что за шутки! – воскликнул Хенсон.
Эсфирь же отлично разобралась в характере взрыва:
– Какой идиот открыл газ?!
Хенсон лихорадочно вскарабкался на ноги и ошарашенно уставился на пол.
– Пошли! – скомандовал он мигом позже. Сбежав по лестнице до половины, он вдруг словно споткнулся. – Картина!
Эсфирь заторопилась назад и схватила холст. В воздухе уже явственно попахивало дымом.
Хенсон осторожно приоткрыл дверь с чердачной лестницы. С первого этажа валили огненные клубы. Опаляя лицо немыслимым жаром, навстречу полицейскому метнулось ревущее пламя, облизывая своим желтым языком коридорные стены. Хенсон едва успел захлопнуть дверь.
Чертыхнувшись, он крикнул:
– Отрезаны! Лестнице каюк!
Долю секунды они смотрели друг на друга. Огонь идет вверх. Он всегда идет вверх.
– Крыша! – выдохнула она. – На крышу есть люк?
– Окно!
Спотыкаясь, они бросились обратно. Из щелей между досками выбивались кудрявые завитки дыма. Хенсон в два прыжка добрался до края настила и, балансируя на манер канатоходца, побежал по балкам до слухового окна.
– Тут решетка! И я не вижу карниза! Может, отвесная стена до самой земли!
– Предпочитаете сгореть?
Хенсон выхватил мобильник и набрал 911, по ходу дела разглядывая крепившие решетку болты.
– Да! – заорал он в трубку. – Пожар! Мы на чердаке!
Озираясь по сторонам, Хенсон пытался найти хоть что-то, чем смог бы справиться с решеткой или болтами. Увлекшись поисками, он едва не свалился с деревянного бруса.
– Не зна… – Он в отчаянии оглянулся на Эсфирь. – Адрес!
Девушка тупо уставилась на него. Она не помнила адреса. Как там говорил отец? «Скажи таксисту…»
– Да не знаю я! – кричал Хенсон. – Напротив стадиона! Да, «Ригли-Филд»! А я-то откуда знаю, Аддисон-стрит или что! Владелец дома – Сэмюель Мейер. Я говорю, Мейер! Да! Нет! Мы заперты на чердаке!
Здесь он потерял-таки равновесие и одной ногой ступил на потолочную дранку.
– Осторожно! – воскликнула Эсфирь. – Вы же провалитесь!
– Давайте быстрее!
Сунув мобильник в карман, он обернулся к ней. На лице явственно читалась мысль: «Спасайся, кто может…»
Девушка тем временем копалась в памяти. Добравшись в тот первый раз из аэропорта, она так переживала, что почти не обратила внимания, как выглядит дом снаружи. Кажется, крыша не очень крутая, напоминает мансарду. Можно ли на нее вскарабкаться? А нет ли там каких-то украшений, чтобы за них уцепиться?
– Решетка! Стальная решетка! Против грабителей! – сообразила она. – Значит, на крышу есть какой-то доступ извне!
Эсфирь шагнула к лестнице и увидела, что внизу, на двери, уже коробится и идет пузырями краска. Ничего себе пожарчик! С момента взрыва прошла едва ли минута!
Хенсон тем временем сражался с одним болтом решетки, пытаясь отвернуть его голой рукой, потом вцепился в него зубами.
– Инструменты! Хоть что-нибудь! – промычал он.
Девушка прыжками носилась из одного угла чердака в другой, отчаянно вороша барахло, вываленное из перевернутых коробок. Платья? Бобины с лентами? Картина? Неужели нет ничего прочного, жесткого? Она упала на колени и попробовала отодрать одну из половиц. От потолочной дранки явно тянуло теплом. Воздух помутнел и превратился в туман. Она дернула из последних сил, и доска наконец уступила.
Довольно короткая, фута три в длину.
Бесполезно!
Эсфирь взглянула на Хенсона, и тут ей в голову пришла совершенно посторонняя мысль: «Кто теперь будет навещать мою мать?»
Придя в себя через секунду, она увидела, что Хенсон успел локтем разбить стекло и теперь орал через решетку на улицу:
– На помощь! Пожар! Нас отрезало!
– Бей! – закричала Эсфирь. – Ногами бей!
Хенсон ухватился за балку и, откачнувшись в прыжке, обеими ногами врезал по решетке. Такое впечатление, что перед ним кирпичная стена. Он попытался еще, на этот раз гораздо сильнее. Решетка не сдвинулась, но…
– Рама! – крикнул он. – Кажется, рама треснула!
Эсфирь подумала было, что это, скорее, его лодыжка треснула, а не рама, однако, судя по свирепым усилиям Хенсона, что-то действительно начало поддаваться. Глаза сильно жгло, и непрерывно катились слезы. Старенькая дранка под ногами дымилась уже по всей площади. Еще немного – и пол займется пламенем.
– Назад! – крикнула она, махнув рукой.
Хенсон ударил еще раз, но решетка упорно держалась. Он обернул к девушке посеревшее, перемазанное пылью и мокрое от пота лицо.
– Назад, я сказала!
Он отскочил в сторону и ухватился за подпирающий кровлю брус.
Выпрямившись на краю настила, Эсфирь смотрела на балку, проложенную прямо к слуховому окну. Соберись с силами. Второго шанса не будет. Надо настроиться, представить в уме. Нет-нет, надо поверить и увидеть, как это произойдет. И тогда – может быть – все получится. Дом старый, значит, балка шире, чем принято нынче. Да нет же, сказала она себе. Она широченная, как дорога. Целых два дюйма!
Уверенность! Только уверенность, внушала она себе. Глубоко вдохни. Это всего лишь обычный гимнастический брус. Ерунда.
Она настроилась. Стряхнула напряжение из кистей рук.
И ринулась вперед.
Прыжок. Второй. Третий! Как по струнке, резиновые подошвы кроссовок четко и сочно ложатся на брус. На четвертом прыжке ее толчковая нога распрямляется стальной пружиной и бросает девушку в воздух. Ягодицы напряжены, бедро разворачивается на боковой удар влет, чтобы вложить в мишень всю инерцию тела, всю силу ее мышц.
Она настолько переполнена адреналином, что даже не чувствует удара о решетку. Слышен резкий звук, будто от выстрела. Переломилась берцовая кость? Нет, это сдалось препятствие. Обе ноги вылетают на улицу через окно и на долю секунды возникает ощущение падения. Отчаянно взмахнув руками, девушка едва-едва успевает вцепиться в раму.
Ребра с размаху ударяются о нижнюю часть оконного переплета, и из легких с шумом выбивает воздух. Ноги лихорадочно царапают кровлю. Не на что опереться, не получается встать…
– Эсфирь! – кричит Хенсон.
Трещит и выворачивается рама, за которую она держится.
Хенсон прыгает к девушке. Непонятно как изловчившись, та подтягивается и обеими руками хватается за кровельный брус. Кроссовки елозят и беспомощно скользят по отвесно уложенной черепице. Вися над пышущей жаром потолочной дранкой, она самой себе напоминает козленка на вертеле.
Циркулем расставив ноги на соседних балках, Хенсон тянет девушку на себя. Он кричит:
– Выбила! Выбила!
– Да уж, сама чуть не вылетела, – слышится в ответ.
Не сломаны ли ребра? Решив проверить на ощупь, Эсфирь опускает руку, но Хенсон в этот момент дергает ее за подмышки и глазам предстает переломленная пополам нижняя часть оконной рамы. Крепежные болты вывернуты с мясом, и решетку снесло, она упала вниз на дорогу. Почувствовав острую боль, девушка прикоснулась к груди и увидела, как из надорванных стежков раны сочится кровь.
– Туда! – закричал Хенсон. – Туда, наружу!
– Там ногу поставить негде, – отозвалась она, по плечи высунувшись на улицу и ловя прохладу лицом. На улице перед домом масса всяческого мусора: осколки оконных стекол, бумага, крошечная менора, найденные в гостиной журналы… Все вынесло взрывом. Рядом толпятся люди, показывают пальцами на крышу. С каждой секундой звук сирен становится громче и ближе.
Из-под чердачного окна крутым козырьком уходит кровля. Примерно в метре от того места, где минуту назад торчали ее ноги, виден безвкусный орнаментальный бортик из литого чугуна. Удержит ли он? Выхода нет, это их последняя надежда…
Чтобы вылезти из окна ногами вперед, Эсфирь пришлось сначала втянуть голову обратно в жаркий воздух. Придерживаясь за поломанную раму, она осторожно выбралась и, вытянув кончики пальцев ног, приготовилась скользнуть вниз, чтобы встать на краешек кровли. Хенсон же почему-то направился в глубь чердака, балансируя на балках среди клубов дыма.
– Мартин! Какого черта!
Она уже была готова лезть обратно, как он вынырнул из темного облака и, прикрывая галстуком рот и нос, неуверенными шагами двинулся к ней, помахивая при этом свернутым холстом, напоминавшим тамбурмажорский жезл.
«Нет, это же надо», – подумала она.
– Брось его к черту! Брось, говорю!
Хенсон торопился изо всех сил. Вдруг его ботинок соскользнул с бруса и ударил в потолочную дранку. Он дернулся вперед, чтобы не провалиться глубже, и тут из-под ноги вырвался язык пламени.
– Беги! – крикнул он.
Девушка разжала пальцы и соскользнула на неровно уложенную черепицу. Оказавшись на карнизе, она глубоко вздохнула, затем бочком, приставными шажками, двинулась вдоль кромки. В лицо пахнуло жаром от раскаленной изнутри кровли. Воздух, похоже, исчез совсем, и ей на секунду показалось, что она вот-вот потеряет сознание.
Из окна выглянуло лоснящееся от сажи и копоти лицо Хенсона. Вперед себя он высунул рулон с холстом и осторожно бросил его к ногам Эсфири, рядом с бортиком. Затем, ухватившись за балку и перебирая по ней руками на манер ленивца, вылез наружу ногами вперед.
– Я вижу, куда идти! – крикнул он. – Вон там!
Крыша слишком сильно нагрелась, чтобы за нее можно было держаться руками. Огонь приближался с каждой секундой, но, по крайней мере, они уже снаружи.
Сейчас задача вроде бы упростилась. Эсфирь пришлось присесть, чтобы пролезть под выступавшим козырьком и добраться до того места, где Мартин заметил опору для руки – кронштейн, удерживавший старую телевизионную антенну. В принципе, по ней они могли бы забраться на крышу мансарды. Возле ног лежала картина. Девушка взглянула вниз, на асфальт, затем подняла холст и протянула его Хенсону. Торопливо перебирая руками, они поднялись до верхней точки, а оттуда добрались и до противоположной стороны крыши. От соседнего дома их теперь отделяла невысокая кирпичная стенка, через которую они благополучно перелезли. Совсем рядом завывала полицейская сирена, к которой примешивался низкий гул пожарной машины. Стоя возле готовой выдвинуться лестницы, в их сторону показывал коренастый, плотно сбитый пожарный. Служба «911» среагировала быстро, однако не настолько, чтобы вовремя успеть к такому невероятно стремительному пожару.
Лишь после того, как они по крышам ушли еще дальше и там спустились через чердачный люк, Эсфирь позволила себе расслабиться и упасть на разбитые в кровь колени. Ноги казались резиновыми, а кроссовки словно принадлежали другому человеку. За миг до того, как потерять сознание, она заметила, что во время бега по раскаленной черепице дома Мейера подошвы уже начали оплавляться.
Глава 5
СЧАСТЛИВОЕ СОВПАДЕНИЕ
– Но ты считаешь, это подлинник? – упрямился Хенсон, отставляя чашку.
Дело происходило в Чикагском институте искусства, где Антуан Жолие, приглашенный искусствовед, осматривал картину, вооружившись лупой. Жолие был худощав, носил желтый костюм с голубым галстуком-бабочкой, а смуглый оттенок кожи напоминал о его африканских предках. Не вдаваясь в подробности, Хенсон бегло представил его Эсфири как человека, с которым он много работал в прошлом, и девушка шестым чувством поняла, что с дальнейшими расспросами лезть не стоит. Если картина, найденная на чердаке Мейера, действительно окажется работой Ван Гога, Хенсон хотел бы передать ее на временное хранение в Институт искусства, под надежную охрану.
– Мартин, – сказал Антуан, жестикулируя как истинный француз, – если бы ты дал мне Делакруа, или Тернера, или хотя бы Констебла, то я смог бы ответить немедленно. Но Ван Гог! Скажем так, для моей компетенции в нем слишком много модернизма.
Он кинул взгляд в сторону Эсфири, сидевшей у окна и наблюдавшей за потоком машин на улице.
– Да, но ты же эксперт! Дай хотя бы обоснованное предположение.
Антуан отпил чаю и пригладил усики тыльной стороной своей изящной, чуть ли не женской, ладони.
– Должен признаться, она мне действительно напоминает Ван Гога. Стиль. Холст и краска выглядят достаточно старыми. Если это и репродукция, то по меньшей мере очень дорогостоящая. Впрочем, такие вещи встречаются. Имеются также специальные тесты, которые могут дать более точный ответ. К примеру, химический состав пигментов. Характер плетения тканевой основы. И потом, есть такое понятие, как происхождение. Нет ли хоть какого-нибудь упоминания об этой картине до ее обнаружения? Каким образом она оказалась в Чикаго? Не часто, знаете ли, встречаются чердаки, где в зонтиках спрятаны полотна Ван Гога!
– На данный счет у чикагской полиции имеется свое твердое мнение, – сказал Хенсон. – Эта картина проходит вещественным доказательством по делу об убийстве, хотя их эксперты не нашли ничего стоящего по отпечаткам пальцев. Ну, взяли еще пробы растительных волокон, но на этом все. Если на то пошло, в доме – я имею в виду до пожара – они вообще не нашли чужих отпечатков. В смысле, кроме принадлежавших Мейеру и Эсфири. Если же картина не подлинная, то у них есть и другие методы снятия отпечатков, но краска при этом будет повреждена.
– И все же они разрешили привезти полотно сюда?
– В общем, да. После небольшой стычки насчет федеральной юрисдикции и всякого такого прочего.
– Небольшой стычки?! – возмутилась Эсфирь. – Дай им волю, они бы резиновые шланги пустили в ход! Чуть ли не обвинили меня в том, что это я подложила зажигательную бомбу. То есть, пока мне раны зашивали в госпитале!
– Блеф, не бери в голову. Просто хотели добиться от тебя более правдоподобного объяснения. С их точки зрения, конечно, – сказал Хенсон.
– Вот я им и объяснила, – устало ответила она. – Дескать, другого объяснения не дождетесь.
– Нам повезло, что во время взрыва мы были не на кухне, – обратился Хенсон к Жолие. – Осмотреть-то ее мы осмотрели, но устройство было поставлено грамотно. Прямо за кухонной плитой, чтобы подорвать газовую трубу. Представляешь, плита даже частично оплавилась! Сейчас ведут анализ выброшенных на улицу обломков, чтобы установить химсостав заряда.
– Может, он намеревался устранить любого, кто бы стал обыскивать дом? – предположила Эсфирь.
– Может, и так. Или просто хотел его разрушить. Способ подрыва лаборатория еще установит. Тогда мы, наверное, поймем его мотивы.
Жолие показал на картину.
– Кому взбредет в голову ее уничтожать?
– Мы же не знаем, что они планировали конкретно, – возразил Хенсон.
– Должно быть, на меня охотились, – съязвила Эсфирь.
– Или в доме было еще что-то. Теперь только пепел остался, – сказал Хенсон. – Пожарные говорят, такого жаркого пламени они уже много лет не видели. Очень профессиональная работа.
Жолие продолжал разглядывать картину:
– Если предположения верны и это настоящий Ван Гог, то я не понимаю, зачем сжигать такую вещь.
– А кто говорит, что они точно знали, что картина в доме?
– Словом, вы не можете решить, подлинник это или нет? – сказала Эсфирь, следуя ходу собственных мыслей.
«Откуда у отца такая картина? Это ее он хотел мне отдать? »
– Если даже и не Ван Гог, – ответил Жолие, – то подделка на редкость качественная. И на данный момент, мисс Горен, большего я сказать не в состоянии.
Он поставил чашку и, церемонно вышагивая длинными ногами, через всю комнату направился к широкому чертежному столу, где было развернуто загадочное полотно. По углам его прижимали толстые книги по искусствоведению, причем одна из них принадлежала перу самого Жолие. Если перевести с французского, то заглавие гласило: «Дж. М. У. Тернер и поэзия бури».
– А если Ван Гог, то ее стоимость… О-ля-ля! – Он вскинул руки, напоминая иллюзиониста, выпускающего голубей из рукавов.
– На аукционе работы Ван Гога выставляются по цене в несколько десятков миллионов, – сказал Хенсон.
– Это возмутительно, даже непристойно. Никакой связи с подлинным искусством, эти ваши аукционы. Но ранее неизвестное полотно… Тут, конечно, да.
– Десятки миллионов? – переспросила Эсфирь. – Долларов?
– Естественно! – хором выпалили мужчины.
– В тысяча девятьсот девяносто восьмом году, – начал объяснять Жолие, – автопортрет Ван Гога продали за семьдесят один с половиной миллионов долларов. Новый аукционный рекорд был поставлен в девяностом. Портрет лечащего врача Ван Гога, доктора Гаше: восемьдесят два с половиной миллиона. В мае девяносто девятого одно из полотен ушло за девятнадцать миллионов восемьсот тысяч, причем этот торг сочли крупным разочарованием.
Сейчас Эсфирь вспомнила, что да, действительно, в газетах что-то такое писали про ценовые рекорды, в то время она не обратила на это внимания.
– Если картина подлинная, – добавил Жолие, – то я готов благодарить бога, что вы ее спасли.
Девушка взглянула на полотно и попыталась понять, отчего оно стоит таких денег. Подсолнухи, ирисы и автопортреты Ван Гога мелькали повсюду – на плакатах, постельном белье, китчевых поделках… Но ведь все эти картины не так уж и стары, к тому же в них нет ни золота, ни изумрудов.
– Я что-то в толк не возьму… Даже если бы вот эта картина была одной-единственной, которую написал Ван Гог, разве она и тогда бы стоила так дорого? Ведь это просто живопись.
Жолие усмехнулся, но без какого-либо намека на снисходительность.
– Необъяснимо, правда? Великое искусство – оно и есть великое, причем отнюдь не потому, что уходит за большие деньги на торгах. В противном случае нефтяные вышки и торговые центры стали бы нашими величайшими произведениями искусства. Не деньги возвышают Ван Гога, и его величие нельзя выразить огромными ценами. Вообще говоря, деньги мешают видеть подлинное достоинство искусства.
– Да, но восемьдесят два миллиона?! – воскликнула Эсфирь.
– Именно, – сказал Жолие. – Скажем, вы познакомились с мужчиной. Он красив, прекрасно воспитан, обладает утонченными манерами… Словом, вроде бы неплохая партия для будущего брака. Это с одной стороны. Но если потом вы узнаете, что он к тому же владеет алмазными копями, то здесь к вашему восприятию его подлинной человеческой сути подмешивается кое-что еще. Деньги влияют на страсть. В одну секунду он покажется вам еще более привлекательным, а еще через секунду, возможно, придет пугающая мысль, что вас покупают. Исчезновение Ван Гога стало бы большим горем, потерей для всей нашей культуры, что далеко не связано с ценами на него. Деньги не есть мерило истинной ценности, хотя до окончательного вывода о подлинности этой картины может уйти масса времени. Эксперты, знаете ли, сильно нервничают, когда речь заходит о таких суммах. А то, бывает, на них и в суд подают. Есть шансы, что они наотрез откажутся давать стопроцентную гарантию.
«Деньги не есть мерило истинной ценности». Эсфирь с готовностью приняла такое утверждение и тут же спросила себя: почему? Разве оно не напоминает избитую истину?
– Послушайте, – наконец решилась она. – Я мало что понимаю в изящном искусстве, но это ведь скорее философский вопрос, верно? Что делает Ван Гога более важным, чем… ну, я не знаю… чем картина, нарисованная, скажем, дядей Мартина?
– Вот именно, – вмешался Хенсон, пряча улыбку. – Если на то пошло, дядюшка Ларе в самом деле увлекся живописью незадолго до смерти.
– Предполагая, конечно, что он был примерно на том же уровне, что и Ван Гог, – уточнила девушка.
Жолие задумчиво вытянул губы трубочкой.
– Н-да, мисс Горен, вы умеете докапываться до сути. Однозначного ответа нет. Во-первых, Ван Гог обладает исторической значимостью. Время от времени появляется мастер, меняющий путь, по которому развивается искусство. Ван Гог, можно сказать, развязал руки художникам. Им вдруг открылось то направление, в русле которого пойдет эволюция живописи. Они больше не занимались перепевами старых, уже проработанных тем, а, напротив, создавали новые.
– То есть Ван Гог – это все равно что Элвис, Боб Дилан или «Битлз»?
– Ну… – Жолие немного помялся, – в определенном смысле, пожалуй, да. Никто не способен заниматься после Ван Гога искусством, не ощущая его влияния. Работать можно и в его направлении или наперекор ему, но главное здесь, что Ван Гога уже нельзя игнорировать.
– Как в науке после Ньютона или Эйнштейна, – подхватил Хенсон.
– Думаю, найти можно много параллелей, – сказал Жолие:– Несомненно одно: этот глубоко неуравновешенный, а в конечном итоге и умалишенный голландец изменил живопись. Причем за очень короткое время. Он терпел неудачу во всем. Например, пытался стать проповедником. Слышали об этом? Потом занялся живописью, и, хотя его работы были любопытны, сам стиль походил на такой тупой и невнятный реализм, что говорил скорее об отсутствии техники, нежели об изобретении нового направления.
– Как у моего дядюшки Ларса.
– Наверное, Ван Гог все-таки был получше, – ответил Жолие с коротким смешком. – Но потом он переехал на юг Франции, где с ним под одной крышей поселился Поль Гоген. И внезапно цвет будто взорвался на его полотнах. В ту пору как раз стали много выпускать ярко-желтого пигмента в тюбиках, так что он смог выразить, что у него на душе. Вся его карьера продлилась едва ли с десяток лет. Живописью-то он стал заниматься в тысяча восемьсот восьмидесятом, хотя пик гениальности пришелся на период с тысяча восемьсот восемьдесят восьмого по девяностый, когда он покончил с собой. Никто и никогда столь радикально не менял путь искусства за такое короткое время.
– Мне кажется, все те истории про отрезанное ухо отнюдь не навредили ценам, – заметил Хенсон.
– Романтика ярко вспыхнувшего и тут же сгоревшего метеора, – сказал Жолие. – Его душевная болезнь была жестокой, спору нет, но вот его письма открывают перед нами человека, крайне внимательного и чувствительного к своему искусству. Он был гораздо большим интеллектуалом, нежели об этом принято думать. Толпа вообще считает его за дикого, необузданного лунатика. А он, знаете ли, очень много читал, да-да. И владел несколькими иностранными языками, даже греческим занимался.
В глазах Эсфири разговор слишком далеко ушел от злободневной темы.
– А где Сэмюель Мейер смог ее достать? – вмешалась она.
Жолие беспомощно развел руками.
– А знал ли он про нее? Возможно, он и понятия не имел о ее ценности. Такие вещи случаются, и нередко. Вы же сами смотрите всякие телешоу, про то, как чье-то бабушкино блюдце на поверку оказывается керамикой династии Мин.
Хенсон взглянул на картину.
– Держу пари, он отлично знал, что к чему. Да и как может быть иначе?
Тут он запнулся и, подумав пару секунд, обернулся к Жолие.
– Антуан, ты вот сказал – «ранее неизвестное полотно»… В каком смысле «ранее неизвестное»?
– Э-э… я не эксперт по Ван Гогу, но объем его творчества весьма мал и, мне кажется, я сумел бы узнать любой из его известных автопортретов. Особенно из числа широко репродуцируемых. Людям нравится его «Звездная ночь» или «Подсолнухи», поэтому их копии можно часто увидеть на плакатах и так далее. Но вот этот автопортрет… Нет, не думаю, чтобы я его хоть когда-то видел.
– Что подводит нас к еще одному вопросу, – сказал Хенсон.
– Да, – подтвердил Жолие, – проблема Вермеера.
Мужчины принялись глубокомысленно кивать друг другу, пока не заметили, что Эсфирь отчаянно пытается сдержать себя в руках.
– Итак, проблема Вермеера Дельфтского, – начал объяснять Мартин. – Понимаешь, был такой голландский фальсификатор по имени Мегерен.









































