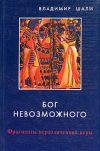Текст книги "Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь"

Автор книги: Дженет Уинтерсон
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Мужчина вернулся с тазиком тепловатой воды и двумя бутылками водки. К его искреннему ужасу, я взял одну и до последней капли вылил ее в тазик.
– Он еврей, – сказала мать.
Я тщательно вымыл ей ляжки и длинные темные половые губы. Затем вытер их остатками моей рубашки и укрыл обеих пледом, который принес из машины. Хотел вымыть и ребенка, но подумал: «Гендель, ей известен только запах, у нее пока есть лишь обоняние, ступай прочь, Гендель».
Я надел фрак, собрал свои вещи и закрыл дверь, пообещав вернуться через пару дней. Я оставил им немного денег.
Взошла луна, и холод превратил туман в коричневые бруски. Я ехал задним ходом по склизкой улице с незажженными фонарями.
Второй Город – политический. Город политики трущоб, многоквартирных жилых домов, особняков. Следует поддерживать равновесие. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы особняков было слишком много, а трущоб слишком мало. Равновесие поддерживают многоквартирные дома; богатые боятся очутиться в тесных квартирах, бедные мечтают получить их в собственность. Политический город стоит на страхе. Страхе никогда не иметь собственную квартиру. Страхе иметь всего лишь квартиру.
Бездомность незаконна. В моем городе нет бездомных, хотя все больше преступников живет на улице. Превратить класс обездоленных в класс преступников было очень умно; люди иногда жалеют нищих и отверженных, но преступников не жалеют никогда. Это великолепно поддерживает стабильность.
Я припарковал машину у дома и вышел в плотный, липкий туман, думая о старушечьих шторах. Там, где туман раздавался в стороны, на улицы все еще падал тусклый свет, пачкая их, выставляя напоказ этот больной город с его отданной в залог и не выкупленной назад красотой.
Я лег в свою белоснежную постель и забылся беспокойным сном. Мне снилось, что мое тело стало прозрачным, что солнце бьет в мою печень, как в барабан, и превращает мой позвоночник в желтые клавиши, на которых я могу брать октавы обеими руками.
Несколько дней спустя я выполнил обещание и вернулся. Через дорогу кучка скваттеров наблюдала, как патрульная бригада приваривает к завалившемуся проему стальную дверь. Я подошел и спросил одного рабочего, что случилось с людьми, которые здесь жили. Тот пожал плечами и продолжил свое дело. Я понял, что мужчина этот, как все рабочие, давно разучился говорить. Он лишь ткнул ацетиленовой горелкой в сторону синего фургона без окон.
На продавленном переднем сиденье развалились, задрав ноги на приборную доску, два человека. Не мигая, они смотрели в грязное лобовое стекло и слушали включенное на полную мощь радио. Обоим лет по двадцать пять. Казалось, они мертвые. Я постучал в стекло; один медленно-медленно повернул голову и посмотрел на меня сверху вниз так, словно я был человеком. Я ткнул ему свою медицинскую карточку, и он медленно-медленно опустил стекло.
– Вы не могли бы мне помочь? Я пытаюсь найти людей, которые жили в этом доме.
– Это не по моей части.
– Вы знаете, где они?
– Нет.
Молодой человек поднял стекло, но напарник что-то сказал ему, даже не шевельнув губами, и стекло снова поползло вниз.
– Вы из Отдела по борьбе с паразитами? Они были «Эльф Аззад»?
– Простите, что?
– У них был сифак?
– Нет. Но у одного родился ребенок.
Я не сентиментален. Каждую неделю под моими руками проходят жизнь и смерть, и это выработало во мне определенную сдержанность. Близкое знакомство со смертью сделало некоторых моих коллег погрубее, кем-то вроде участников danse macabre [8]8
Пляска мертвых (фр.).
[Закрыть]. Постоянный контакт с тем, что кажется им злой судьбой: злой, ибо не скрашена никакой духовностью, а судьбой, ибо неминуема, неотвратима и глуха к жалобам, – воспитал в них любовь к гротеску. В этих современных людях есть что-то от жителей средневековья, которые всегда высмеивали то, чего боялись. Мрачные, циничные шутки и удовольствие от собственной развращенности есть отличительная особенность большинства моих выдающихся товарищей по профессии. Я смотрю на них и вижу не светил современной науки, а испуганных крестьян четырнадцатого века, вырезающих Мертвую Голову в какой-нибудь глухой деревушке на Рейне.
А что же я сам? Я, кто часто склонялся над безжизненным телом, когда оно затихало и вытягивалось? После смерти следы, оставленные на лице суетой, тщеславием и мелкими или крупными заботами, начинают исчезать; его черты становятся проще и достойнее; остаются лишь абстрактные линии, да и те исполнены величайшего безразличия. Возможно, смерть действительно успокаивает своей печатью. Помедли, пока это временное величие не раскололось, – там остается не ужас, не страх, но глубокая жалость. Pieta [9]9
Пиета (um.) – плач Богоматери, картина, скульптура и т. п. с изображением Девы Марии, оплакивающей мертвого Христа.
[Закрыть] Девы-Матери над телом усопшего Христа. Мадонна Скорбящая. Жалость матери, оплакивающей свое дитя.
Но молодая испанка, жившая в комнате наверху, не была девой, а кроме того, должен признаться, младенцы меня не трогают. Точнее, не трогает меня эта здоровая больничная вязь плоти в послеродовых отделениях, на фабриках и фермах будущего. Я слишком часто замечал, что самые бессердечные люди облегчают себе душу, воркуя над младенцами, но стоит младенцам подрасти, и эти люди станут эксплуатировать или игнорировать их так же, как всех прочих.
Но когда она поднесла младенца к груди, на мгновение показалось, что обезлюдевшее пространство расцвело и то, что прежде было изуродовано и повреждено, вернулось целым и невредимым. Мрачная комната преобразилась, и в треснувшем стекле засияли звезды. Малышка не могла видеть звезд, но их лучи упали на ее тельце и соткали покрывало из света.
Хотя уродливую стальную дверь уже почти приварили, я проявил настойчивость и поднялся по трухлявым ступенькам в покинутую комнату. Керосиновый фонарь и занавески исчезли. Выпотрошенный матрас был испачкан кровью рождения. Не осталось ничего, кроме куска моей рубашки. Я поднял его и положил в карман.
Снаружи в маслянистые лужи на мостовой низвергались изящные фонтаны желтого света от сварочного аппарата. Свет отскакивал пылающими стружками от металлических сапог сварщика. Этот человек носил свой нимб на ногах.
Я снова задал ему вопрос, но он ответил только:
– Люди исчезают каждый день.
И приварил дверь к косяку.
Люди исчезают каждый день… Третий Город невидим. Это город исчезнувших – тех, кого больше не существует.
Эта часть города намного больше, чем может показаться. Скваттеров и иммигрантов, мелких спекулянтов и уклоняющихся от уплаты налогов, девушек по вызову и выпущенных на волю безумцев видно издалека. Списки людей, вызывающих официальное неодобрение, висят на каждом законопослушном углу. Мы знаем, кто скрывается и почему, но мы сами чисты и не занимаемся темными делишками под покровом ночи.
Люди исчезают каждый день – но только не такие, как мы с вами, верно? Мы прочно стоим на ногах, уверены в себе, сильны и ничего не боимся, можем свободно излагать свои мысли.
А я? Могу я излагать свои мысли или с грехом пополам изъясняюсь на заемном языке и нахожусь в плену собственного ублюдочного мышления? Что из моего – действительно мое?
Меня тянет к Средневековью – возможно, из-за того, что я человек тени и блистательные огни Возрождения слегка пугают меня. А возможно, из-за того, что в Средних веках с их любовью к системе и иерархии я нахожу наиболее полное и человечное воплощение старой теории «Дружеского Окружения». Теория, что началась с Платона, многоцветным потоком текла через Боэция, Чосе-ра, средневековых мыслителей и все еще чувствуется как в Шекспире, так и в Бэконе. Непреложная, хоть и не бросающаяся в глаза истина по-прежнему состоит в том, что вещи кладут на место силой, но на месте они лежат спокойно. Иными словами, все на свете имеет дом, пространство, которое ему подходит, и если ему не мешать, оно будет стремиться туда, руководствуясь чем-то вроде инстинкта. Но как я найду «свой дом», нерукотворный, если я сам – не в себе? Каждый день на консультациях я встречаюсь с мужчинами и женщинами не в себе. То есть с людьми, которые не имеют ни малейшего понятия о том, кто они на самом деле, и не догадываются, насколько важно это знать. На вопрос «как я буду жить дальше» я не могу ответить, выписав рецепт.
Рак чаще всего развивается у пенсионеров или разорившихся бизнесменов. Они приходят ко мне с разбитым сердцем, страшась за свою жизнь, и первая фраза, которую я от них слышу, звучит примерно так: «Я не тот человек, которым был раньше». Однако в ходе беседы становится ясно, что человек – тот же, кем был всегда: да, обеспеченный, да, уважаемый, но незрелый, не познавший самого себя, человек без подлинной широты или глубины, однако защищенный от сознания собственного несовершенства работой, социальным положением, любящей женой, молодой любовницей или похлопывающими по спине приятелями. Часто в разговоре этот человек признается, что никогда не любил свою работу, ненавидит семью или жил только ради работы, а без нее снова стал ребенком и теперь не знает, что ему делать по утрам.
Но тяжелее всего иметь дело с женщинами, которых приучили верить, что высшая женская доблесть – в самопожертвовании. Они жертвуют собой, часто охотно, и все еще продолжают ждать благодарности. Они ждут, но рак – нет.
В обществе, где культ индивидуальности никогда не проповедовался с большей силой и где именно этой силой вызвано огромное множество наших коллективных недугов, как-то неловко призывать к тому, что человек должен в первую очередь следить за своим «я». Однако это «я» – не случайный набор беспризорных желаний, алчно требующих удовлетворения, и для сплочения общества недостаточно одного подавления этих желаний, как заставляют думать женщин.
Причина раскола нашего общества заключается не в триумфе индивидуальности, а в стирании ее. Он исчезает, она исчезает, но спросите их, кто они такие, и они покажут вам на свой кошелек или на своего ребенка. «Что вы делаете?» – вот основная партийная линия, в которой делание подменяет бытие, а стыд неделания стирает тонкий меловой контур Жены Мужа Банкира Актера даже Вора. Отрадна эта моя занятость, ибо оставшись наедине с собственными мыслями, я могу обнаружить, что мыслей-то у меня и нет. А если я останусь один на один с чувствами? Что увижу я помимо детского гнева и сентиментальности, которую принимают за любовь?
Один друг, с которым я чувствую себя свободно, поскольку он не мой пациент, как-то раз пришел ко мне после второго сердечного приступа и сказал:
– Гендель, я хочу подумать о своей жизни. – Я дал ему «Pensees» [10]10
«Мысли» (фр.) – неоконченный труд (впервые опубликован в 1670 г.) французского мыслителя Блеза Паскаля (1623–1662).
[Закрыть] Паскаля, и он с восторгом сунул книгу в свой битком набитый «дипломат». – То, что нужно, – сказал он. А спеша поймать такси, обернулся ко мне и добавил: – Гендель, мне стало намного лучше после наших разговоров, и я понял, что ты совершенно прав насчет важности созерцательной жизни. Я попробую вставить ее в свое расписание.
Я смотрел в окно: он исчез на оживленной улице, по обеим сторонам которой раньше тянулись гордые собой лавчонки, и каждая имела свои цель и предназначение. У каждой были свои постоянные клиенты и ответственность перед ними. Теперь же улицу расширили и превратили в магистраль, пересечь которую можно только с риском для жизни, по ней с ревом проносятся машины, оставляя позади огромные стеклянные глыбы многонациональных магазинов, и каждый торгует теми же товарами с той же оптовой базы, только упакованными по-разному, и соблюдает при этом войну цен.
Как я буду жить?
Этот вопрос давит на меня сквозь тонкое стекло. Этот вопрос преследует меня на тесных улицах. На анонимных компьютерных ликах утренней электронной почты только этот вопрос читаю я – начертанный красными чернилами, прожигающий самодовольную страницу.
«Как поживаешь, Гендель?»
(Как я буду жить?)
«Что сейчас делаешь?»
(Как я буду жить?)
«Слышал про слияние?»
(Как я буду жить?)
Этот вопрос намалеван на дверных косяках. Этот вопрос начерчен в слое пыли. Этот вопрос спрятан в вазе сирени. Это дерзкий вопрос спящему Богу. Вопрос, озадачивающий утром и намекающий днем. Вопрос, что прогоняет мои сны, вызывает бессонницу и выжимает испарину на лбу. «Ответь мне», – шепчет голос в пустыне. В тихом месте, до которого город еще не добрался.
В невидимом городе, который невозможно разглядеть, по призрачным путям бродят исчезнувшие души, неощутимые, не оставляющие следов, неразличимые люди, что совершают поступки, одеваются, говорят и думают точь-в-точь, как все остальные.
Я в себе?
В подлинном себе?
В своем истинном доме?
Уходят длинные поезда. Квадраты света в окнах. Желтый свет на фоне черного поезда. Поезд – рептилия с желтыми пятнами. «Желтое и ЧЕРНОЕ, желтое и ЧЕРНОЕ, желтое и ЧЕРНОЕ», – нараспев твердит поезд.
Свет свисал с краев поезда фестонами; декоративный свет, создававший полог над жестким металлом, бледный узор над строгой линией.
Если бы этот свет был викторианским орнаментом, он бы утомлял глаз, а не радовал его. Его прелесть – в движении, в игре теней, прекрасной, новой и удивительной. Новый свет убегал от древнего солнца.
Свет, настоянный на солнце.
По сути своей свет – хорал. Гармония мощного унисона, глубина света, нота не одна, но множество световых нот, звучащих одновременно. В высоком регистре, недоступном человеческому слуху, музыка сфер, свет, вибрирующий на собственной частоте. Свет видимый и слышимый. Свет, что пишет на каменных скрижалях. Свет, что осеняет славой все, к чему прикасается. Строгий, наслаждающийся собою свет.
Поезд полз под пологом ускорявшегося света, уже опоясавшего всю землю. Научный поезд и искусный свет.
Я – Гендель, врач, католик, поклонник женщин, любитель музыки, девственник, мыслитель, дурак – готов покинуть свой город и никогда больше не возвращаться.
Мои друзья объясняют это стремление переизбытком того, что французы называют La Sensibilité. Переизбыток чувствительности нежеланен для мужчины и бесполезен для врача. Католикам, впрочем, не возбраняется выражать свои эмоции – конечно, если выражаемые ими эмоции являются католическими.
Вчера на распродаже я видел исповедальню. Восемнадцатого века, ирландская, переносная. Из тяжелого темного дуба, с полувратами, прикрывающей вход шторой и теплой деревянной скамьей, до блеска отшлифованной бесчисленными задами духовенства. С зарешеченными отверстиями по сторонам, расположенными как раз на такой высоте, чтобы в них удобно было шептать про мучения пылающего тела.
– Я грешен, отец мой.
– Ты говоришь о грехах плоти или о грехах совести, дитя мое?
– О грехах плоти.
– Начинай.
Сегодня днем я ходил в бордель; нас было шестеро, все семинаристы. Пока мои товарищи заигрывали с девушками, я получил записку с просьбой подняться наверх, к мадам.
Я вошел в ее комнату. Комната была белой. Белые стены, белые египетские ковры, выбеленные простыни и глухая белая кошка. Мадам была знаменитой куртизанкой, последовательницей римско-католической церкви и подругой человека, которого я очень хорошо знал, только это было в детстве. Богата, все еще красива и чрезвычайно развратна. Я был очарован ею, но тогда мы беседовали в первый и последний раз. В комнате пахло лилиями Мадонны. Снизу, из стойл, доносился шум; парни не могли дождаться, когда их охолостят.
– Снимай брюки, – сказала она. На стене висели бивни. У меня на теле очень мало волос. Я посмотрел на себя в зеркало: короткая рубашка не скрывала ничего, и я мог думать только о корне мандрагоры. Она стояла сзади, насмешливо и одобрительно наблюдая за мной, и я понимал, что именно ее так заинтересовало.
Она провела ладонями по моим ягодицам, как делает барышник с племенным скотом. Я смотрел в серебряное зеркало и видел ее посреди белой комнаты – зеркальная фантазия, перевернутое изображение вывернутых правил. Я был здесь для нее.
– Ты проник в эту женщину?
– Нет, отец мой.
– Продолжай.
Я стоял перед зеркалом, она стояла сзади и льстила мне ладонями. Руки у нее были сильные, смуглые и мозолистые, совсем не похожие на женские. Она трогала меня так, словно я был связкой хвороста: все пять моих жестких костлявых конечностей затвердели. Потом она повернула меня к себе и нагнулась.
– Ты эякулировал?
– Да, отец мой.
– В какую часть женщины?
– В тазик на полу.
– Продолжай.
– У нее была фарфоровая доска с изображением греческих героев. Она велела мне опуститься на колени, потом я встал на четвереньки, уподобившись ослу, на котором Иисус въехал в Иерусалим, а когда она вонзила свои пятки мне в пах, я кончил на Одиссея. Она сказала, что называет этот тазик Студенческим…
Долл Снирпис студенткой не была, но джентльменов любила, хотя назвать ее дамочкой легкого поведения было бы ошибкой. Мать на смертном одре взяла юную Долл за маленькую ручку и завещала: «Никогда не продавай собственность». Долл крепко запомнила этот урок и пользовалась материнским советом даже тогда, когда речь шла о других ее владениях, имевших куда более товарный вид.
Она не продавалась – ее можно было только нанять, но за очень высокую цену. Долл была богата. Богата пышной грудью. Выпуклым животом. Персиковыми ягодицами. И особенно богата пышной растительностью на лобке. Она называла лобок «своим Евклидом», предлагая геометрическое доказательство тем, кто по уши увяз в алгебре.
Руджеро, которого она любила так же, как птица любит полет, был человеком книжным, высоконравственным и целомудренным. Когда Долл Снирпис начинала размахивать своими математическими верительными грамотами, он бежал в искусство, свою башню из слоновой кости. Подобно Одиссею, привязывал себя к письменному столу и затыкал уши, чтобы не слышать ее песен сирены. Это было трудно, потому что он любил оперу.
Он никогда не видел женской… женской… как бы ее назвать? Чернильницы?
Он потрогал свое перо и подумал о Долл Снирпис, наполненной красными чернилами.
Делом жизни Руджеро было восстановление перечня тех манускриптов, что могли храниться в Великой Александрийской Библиотеке. Он был ученым и, как все ученые, верил, что его труды, сколь бы темными и загадочными ни были, человечество оценит по достоинству. Руджеро надеялся, что этой оценкой станет стипендия. Человек не может читать и зарабатывать деньги одновременно – конечно, если он не литературный обозреватель, а Руджеро молился, чтобы никогда не пасть так низко.
Зато Долл Снирпис, которая падала столько раз, что превратила падения в изящное искусство, прекрасно знала, чего стоят ее труды. Она поняла, что если умело выгнуть зад, можно упереться предплечьями на постель и продолжать читать, не обращая внимания на того, кто штурмует ее гипотенузу. Именно таким образом она открыла для себя восторг возвышающих трудов Сапфо. Свой экземпляр на древнегреческом она получила от одноглазого торговца древностями, который утверждал, что книга украдена у самих Медичи. А тем, в свою очередь, она досталась из Александрии. Когда Руджеро попросил разрешения осмотреть сокровище, Долл указала на развилку между своих ног, где, по ее словам, такие вещи и хранятся.
Выдумка? Разумеется, хотя на экстравагантном рваном фронтисписе значится, что это автобиография: «Полные и честные воспоминания сводни».
Полные? Честные? Сомневаюсь, но, собственно, с какой стати? Даже наука, гордящаяся собственной объективностью, стоит на двух китах: доказательствах и памяти. Научные теории следует полагать на результатах, полученных прежде. Ученые должны учитывать то, что было записано другими, и то, что они уже записали сами. Наука выводит новое из прежних объяснений, прежних исследований с помощью способов, позволяющих сверять теории со всеми известными фактами.
Но не все факты известны, а то, что известно, не всегда является фактом.
Есть и еще одна трудность: каким бы дотошным ни был ученый, он или она – часть самого эксперимента. Невозможно отделить наблюдателя от наблюдаемого. Значительная часть научных истин позже оказывается фантазией наблюдателя. Утверждать, что теперь все иначе, было бы неразумно.
Часть проблемы безучастного наблюдателя, который на самом деле эмоционально связан со своим объектом, заключается в том, что между экспериментом и фиксацией его результатов всегда проходит какое-то время. Возможно, бесконечно малое, но даже если ученый равнодушен к предмету изучения, сколько фантазий может уместиться на кончике иглы?
Я знаю, как трудно точно описать то, что случилось даже мгновение назад. Если бы кто-то был рядом со мной, его мнение могло бы подтвердить мое – но могло бы и не подтвердить. А если это фотография? Камера всегда лжет.
Но самое неприятное во всем этом сомнении вот что: память о том, что произошло в ничтожную долю секунды, далеко не всегда совпадает с воспоминанием, которое приходит на ум в другое время. Я могу быть убежден, что это было, особенно если в этом убеждены и другие (чем больше, тем лучше). А если я один, и переживание, чувство, событие – мои и только мои, как я могу утверждать наверняка, что не выдумал все от начала до конца, включая само достойное доверия воспоминание?
Может, эта запись, что лежит сейчас перед вами, – такая же выдумка.
На что же мне тогда опереться, если не на свое прошлое, не на свою объективность, не на чистые белые халаты науки? Должен ли я признать выдумкой самого себя? Человек, состоящий всего лишь из пространства и света, булавочная головка на булавочной головке планеты, затерянной среди звезд? Le silence étemel de ces espaces infinis m'effraie [11]11
Вечное молчание этих бесконечных пространств пугает меня (фр.). Фраза Блеза Паскаля из «Мыслей».
[Закрыть]. Человек, клюнувший на крючок Времени.
Что может уравновесить несоответствие этого огромного безграничного пространства и моей ограниченной жизни? Да, ограниченной, но не смертью, ибо я боюсь не смерти, а моей собственной малостью и ничтожеством. Непрожитая жизнь. Жизнь в твердой скорлупе, охраняемая слоем воды сверху и снизу. Жизнь в тепле и сухости. Прочная. Надежная. Так?
Поезд достиг побережья. Свет моря прополз щупальцами по полу. Длинные волны света расщепили на атомы твердые сиденья и жесткие столы. Поезд и сам колыхался.
Человек, запертый в яркий аквариум, плавал, погруженный в собственные мысли. Мысли пузырьками мультяшного буйства вырывались из его головы. Он ловил их, выдувал и чпокал. Нырял в слои света за обломками своего потерпевшего кораблекрушение прошлого. Человек тонул так часто, что нашел на дне целую флотилию кораблей – призрачных, неосязаемых, изменившихся от давления воды и хода времени.
Нельзя ли поднять отсюда что-нибудь ценное?
Мужчина заставил себя открыть маленькую дверь. Вот его игрушки, его узкая кровать… Казалось, сюда никогда не добирался свет. Когда он вспоминал свое детство, оно было темным, если не считать короткого промежутка между тремя и четырьмя часами дня. И если не считать двух лет, окрашенных красным.
Вода над ним превращалась в шахматные квадраты света и темноты.
Сколько фантазий может уместиться на острие иглы?
Солнце превратило море в бриллианты. Позади меня рев, рев, рев мотоциклов на шоссе. Определенный мир маховиков и гудрона – лишь жужжание пчел в бутылке.
Грязное море меняется. Оно уже не серое, не голубое, не зеленое, но белое – из белых пиков и провалов, что лепят себя согласно линзе моего глаза.
Должен признаться: я боюсь моря. Есть море моряков и торговцев, море нефтяников и рыбаков. Море, что пробует землю, повинуясь притяжению луны. Море гаваней в прилив и отлив, и море, существующее лишь для того, чтобы украшать собой географические карты. Но море, которое мы используем в каких-то целях, – еще не все море. Существует и другое – просто море. Перечень того, что делает море, не в состоянии описать его. Сегодня море превратилось в самоцветы и посеребрило рыбу, живущую под слоем чеканного золота. Люди, которые знают море, сознаются, что совсем не знают его. Никто не достигал самого дна. То, что самое дно вообще существует, – всего лишь наша гипотеза. Мы за ним не наблюдали.
А я сам? Понаблюдайте за мной. Кое-что можно сказать, следя за тем, как используется моя поверхность; возможно, еще немного можно выудить из слоев, лежащих под этой поверхностью, но что таится на самом дне? Именно там я один – и наблюдатель, и объект наблюдения.
Я погружаюсь, я пытаюсь рассказать правду, но примитивный водолазный колокол, который я называю своим сознанием, – прибор куда менее надежный, чем дешевый термометр моего аквариума. Может, самого дна у меня и нет, может, я гораздо мельче, нежели хотелось бы думать, или, может, я порожден бесконечностью, покамест ограниченной. А мой реальный мир, как я любовно его называю, может быть лишь пуповиной воздушного кабеля, что удерживает меня в глубинах, которых я сумел достичь.
Я, Гендель, задаю вопросы, но не могу ответить на них. Я не герой – просто шахматный рыцарь, надеющийся перехитрить саму игру. Пока моя жизнь – череда умных ходов, я чувствую себя хорошо, почти прекрасно, и у меня не остается времени на рефлексию. Я не хочу все время видеть себя в зеркале. Однако тугая цепь событий стала размыкаться – не физически, поскольку я занят так же, как прежде, но эмоционально, духовно. Я начал оступаться и проваливаться в ямы, а камни, по которым можно было бы ступать, разъезжались все дальше и дальше. Гендель, держащий себя над водой пинцетом; Гендель, вера которого не смогла заменить ему спасательный пояс. Когда у меня кончатся силы, я перестану бороться, испытав при этом немного страха и куда больше облегчения. Сдамся, погружусь в неведомые потоки и стану одиноким странником по неведомым морям.
Поезд был залит светом. Свет бил в его крышу. Свет переливался через края желтыми веерами. Свет насмехался над стальными дверьми и превращал закрытые окна в хрустальные шары.
Унылые прямые линии унылого прямого вокзала изгибались под ударами отраженного света. Вокзал коробило. Раскололся маленький самодовольный кубик билетной кассы. Мужчина вброд направился к нему, словно через поле лютиков, а свет уже затопил его колени и поднимался все выше. Мужчина хотел купить билет, но самоуверенные монеты плавились от жара его пальцев. Он что-то написал на золотой бумаге и протянул ее золотому кассиру. Потом прошел сквозь свет и зашагал к золотому поезду.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?