Читать книгу "Очерки становления свободы"
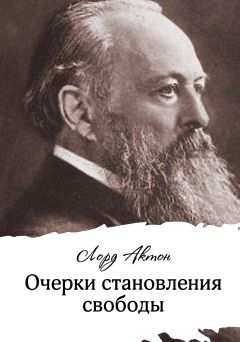
Автор книги: Джон Актон
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Переходная эпоха сомнений, в ходе которой греки проделали путь от неясных мифологических мечтаний до ослепительного света науки, была эпохой Перикла, и попытка поставить на место указов одряхлевшей власти некую незыблемую истину, попытка, начавшая вбирать в себя всю мощь греческого интеллекта, вылилась в грандиознейшее в языческой истории человечества движение, сделавшее так много, что даже после неимоверных свершений христианства именно ей мы обязаны большей частью нашей философии и безусловно драгоценнейшей частью принадлежащих нам политических знаний. Глава афинского правительства, Перикл оказался первым государственным мужем, столкнувшимся с проблемой, которую выдвинуло на политическую сцену быстрое ослабление роли традиций в обществе. Не оставалось авторитетов в политике или нравственности, не поколебленных этим веянием. Никакому руководству невозможно было довериться вполне; не существовало критерия, к которому можно было бы прибегнуть в качестве средства для регулирования или отрицания преобладавших в народе убеждений. Народное представление о правильном и достойном могло быть ошибочным, но не было способа проверить, так ли это на деле. В практических вопросах народ был носителем знания о добре и зле, – следовательно, и носителем власти.
На этом заключении покоилась политическая философия Перикла. Он решительно отстранил все подпорки, еще поддерживавшие преимущества богатства. На место древнего представления о том, что право на власть следует из обладания землей, он поставил новое, согласно которому власть должна быть распределена с той степенью равномерности, которая обеспечивает равную для всех безопасность. Мысль о том, что какая-то часть общины может управлять всей общиной, или что один класс может предписывать законы другому, он объявил деспотической. Но отмена привилегий означала бы лишь передачу преимущественного влияния из рук богатых в руки бедных, поэтому Перикл уравновесил положение, проведя закон, по которому афинскими гражданами считались только жители города афинского происхождения. Тем самым численность класса, который мы бы назвали третьим сословием, была сведена к 14 тысячам граждан, и сделалась примерно равной численности представителей высших классов. Перикл держался того мнения, что афинянин, пренебрегающий участием в общественных делах, теряет и свою долю в общественном достоянии. Для того чтобы нужда не препятствовала общественному служению, он установил для бедных пособия, которые выплачивались из государственных фондов; ибо под его управлением дань и сборы с союзников доставляли афинской казне более двух миллионов фунтов стерлингов. Инструментом власти в его время было красноречие; Перикл правил Афинами, убеждая сограждан в правильности своих предложений. Каждый вопрос выносился на открытое обсуждение народного собрания, и любое влиятельное лицо подчинялось доводам рассудка. Мысль о том, что назначение конституции состоит не в утверждении преобладающих интересов какой-либо одной группы над прочими, но в ограждении интересов каждой из групп, в защите, притом с равной степенью бережности, независимости труда и неотчуждаемости собственности, в ограждении богатых от зависти, а бедных от угнетения, – знаменует собою высочайшее достижение греческой государственности. Она едва ли пережила великого патриота, постигшего ее глубину, – и вся последующая история представляет собою нескончаемые попытки нарушить общественное равновесие власти путем предоставления преимуществ то обладателям капитала, то землевладельцам, то наиболее многочисленной группе. Явилось поколение небывалой и никогда впоследствии не повторившейся одаренности, поколение людей, чьи достижения в поэзии и красноречии по сей день являются предметом зависти всего мира, чьи сочинения по истории, философии и политике остаются непревзойденными. Но для Перикла в этом поколении преемника не нашлось; никто не смог поднять скипетр народного правителя, выпавший из его руки.
Принятие афинской конституцией положения о том, что каждая группа интересов должна обладать правами и возможностью отстоять эти права, стало важнейшим шагом в развитии народов. Но те, кто терпел поражение при голосовании в народном собрании, оставались ни с чем. Закон не сдерживал торжествующего большинства и не защищал меньшинство, порою оказывавшееся в ужасном положении. Когда эпоха Перикла с его подавляющим авторитетом миновала, наступили времена ожесточенных и ничем не сдерживаемых классовых конфликтов, а Пелопоннесская война, в сражениях которой во множестве гибли представители высших классов, дала в народном собрании громадный перевес низшим классам. Неутомимый исследовательский пыл афинян спешил выявить смысл любого установления, подвергнуть проверке последовательность каждого принципа, и их конституция проделала свой путь от младенчества до дряхлости с беспримерной быстротой.
Срок всего двух человеческих жизней отделяет первые ростки демократии при Солоне от падения государства. Афинская история дает классический пример того, какие опасности таит в себе демократия при необычайно благоприятных для этого условиях. Ибо афиняне были не только храбрыми патриотами, способными к великодушным жертвам: они были и наиболее религиозным народом древних греков. Они почитали конституцию, которая обеспечила им благосостояние, равенство и свободу, и никогда не подвергали сомнению основополагающие законы, регулировавшие огромную власть народного собрания. Они терпимо относились к широкому разнообразию мнений и подчас излишней свободе речей; а их гуманное обращение с рабами возбуждало негодование даже среди наиболее умных приверженцев аристократии. Наконец, они стали единственным народом античности, достигшим величия при демократическом строе. Однако обладание неограниченной властью, – той самой, что разъедает совесть, ожесточает сердца и лишает способности отчетливо мыслить монархов, – оказало свое деморализующее влияние на прославленную афинскую демократию. Ужасно находиться под гнетом меньшинства, но еще ужаснее находиться под гнетом большинства. Массы обладают неким скрытым энергетическим потенциалом, и когда он вырывается наружу, меньшинства редко могут противостоять ему. Что можно выставить против самовластной воли всего народа? Здесь не поможет ни мольба, ни обжалование, ни искупление; единственным прибежищем остается измена. Наиболее многочисленный и наиболее низкий класс Афин совместил в своих руках законодательную, судебную и до известной степени исполнительную власть. Господствовавшая философия тогда учила афинян, что нет закона более высокого, чем закон государства, и законодатель стоит выше закона.
Следствием стало то, что суверенный народ мог делать решительно все, что было в его власти, без малейшей оглядки на какие-либо представления о справедливости, исходя единственно из соображений своей выгоды. На одном из вошедших в историю народных собраний афиняне постановили считать чудовищным посягательством всякую попытку воспрепятствовать осуществлению решений народа, каким бы это решение ни оказалось. Не было силы, которая могла удержать их, – а значит, решили они, нет и сдерживающих обязанностей; они не будут отныне связаны никакими законами кроме ими же установленных. Так освобожденный народ Афин стал тираном, а его государственный строй, положивший начало европейской свободе, отошел в историю под знаком проклятия, с ужасающим единодушием произнесенного над ним всеми мудрейшими людьми древности. Афиняне погубили свой город, ибо пытались поставить ведение войны в зависимость от споров на рыночной площади. Подобно французской республике, они часто казнили полководцев, проигравших сражение. С зависимыми от них городами-государствами они обходились с такой несправедливостью, что в итоге утратили свою морскую империю. Богатых они грабили до тех пор, пока не вынудили их сговориться с врагами; наконец, они увенчали свой позор мученической смертью Сократа.
После того как неограниченная власть толпы длилась почти четверть века, от государства, по существу, не осталось ничего кроме имени, и афиняне, вконец измученные и отчаявшиеся, осознали причину постигшей их катастрофы. Они поняли, что для осуществления свободы, справедливости и равенства перед законом демократия в такой же мере должна ограничивать себя, как в прошлом должна была себя ограничивать олигархия. Они попытались вернуть себе былую славу – восстановить древний порядок вещей, который существовал, когда монополия на власть была отобрана у богатых, но еще не перешла полностью к бедным.
После провала первой попытки реставрации, памятной только тем, что всегда безошибочный в своих политических суждениях Фукидид назвал возглавившее ее правительство лучшим за всю историю Афин, была предпринята другая, более целеустремленная и основательная попытка. Враждующие партии примирились, провозгласили первую в истории амнистию и решили править совместно. Законы, освященные традицией, были сведены в кодекс, и было установлено, что ни одно из решений суверенного народного собрания не имеет силы, если оно не согласуется с этим писаным сводом законов. Была проведена отчетливая черта между нерушимыми, при всех обстоятельствах остающимися в силе положениями конституции, и указами, отражающими текущие нужды и понятия; буква закона, явившегося творением поколений, была поставлена вне зависимости от подверженной игре настроений сегодняшней воли народа. Прозрение это пришло слишком поздно и уже не спасло республику. Но урок, добытый опытом афинян, навсегда остался в истории; ибо он учит, что всенародная власть, осуществляемая правительством наиболее многочисленного и потому наиболее сильного класса, является злом, соприродным абсолютной монархии, и практически по тем же причинам требует институтов, предохраняющих эту власть от самой себя и устанавливающих высшую власть закона, способную противостоять произвольным поворотам общественного мнения.
Рим следовал в разработке тех же проблем путями, напоминавшими пути подъема и спада афинской свободы, притом следовал более конструктивно, – но более значительный временный успех сменился здесь в итоге еще более страшной катастрофой. То, что откровенные афиняне развивали средствами доводов и убеждения, в Риме приняло форму конфликта соперничающих сил. Спекулятивная политика не соответствовала жестокому и практичному гению римлян. Сталкиваясь с трудностью, они избирали не наиболее многообещающий путь ее преодоления, а путь, указанный аналогиями; минутным порывам и воодушевлениям они придавали меньше значения, чем примерам и прецедентам. Своеобразный характер римлян побуждал их возводить происхождение своих законов к раннему периоду истории города; а их потребность обосновать непрерывность римских государственных установлений и избежать упрека в нововведениях нашла себе выражение в легенде о римских царях. Столь сильная приверженность традициям замедлила их прогресс; они продвигались вперед лишь под давлением необходимости, и для окончательного урегулирования вопроса часто требовалось, чтобы вызвавшая его ситуация повторилась. Конституционная история республики начинается с усилий патрициев, заявлявших, что только они и есть настоящие римляне, удержать в своих руках отобранную ими у царей власть, – в ответ на усилия плебеев разделить ее с патрициями. Этот спор, на который у порывистых и неутомимых афинян ушло время одного поколения, у римлян длился более двухсот лет, с момента отстранения плебса от участия в делах управления городом при сохранении за ним налоговой и служебной повинностей, и до 285 года, когда плебеи, наконец, добились политического равноправия. Вслед затем идут 150 лет беспримерного процветания и славы; а далее, из первоначального столкновения интересов, улаженного скорее на основе компромисса, чем теоретически, выросла новая борьба, безысходная.
Массы обедневших семей, разоренных нескончаемыми войнами, были поставлены в зависимое положение от примерно двух тысяч глав богатых аристократических родов, разделивших между собою всю обширную сферу управления государством. Когда необходимость в переменах достигла особенной остроты, братья Гракхи попытались вынудить богатые классы поделиться общественными землями с беднотой и тем облегчить ее положение. Старая знать, родовая и военная аристократия, оказала упорное сопротивление, но она владела и искусством уступок. Аристократия более молодая и заносчивая была к нему неспособна. Наиболее ожесточенные столкновения в этом противоборстве изменили самый характер народа. Соперничество за политическую власть велось с умеренностью – качеством, облагораживающим соперничество партий в Англии. Но там, где дело касалось материального существования, борьба достигала неистовства гражданских смут Франции. Отброшенный, побежденный богатыми в длившейся целых 22 года борьбе, народ, в составе которого двадцать тысяч триста человек зависели от общественных продовольственных раздач, готов был следовать за всяким, кто путем революции или переворота обещал доставить массам то, чего они не могли получить законным путем.
Обыкновенно сенат, который олицетворял собою древний и оказавшийся под угрозой порядок вещей, бывал достаточно силен для того, чтобы подавить всякого поднявшего голову народного вождя. Но вот явился Юлий Цезарь, поддержанный, с одной стороны, преданной ему армией, во главе которой он сделал беспримерную военную карьеру, а с другой стороны – изголодавшимися массами, чье расположение он купил своей безудержной либеральностью. Человек, более кого бы то ни было владевший искусством повелевать, он рядом последовательных мер превратил республику в монархию, не прибегая для этого ни к ущемлению прав и интересов, ни к насилию.
До правления Диоклетиана империя сохраняла свои республиканские формы, но на деле воля императоров была столь же непререкаемой, как воля народа после победы трибунов. Но хотя власть императоров была произволом даже и в самых мудрых ее проявлениях, все же римская империя сослужила делу свободы лучшую службу, чем римская республика. Я не имею в виду сказать, что некоторые императоры по временам достойно распоряжались вытекавшими из их колоссальной власти возможностями, – как, например, Нерва, о котором Тацит пишет, что этот властитель соединил монархию со свободой: вещи, при прочих обстоятельствах несовместимые; или что империя, как утверждалось в возносимых ей славословиях, была усовершенствованием демократии. В действительности она была едва прикрытой и отталкивающей деспотией. Но Фридрих Великий был деспотом – и, однако же, проявлял терпимость и приветствовал свободу слова. Оба Бонапарта были деспотами – но не существовало более приемлемых для народных масс правителей, чем Наполеон I в 1805 году, сразу после уничтожения им Республики, или чем Наполеон III в зените его могущества в 1859 году. Так же точно и Римская империя обладала достоинствами, которые по прошествии времени, особенно – значительного времени, беспокоят людей больше, чем трагическая тирания, ощущавшаяся в непосредственной близости от императорского дворца. Бедные получили от империи то, чего они тщетно требовали от республики. Богатым жилось вольготнее, чем при триумвирате. Привилегии римского гражданства были распространены на жителей провинций. Имперской эпохе принадлежит лучшая часть римской литературы, на нее почти полностью приходится создание римского гражданского уложения. Именно империя смягчила тяготы рабства, установила религиозную терпимость, положила начало законодательству о правах народов и создала совершенную систему законов о собственности. Свергнутая Цезарем республика была чем угодно, только не свободным государством. Она надежно гарантировала права гражданина, но свирепо попирала права человека; она позволяла свободным римлянам налагать жестокие наказания на своих детей и иждивенцев, не знать милосердия к должникам, заключенным и рабам. Важнейшие идеи прав и обязанностей, не занесенные на скрижали муниципального закона, но известные благороднейшим умам Греции, по существу, не брались здесь в расчет, а философия, занимавшаяся их построением, не единожды поносилась как подстрекательская и нечестивая.
Но вот в 155 году в Риме с политической миссией появился афинский философ Карнеад. В перерывах между деловыми встречами он прочел две публичных лекции – с целью дать неграмотным покорителям его родины некоторое понятие о спорах, кипевших в аттических школах. На первой лекции он говорил о естественном праве, на второй – отрицал его существование, утверждая, что все наши понятия о добре и зле вытекают из безусловных правовых актов. Со времени этой достопамятной демонстрации умственной мощи побежденные держали своих завоевателей в рабстве. Самые выдающиеся общественные деятели Рима, такие как Сципион или Цицерон, в умственном отношении складывались и образовывались под влиянием греков, и римские законоведы впредь проходили суровую школу Зенона и Хрисиппа.
Если провести условную черту во II столетии, когда становится ощутимым влияние христианства, и задаться целью вынести суждение о политике античности исходя из ее фактического законодательства, то нашей оценке должен подлежать закон. Господствовавшие понятия о свободе были несовершенны, а попытки осуществить их не достигали цели. Упорядочение власти древним давалось легче, чем упорядочение свободы. Они вручали государству столько исключительных прав, как если бы хотели вовсе лишить человека точки опоры, с которой он мог бы отвергать юрисдикцию или устанавливать границы активности государства. Если мне позволено будет прибегнуть к выразительному анахронизму, то я скажу, что порок государства классической эпохи состоял в том, что оно было одновременно и церковью, и государством. Нравственность была неотделима от религии, политика – от нравственности; в религии, нравственности и политике господствовал единый законодатель и единый авторитет. Государство, в ту пору делавшее прискорбно мало для образования и практической науки, для нуждающихся и беспомощных, для удовлетворения духовных запросов человека, тем не менее требовало от него напряжения всех его способностей, исполнения всех его обязанностей и повинностей. Личность и семья, различные объединения людей и подвластные страны – в громадной степени были материалом, который суверенная власть использовала в своих целях. Чем раб был в руках хозяина, тем гражданин был в руках общины. Священнейшие обязанности человека обращались в ничто перед лицом общественной пользы. Пассажиры существовали ради и во имя корабля. Пренебрегая интересами личности, нравственным благосостоянием и воспитанием греки и римляне разрушали жизненно важные элементы, на которых покоится процветание народов, – и вот семейные линии их угасли, страны обезлюдели, и народы эти канули в вечность. До нас они дошли не в своих институтах, но в своих идеях; благодаря их идеям, в особенности – искусству управления, они для нас
Действительно, к их времени восходят почти все ошибки, по сей день подрывающие политические основы общества, – коммунизм, утилитаризм, подмена власти тиранией, свободы – беззаконием.
Представление о том, что первобытные люди жили в естественном состоянии, то есть в отсутствие законов и под властью насилия, принадлежит Критию. Коммунизм в своей наиболее грубой форме был рекомендован Диогеном Синопским. Согласно софистам, обязанности человека сводятся к целесообразности, подсказанной требованиями момента, а добродетель – к наслаждениям. Лучше нанести удар, чем пострадать по ошибке; нет большего добра, чем причинять зло, заведомо не опасаясь кары, и нет худшего зла, чем страдать, не имея утешения в мести. Правосудие и поиски справедливости суть маска трусости, неправосудие и несправедливость составляют основу житейской мудрости; долг, послушание, самоотречение суть мошенничества, присущие лицемерам. Правительство обладает абсолютной властью, может предписывать подданным все, что ему вздумается, и никто не смеет жаловаться на несправедливости, – однако если подданный может избежать принуждения и наказания, он волен не подчиняться правительству. Счастье состоит в обладании властью и в отсутствии необходимости кому-либо повиноваться; тот, кто взошел на трон путем вероломства и убийства, достоин истинной зависти.
Эпикур не далеко отстоит от проповедников кодекса революционного деспотизма. Все общества, говорит он, основаны на соглашении о взаимном ограждении интересов. Понятия добра и зла условны, ибо молнии небесные равно разят правых и неправых. Дурные поступки плохи не сами по себе, а своими последствиями для того, кто их совершает. Мудрецы соблюдают законы не в силу морального обязательства, но ради самозащиты, – когда же законы перестают быть выгодными, они утрачивают силу. – Ограниченность суждений почти всех прославленных метафизиков обнаруживается в известном высказывании Аристотеля, назвавшего отличительным признаком худших правительств то, что людям при них позволено жить, как им заблагорассудится.
Если не упускать из виду, что лучший из язычников, Сократ, не знал более высокого критерия для оценки людей и более надежного руководства для их поведения, чем законы страны, в которой им довелось жить; что Платон, чье возвышенное учение столь близко предвосхитило христианство, что знаменитейшие теологи хотели наложить запрет на его труды – из опасения, что их притягательная сила лишит в глазах людей привлекательности более возвышенные и пророческие слова тех, кто воочию узрел Сына Человеческого, – что этот обладатель самого блистательного ума из когда-либо дарованных человеку направил свою интеллектуальную мощь на защиту утверждения, что семья должна быть отменена, а дети брошены на произвол судьбы; что Аристотель, величайший моралист античности, не видел греха в набегах на соседние народы и их порабощении; но мало того: если вы возьмете в рассуждение, что и в новейшие времена люди, гениальностью равные древним, придерживались политических учений не менее преступных или абсурдных, – то для вас станет очевидным, сколь неодолимая фаланга ошибок преграждает путь к истине; а также и то, что в деле создания свободной формы правления чистый разум столь же беспомощен, сколь и обычай; что общество свободных может возникнуть только в результате долгого, многообразного и мучительного опыта; и что прослеживать пути, которыми божественная мудрость наставила народы, научила их принимать налагаемые свободой обязательства, – не последний элемент истинной философии, повелевающей
Но, обнаружив перед вами всю глубину заблуждений древних, я дал бы вам в высшей степени превратное представление об их мудрости, если бы допустил впечатление, что их заповеди не были лучше их практики. В то время, когда государственные деятели, сенаты и народные собрания поставляли примеры всевозможных грубейших ошибок в политике, заявила о себе благородная литература, впитавшая бесценные сокровища политических знаний и с беспощадной проницательностью выставившая напоказ недостатки институтов власти той поры. Положениями, по которым древние более всего приблизились к единодушию, стали право народа на власть и его неспособность осуществлять эту власть в одиночку. Чтобы преодолеть эту трудность и дать народному элементу полноценное участие в управлении, не предоставляя в то же время монополии на власть, древние почти повсеместно пришли к теории смешанной конституции. Их представление о ней отличалось от нашего тем, что конституции нового времени сложились в процессе и как средство ограничения монархии, тогда как конституции древних имели целью обуздание демократии. Эта идея родилась во времена Платона (ее отвергавшего), когда исчезли ранние монархии и олигархии; не была она забыта и многие годы спустя, когда Римская империя поглотила все демократические общины древности. Но в то время как суверенный властитель отдает часть своей власти лишь под давлением превосходящей силы, суверенный народ отказывается от своих исключительных прав под влиянием доводов разума. Между тем во все времена наложение ограничений легче было осуществить посредством силы, чем путем убеждения.
Древние писатели ясно видели, что всякий принцип власти, взятый отдельно, тяготеет к избыточности и провоцирует ответную реакцию. Монархия ужесточается до деспотизма. Аристократические правительства превращаются в олигархические. Демократия простирается до безраздельного господства большинства. Поэтому они вообразили, что, ограничивая каждый из этих элементов путем комбинирования его с другими, можно повернуть вспять процесс саморазрушения и обеспечить постоянную молодость государства. Однако гармоническое слияние монархии, аристократии и демократии, представлявшееся многим из этих писателей идеалом, осуществленным, как они полагали, в Спарте, Карфагене и Риме, осталось химерой философов и не было воплощено в античные времена. Наконец, умнейший из них, Тацит, признал, что как ни замечательна смешанная конституция в теории, но построить на ее основе государство крайне затруднительно, а сохранить его – невозможно. Это невеселое признание историка не было опровергнуто и в последующие времена.
Опыт по смешению трех компонентов, которые не были известны древним, – христианства, парламентской формы правления и свободной прессы, – ставился чаще, чем можно себе вообразить. И все же не существует примера тому, чтобы таким образом сбалансированная конституция просуществовала, скажем, столетие. Если такой опыт вообще где-либо удавался, то это в нашей благословенной стране и в наше время[31]31
То есть в Великобритании второй половины XIX века.
[Закрыть]; и мы все еще не можем сказать, как долго коллективный разум нации пожелает удержать это равновесие. Трудности федерализма были знакомы древним не хуже конституционных. Ибо по своему типу все их республики были городами и управлялись народными собраниями жителей, которые сходились для этого на городской площади. Единая администрация для многих городов была им известна только в форме иноплеменного гнета, который Спарта осуществляла над мессенцами, Афины – над союзниками, Рим – над Италией. Путей, которые в новейшее время открыли перед большими народами возможность самоуправления из единого центра, в древности не существовало. Лишь федерализм мог быть защитой и гарантией равенства, а оно чаще встречается среди древних, чем в новые времена. Если распределение власти между несколькими частями государства служит наиболее эффективным средством сдерживания монархии, распределение власти между несколькими автономными внутри федерации государствами является лучшей гарантией демократии. Умножая число центров власти и обсуждения, оно ведет к распространению политических знаний и поддержанию здорового и независимого общественного мнения. Оно покровительствует меньшинствам и освящает самоуправление. Но хотя это распределение власти должно быть названо в числе лучших достижений практического гения античности, выросло оно из необходимости, и его свойства не были в достаточной степени исследованы теоретически.
Когда греки впервые стали размышлять над общественными проблемами, они поначалу приняли вещи как они есть и постарались как можно лучше объяснить и обосновать их. Исследование, у нас стимулируемое сомнением, у них началось любопытством. Знаменитейший из ранних философов, Пифагор, развивал теорию удержания политической власти в руках класса образованных людей, прославляя и облагораживая форму правления, обыкновенно основанного на невежестве и жестком следовании классовым интересам. Он проповедовал уважение к авторитетам и субординацию, обязанностям уделял больше внимания, чем правам, религии отводил место более значительное, чем политике; его система прекратила свое существование вместе с олигархической формой правления, сметенной революцией. После этого революция создала свою собственную философию власти, крайности которой я уже описал.
Однако между двумя эпохами – между суровой дидактикой ранних пифагорийцев и расплывчатыми, распадающимися теориями Протагора – стоит философ, далекий от обеих крайностей, чьи трудные изречения не были должным образом поняты или оценены до нашего времени. Свою книгу Гераклит Эфесский отдал на хранение в храм Дианы. Книга погибла вместе с храмом и культом богини, но в нашем столетии фрагменты ее текста с невероятной страстью собираются и интерпретируются учеными, богословами, философами и политиками из числа тех, кто более прочих причастен к свершениям и потрясениям века. Самый прославленный логик прошлого столетия [Гегель][32]32
В квадратных скобках добавления, сделанные переводчиком.
[Закрыть] признал правоту каждого из утверждений Гераклита; а самый блестящий агитатор среди социалистов континентальной Европы [Лассаль] сочинил в его честь труд объемом в 840 страниц.
Массы, жаловался Гераклит, глухи к правде и не знают, что один достойный человек ценится дороже тысяч; но при этом он не испытывал ни тени суеверного почтения к существующему порядку вещей. Борьба, утверждает он, есть начало всего, разногласие – всеобщий наставник. Жизнь есть вечное движение, покой есть смерть. Человек не может дважды войти в один и тот же поток, всегда текущий и потому преходящий и необратимо меняющийся. Единственная надежная, твердо установленная и определенная вещь в круговороте перемен есть универсальный и царственный разум, общий для всех людей, хотя и не всем доступный. Законы держатся не силой земной власти, но присущей им добродетелью, следующей из единого божественного закона. Эти высказывания, которые вызывают в нашей памяти грандиозный очерк политической правды книг Священного Писания и ведут нас вперед, к последним наставлениям наиболее просвещенных наших современников, следовало бы тщательно изучить и прокомментировать. К несчастью, Гераклит настолько темен, что его не понимал Сократ, – и я не стану утверждать, что мне удалось продвинуться дальше.
Если бы темой моего обращения была история политической мысли, самого почетного места и наиболее обширного изложения в нем заслуживали бы идеи Платона и Аристотеля. Законы первого и Политика второго, если мой опыт не обманывает меня, суть книги, из которых мы можем почерпнуть главное о политических принципах. Проницательность, с которой эти древние мыслители исследовали государственные институты Греции и выявили их пороки, осталась непревзойденной и в позднейшей литературе; Бёрк и Гамильтон, лучшие политические писатели прошлого века, Токвиль и Рошер, наиболее выдающиеся в наши дни, – не встали выше их. Но Платон и Аристотель были философами, они занимались не изучением бесконтрольной свободы, но вопросами наилучшего, разумнейшего государственного устройства. Они видели гибельные последствия бездумной жажды свободы – и пришли к заключению, что лучше отказаться от этой жажды и жить в согласии с сильной властью, устроенной благоразумно и доставляющей людям счастье и благоденствие.









































