Текст книги "Перекрестки"
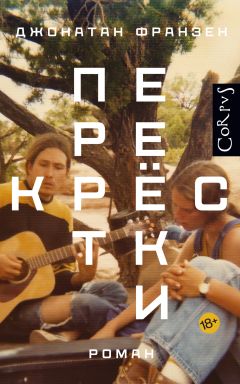
Автор книги: Джонатан Франзен
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– По-моему, за завтраком Расс мне соврал, – сказала Мэрион, чтобы сделать приятное своей платной подруге, которая каждую новую жалобу на Расса воспринимала как доказательство продвижения – но к какой цели? К тому, чтобы осознать: моему браку конец? – Когда он спустился, я сразу заметила, что он волнуется. Когда он радуется, он покачивается, как малыш. Или как Элвис – так и виляет бедрами. На нем была рубашка, которую я подарила ему на день рождения, я знала, что она ему пойдет, она голубая, под его голубые глаза, и мне это показалось странным, потому что сегодня ему нужно только навестить прихожан и отвезти подарки в церковь в Чикаго, а вечером мы идем на праздник, но перед этим он все равно переоденется. Я спросила: может, у тебя еще какие-то планы, а он ответил: нет, и тогда я подумала о поездке в Чикаго, потому что в их кружок теперь ходит Фрэнсис Котрелл. Фрэнсис…
– Молодая вдова, – перебила София.
– Именно. Она еще наверняка разрушит чей-нибудь брак, вот записалась в клуб, который ведет Расс, они ездят помогать в бедный район, ну я и спросила, кто еще поедет с ним отвозить подарки. А он словно ждал этого вопроса. Даже не дал мне договорить. “Только Китти Рейнолдс”. Китти тоже в их клубе. Она уже на пенсии, раньше преподавала в старших классах. Меня удивило, что он так быстро ответил. И еще эта рубашка, и ходит враскачку, ну и вот.
– Ну и вот.
– Он никогда о ней не говорит. О Фрэнсис. Я как-то раз видела ее на парковке, когда они уезжали в Чикаго. Он единственный раз упомянул о ней, когда я спросила его про тот вечер.
– Она молода.
– Моложе него. У нее сын-старшеклассник.
– Молодость есть молодость, – заметила София. – Коста любит поговорить о том, как в первый теплый весенний денек женщины выходят на улицу в легких платьях. Мужчине приятно видеть хорошеньких молодых женщин, это поднимает ему настроение. В этом нет ничего дурного. Мне и самой приятно смотреть на эти легкие платья.
Примечательно, что София, всегда бравшая на себя роль обвинителя, когда Мэрион защищала Расса, вдруг так переменилась и теперь, когда Мэрион усомнилась в муже, призывает ее быть снисходительной. Что это, гадала Мэрион, тонкий психологический прием или способ добиться того, чтобы она ходила сюда каждую неделю и платила по двадцать долларов?
– Боюсь, я еще не достигла такого высокого уровня, – раздраженно ответила Мэрион. – Знаете, почему я съела печенье? Потому что за одно утро увидеть счастливой еще и Бекки – это слишком.
– То есть вам было приятнее, когда Расс страдал.
– Наверное… Разве мы с вами решили, что я неплохой человек? Если да, я, должно быть, пропустила.
– Вам кажется, что вы плохой человек.
– Я знаю, что я плохой человек. И вы даже не представляете насколько.
Улыбка Софии сменилась строгой гримасой. Она точно знала, когда нужно нахмуриться, как положено психотерапевту, и это было до смешного предсказуемо. Мэрион злило, что с ней обходятся как с ребенком.
– Я могла съесть хоть все печенье, – сказала она. – И я не сделала этого потому лишь, что ничего не осталось бы Джадсону. Но я точно могла бы съесть всё. Шесть фунтов за три месяца голодания, и не то чтобы кто-то это заметил. Не то чтобы я заслуживаю быть стройной. Та мерзость, которую я каждое утро вижу в зеркале, – все, что я заслужила.
София покосилась на блокнот на пружинке, лежащий на приставном столике. Она с лета ничего не записывала в блокнот. Этот взгляд предвещал опасность.
– Кстати, дело не только во мне, – продолжала Мэрион. – Я вообще думаю, что все люди плохие. И что иначе не может быть: человек плох по природе своей. Если бы я правда любила Расса, разве не радовалась бы, видя, что он снова счастлив? Пусть даже увлекся прекрасной молодой вдовой и скрывает от меня это? Получается, на самом деле я не желаю ему счастья. Я хочу лишь, чтобы он меня не бросал. И когда я утром увидела на нем эту рубашку, пожалела, что вообще ее подарила. Если, оставшись со мной, он будет страдать, так пусть страдает.
– Вы так говорите, – ответила София, – но вряд ли сами в это верите.
– К вашему сведению, – Мэрион повысила голос, – чтобы приходить сюда, я плачу вам деньги, хотя и не могу этого себе позволить, и не собираюсь выслушивать, какие вы с мужем цельные натуры.
– Вы, наверное, меня не так поняли.
– Нет, я отлично вас поняла.
София вновь покосилась на блокнот.
– И что вы услышали в моих словах?
– Что вам не из-за чего переживать. Что у вас счастливый брак. Что вы понятия не имеете, каково это – смотреть на девушку в легком платье и желать ей ужасной жизни, такой же ужасной, как у тебя самой. Что вам так повезло, что вы даже не осознаете, насколько вам повезло. Что вам ни разу не пришлось узнать, насколько же эгоистична вся человеческая любовь, насколько плохи все люди, и что единственная любовь, лишенная эгоизма, – это Божья любовь: слабое утешение, но другого нет.
София медленно вздохнула.
– Вы сегодня мне многое рассказали, – проговорила она. – И мне бы хотелось понять, в чем причина.
– Я ненавижу Рождество. И не могу похудеть.
– Да. Я понимаю, это неприятно. Но я чувствую тут что-то еще.
Мэрион отвернулась к двери. Вспомнила о деньгах в ящике с чулками, об убогом дешевом магнитофоне, который купила Перри. Еще не поздно пойти и купить ему хорошую стереоустановку или качественный фотоаппарат, что-то такое, чему он обрадуется по-настоящему, что хоть немного скрасит тот мрак, который она, мать, поселила в его голове. У других ее детей все будет как надо, а вот у Перри вряд ли, и она очень этого боялась, ей было невыносимо знать, что неуравновешенность, которую она подмечала в нем, он унаследовал от нее. Если и дальше ходить к Софии, к лету деньги закончатся, и останутся разве что мгновения, когда София раз в две недели, не глядя, неловко вывернув кисть, открывала ящик стоящего за спиной комода и доставала оттуда очередную пачку сопора, метаквалона в дозировке по триста миллиграмм, которую Софии бесплатно присылали фармацевтические компании. Эта пачка была единственной неоспоримой пользой, которую Мэрион получала за двадцать долларов в неделю. По рецепту вышло бы дешевле, но она не хотела превращаться в ту, которой выписывают рецепты. Она предпочитала делать вид, будто ее тревожная депрессия временна и эти бесплатные таблетки она принимает лишь от случая к случаю. Тревожившие ее симптомы Перри уменьшились, осенью он вступил в молодежную общину при церкви, и Мэрион позволила себе поверить, что София права и дело действительно в ее браке. Она поверила, что с помощью Софии ей станет лучше. Но лучше не становилось. С сопором она спала крепче, чем прежде после исповеди, но в исповедальне она хотя бы могла сказать о себе самую горькую правду. Она могла быть сколько угодно несчастной и сумасшедшей, и никто от нее не ждал, что она станет бороться за свой брак, который, как она теперь полагала, уже не спасти, потому что, если уж на то пошло, она его не заслужила, потому что добилась его обманом. И заслуживала лишь наказания.
– Мэрион? – позвала София.
– Ничего не получается.
– Чего не получается?
– Ничего. Ни у вас. Ни у меня.
– Праздники – это всегда тяжело. Конец года – это тяжело. А вот с чувствами, которые он вызывает, полезно было бы поработать.
– Прорыв, – с горечью произнесла Мэрион. – У нас очередной прорыв!
– Вам кажется, что вы плохой человек, – подсказала София.
Гонорар в двадцать долларов находился в самом низу шкалы ее расценок, однако все же давал Мэрион право злобствовать, чего она не позволяла себе ни с кем другим, и получать взамен приветливые улыбки.
– Это факт, а не ощущение, – произнесла она.
– Что вы имеете в виду?
Мэрион закрыла глаза и ничего не ответила. Чуть погодя ей стало интересно, что будет, если она продолжит молчать и до конца их часа не скажет ни слова, а потом уйдет не попрощавшись. Сопора хватит еще на неделю, и ей не хотелось говорить Софии ничего, с чем можно поработать, пусть эта пышка сидит и смотрит на закрывшую глаза пациентку, ей хотелось наказать Софию за то, что она ничем ей не помогла, втолковать ей, что она, София, такая же, как она, стать той, кто умеет отмалчиваться, а не матерью и женой, с которой отмалчиваются. С каждой потенциально целительной минутой, проведенной в молчании, Мэрион теряла сорок центов, и умышленная потеря минут казалась ей соблазнительной в силу того же стремления сделать себе назло, какое заставило ее наесться печенья. Единственной пустой тратой, которая принесла бы ей больше злобного удовлетворения, чем молчание до конца часа, было бы молчание с той самой минуты, как она села в это кресло. Жаль, что я так не сделала, подумала Мэрион.
Через несколько минут молчания, прерываемого лишь жужжанием зубоврачебного оборудования в соседних кабинетах, Мэрион взглянула на Софию из-под полуопущенных век и увидела, что та тоже закрыла глаза, сложила руки на коленях и лицо ее совершенно безучастно, точно София решила продемонстрировать Мэрион силу профессионального терпения. Что ж, в эту игру могут играть двое.
Летом, в порыве первого восхищения их платной дружбой, Мэрион открыла Софии правду о том, в чем Рассу солгала или умолчала, и теперь, уж конечно, не скажет. Самое важное – что в сорок первом году она три с половиной месяца провела в психиатрической лечебнице в Лос-Анджелесе, после сильного психотического эпизода, и в Лос-Анджелесе у нее не было никакого кратковременного брака с неподходящим мужчиной, хотя она и говорила Рассу обратное в Аризоне, вскоре после знакомства. То есть мужчина действительно был, и он действительно был женат, но не на ней, однако Мэрион сочла себя обязанной предупредить Расса, что ею уже попользовались и она подержанный товар. “Призналась” она, заливаясь приличествующими случаю слезами, поскольку боялась, что ее “брак” и “развод” отпугнут этого доброго и красивого юного меннонита и он больше не захочет ее видеть. К счастью, великодушие Расса и его сексуальное влечение к ней одержали верх. (А вот его более строгих родителей-меннонитов это действительно отпугнуло.) Мэрион верила, что в Аризоне стала другим человеком, что обращение в католицизм помогло ей обрести твердую почву под ногами и что тот кошмар, который ей привелось пережить в Лос-Анджелесе, уже над нею не властен. К тому времени, когда она рассказала Рассу половину правды о половине своей истории, она уже не ходила на исповедь.
И лишь двадцать с лишним лет спустя, добравшись до исповедальни Софии, Мэрион осознала, как отчаянно ей требовалось облегчить душу. Врачебную тайну блюдут так же строго, как тайну исповеди, а значит, она может без опаски выложить пышке всё, но кое-какие тайны Мэрион осмелилась поверять только Богу (и, единожды в Аризоне, священнику, Его посреднику на земле). София не отпустила ей грехи, но избавила от страха, что у Мэрион маниакально-депрессивный психоз. Оказалось, что это всего лишь хроническая депрессия с проявлениями обсессивно-компульсивного и отчасти шизоидного расстройства. По сравнению с маниакальной депрессией эти термины казались утешительными.
История, которую Мэрион рассказала летом, когда София что-то записывала в блокноте, до известной степени совпадала с той, которую она рассказала юному Рассу. Начиналась история с ее отца Рувима, толкового сына немецкого еврея-вдовца, сапожника из Сан-Франциско; примерно в то время, когда было знаменитое землетрясение, Рувим учился в Беркли. Рувим болел за футбольную команду Беркли, “Золотые медведи”, и это навело его на мысль открыть фабрику спортивной одежды. Занятия спортом в школах и университетах были как никогда популярны, и по окончании Беркли Рувим преуспел, продавая школам спортивную форму. А вот с университетами дела вели потомки старых калифорнийских семейств, и в их круг евреям был путь заказан. Мэрион полагала, что отчасти холодный коммерческий расчет, отчасти светское честолюбие и, пожалуй, в меньшей степени сексуальное влечение побудило Рувима приударить за “артисткой” из этого круга. Мать Мэрион, Изабелла, калифорнийка в четвертом поколении, происходила из семьи, чьи некогда обширные владения как в городе, так и в округе Сонома, к тому времени, как она познакомилась с Рувимом, почти все распродали – из-за неумелого хозяйствования, несвоевременной уплаты долгов, что-то передали на благотворительность, дабы возвыситься в общественном мнении, что-то неразумно разделили меж бестолковыми наследниками. Один из братьев Изабеллы жестко управлял остатками фамильных земель в Сономе, второй был малоизвестный пейзажист с пустым карманом. Сама Изабелла вроде бы имела смутное стремление стать музыкантшей, но, казалось, только и делала, что наслаждалась культурной жизнью Сан-Франциско, раскатывала в автомобилях богатых друзей и по нескольку дней гостила в их загородных домах. Мэрион так и не узнала, каким именно образом Рувим пробрался в один из этих домов, но не прошло и двух лет, как он с помощью выгодного брака заключил договоры с кафедрами физического воспитания Стэнфорда и Калифорнийского университета. К рождению Мэрион он уже был крупнейшим производителем спортивной одежды к западу от Скалистых гор. Он построил для Изабеллы трехэтажный дом в Пасифик-Хайтс: там-то и росла Мэрион (некоторое время богатая девочка).
На ее памяти дом был темнее католических небес. Плотные шторы приглушали и без того тусклый из-за тумана дневной свет, падавший на тяжелую мебель мореного дуба, которая тогда была в моде. Мать относилась к ним с Шерли как к отклонениям, каждое из которых по необъяснимой причине провело в ее теле девять месяцев, а к родам – как к досадной необходимости прервать на время светскую жизнь, но в целом как к облегчению сродни тому, какое испытываешь, когда выходит почечный камень. В сердце отца, пожалуй, хватило бы места двум дочерям, если бы первая, Шерли, не заполонила его целиком. Обсессивность (как называла ее пышка) помогала ему вести бизнес, управлять компанией “Спорттовары Запада”, которой он посвящал по шестьдесят, а то и семьдесят часов в неделю, но дома он именно из-за этого не замечал Мэрион. Любимицей Рувима была Шерли. Если ему и случалось взглянуть на Мэрион, то лишь затем, чтобы спросить: “А где твоя сестра?”
Из них двоих Шерли и правда была красавицей, даже в детстве, и принимала его обожание как должное. Утром в Рождество она не срывала упаковку со своих богатых трофеев с жадностью обычного ребенка. Она разворачивала подарки аккуратно, как продавец, внимательно проверяла, нет ли производственных дефектов, и раскладывала по категориям, точно мысленно сверяла с накладной. Голосок ее то и дело звенел мелодично: “Спасибо, папочка”, точь-в-точь как кассовый аппарат. Мэрион находила спасение от такого излишества, целиком сосредоточившись на одной-единственной кукле, одной-единственной игрушке, мать же зевала, не скрывая скуки.
Рождество было для матери вынужденной разлукой с четырьмя подругами, вместе с которыми она делала все. Они происходили из старинных семейств, чье состояние не оскудело, и хотя у трех из четверых были мужья и дети, все подруги были влюблены в свою компанию. В Лоуэлле они были Великолепной Пятеркой из выпуска 1912 года, еще во время учебы дружно решили, что, если мир сомневается в их великолепии, тем хуже для него, а не для них, и до конца дней им не надоедало вместе ходить на ланчи, за покупками, на лекции и в театр, вместе читать книги, вместе участвовать в тех общественных делах, которые стоили того. Со временем Мэрион поняла, что положение матери в пятерке было самым шатким – семья ее не настолько богата, она сама вышла замуж за еврея, – а потому она так фанатично его отстаивала. Изабелла все время боялась оказаться пятым колесом и в Рождество переживала из-за того, что мужья трех ее подруг тоже дружат, а значит, подруги могут где-то встретиться не в составе их пятерки.
Отец Мэрион беспрестанно баловал Шерли, и это было не единственное, что он не переставал делать. Мэрион было лет шесть или семь, когда он, похоже, совсем перестал спать. Проснувшись среди ночи, она слышала, как двумя этажами ниже отец играет регтайм (играть на пианино он выучился самостоятельно). Еще он самостоятельно выучился на архитектора и другие ночи проводил в одиночку с чертежными инструментами, работая над проектом дома побольше. Он скупал компании крупнее и мельче собственной, одержимый целью открыть по всей стране сеть спортивных магазинов, приобретал рискованные ценные бумаги, пользуясь своей исключительной проницательностью финансового аналитика, своим исключительным даром – умением вовремя купить акции с маржой. Он курил огромные сигары, ходил в енотовой шубе на футбольные матчи команды Калифорнийского университета, иногда брал на принадлежавшие ему дорогие места напротив средней линии Мэрион, поскольку ни Шерли, ни мать футболом не интересовались. Всю игру он говорил без умолку, используя термины, которых семилетняя девочка в основном не понимала. Он знал имена всех игроков “Золотых медведей” и всегда носил с собой блокнот, рисовал в нем крестики и нолики, объясняя Мэрион тактику прошедшей игры, показывал планы будущих матчей, которые рассчитывал показать главному тренеру Калифорнийского университета, Нибсу Прайсу, с чьей работой, признавался отец по секрету, он сам справился бы не в пример лучше. Он никогда ни на кого не кричал, но говорил так громко и оживленно, что на них поглядывали другие болельщики, и Мэрион было неуютно.
До чего же экономика страны похожа на душевную болезнь! Впоследствии Мэрион гадала, долго ли продолжалась бы у отца маниакальная стадия, не рухни фондовый рынок, и, если болезнь его началась бы раньше, удалось бы отцу в разгар Депрессии задержаться в маниакальной стадии. Размышлять об этих гипотезах было непросто, потому что по прошествии лет крах биржи и крах ее отца казались неизбежно взаимосвязанными. После Черного вторника отец, как положено, лихорадочно пытался спасти то, что осталось от обремененного долгами имущества, однако, когда он, прежде чем уйти на работу, звонил из кабинета в Нью-Йорк, голос у него был такой же, каким отец некогда отдавал распоряжения о похоронах своего отца. Вернувшись из школы, Мэрион застала его в гостиной, без пиджака, в подтяжках: он таращился на холодную каминную решетку. Порой он рассказывал о единственной неудаче, выпавшей на его долю, и как ни мало восьмилетняя Мэрион смыслила в маржинальных покупках и срочных контрактах в горнодобывающей промышленности, ее мать и сестра не удосуживались поинтересоваться и этим. Мать бывала дома реже обычного, а Шерли досадовала на обмеление потока предназначенных ей товаров, на скудность Рождества 1929 года, на то, что коттедж в Ларкспуре, в бассейне которого она намеревалась поплавать будущим летом, испарился без следа.
Способности ее отца подтверждало то, что даже когда свет померк перед его глазами, он не только ухитрился сохранить дом, но и по-прежнему кормил семью, оплачивал Шерли уроки танцев и вокала. Теперь он заведовал в “Спорттоварах Запада” отделом сбыта: продал компанию дешевле балансовой стоимости, чтобы покрыть прочие свои потери. В таком же, если не хуже, душевном состоянии, в каком Мэрион впоследствии угодила в больницу, он каждый рабочий день вытаскивал себя из кровати, тащился в ванную, чтобы повозить по щекам бритвой, затаскивал себя в трамвай, потом на совещания в компании, которую уже не надеялся вернуть, после чего тащился домой к безжалостной жене, любимой дочери, чье разочарование его мучило, и Мэрион, которая винила в случившемся себя. Будучи невидимкой, она замечала то, чего не видели остальные трое. Она знала: что-то не так.
И когда отец тоже стал невидимкой, серовато-бледным призраком, который спит в кабинете, разговаривает шепотом и качает головой в ответ на просьбу повторить сказанное, Мэрион заботилась о нем как умела. Вечерами дожидалась его на остановке трамвая, спрашивала, как дела у его “Золотых медведей”. Стучалась в жуткую закрытую дверь кабинета и, не обращая внимания на стоявшую там вонь, вносила фрукты. Отец любил фрукты больше всего, их калифорнийское изобилие и свежесть, и даже сейчас в его глазах блестел огонек, когда Мэрион совала ему порезанную на дольки грушу. Он жевал без улыбки, но кивал, точно признавая: груша вкусная. Мэрион уже лет в десять (а потом и в одиннадцать, и в двенадцать) понимала, как тесно переплетены добро и зло. И когда ей удавалось скормить отцу фрукты, невозможно было понять, чем вызвано то радостное волнение, которое она ощущала, наблюдая, с каким удовольствием он ест, – чистой любовью или тем, что она лучшая дочь, чем ее сестра.
Казалось, тяжелым годам, как и Великой депрессии, не будет конца. Осенью 1935 года Шерли села в купейный пульмановский вагон поезда, шедшего на восток: ей так же не терпелось сбежать из Сан-Франциско, как Мэрион ее спровадить. Отцу, проявившему былую финансовую ловкость, удалось оплатить Шерли семестр обучения в Вассаре, исполнив тем самым давнее обещание. Но это усилие, похоже, его добило. В течение нескольких недель после отъезда любимицы ничто не могло заставить его одеться и пойти на работу. Изабелла, шесть лет не знавшая для своего образа жизни угрозы страшнее, чем повальное увлечение контрактным бриджем, в котором – о ужас! – могут одновременно участвовать максимум четыре игрока, вынуждена была наконец спуститься с небес на землю. Она заняла небольшую сумму у своего брата-юдофоба из Сономы и уговорила владельцев “Спорттоваров Запада” дать ее мужу короткий отпуск. И хотя Мэрион всегда казалось, что они с Шерли вытянули не самый счастливый билет в материнской лотерее, она невольно восхищалась находчивостью Изабеллы в трудную минуту. Инстинкт самосохранения, одержанные ею победы в борьбе за то, чтобы сохранить положение в пятерке, по-своему заслуживали и жалости, и похвалы. Так что Мэрион как всегда винила себя за то, что сделал отец.
Беда в том, что она открыла для себя театр. Талантом в семье считали Шерли, а Мэрион не замечали, но едва сестра укатила в Вассар, как Мэрион с лучшей подружкой отправились на прослушивание для школьной осенней постановки по “Пяти маленьким Пепперам”. Потому ли, что Мэрион была невысокой, но ей дали роль младшей из Пепперов, всеобщей любимицы Фронси, и выяснилось, что у нее тоже талант. С привычным двойственным чувством, толком не понимая, хорошо ли то, что она делает, или плохо, на репетициях Мэрион преображалась, ее замечали другие актеры, она впадала в своего рода транс саманесвоякости. А поскольку происходило все в школьном театре, она влюбилась в вихлявые, пахнущие краской задники, в большие щелкающие рычаги светового щита, в висящий за кулисами жестяной лист, которым было бесконечно весело изображать гром. И после школы, вместо того чтобы идти домой и присматривать за отцом, она оставалась репетировать и малевать задники.
В начале декабря, на первом прогоне спектакля, когда Мэрион-Фронси готовилась очаровывать зрителей, в театр вошла завуч с седой косицей и, остановившись у сцены, окликнула Мэрион. День выдался дождливый, в половине пятого уже стемнело. Завуч молча отвела Мэрион домой, где уже собрались все четыре материны подруги. Мать с безучастным лицом сидела у стылого камина, на коленях ее лежал сложенный лист бумаги. Произошел несчастный случай, сказала она. Но потом, вероятно, затрудняясь смягчать слова при подругах, покачала головой и исправилась. С прежним безучастным лицом она сообщила Мэрион, что отец покончил с собой. Она раскрыла объятия, приглашая Мэрион пасть ей на грудь, но Мэрион развернулась и выбежала из комнаты. Чтобы очутиться в кабинете, найти там отца и убедиться, что все ошиблись, нужно было пробежать два лестничных марша, но ей казалось, что она спускается, падает в туннель вины, навстречу наказанию. В ушах звенел странно-далекий крик девочки, которую наказывают.
Тем утром какой-то шкипер заметил, как незнакомый мужчина везет красную игрушечную тележку по пирсу неподалеку от форта Мейсона. Чуть погодя шкипер снова посмотрел на пирс (незнакомец просто не успел бы никуда уйти), тележка стояла в самом конце. Через два часа, когда тело подняли из воды, полиция обнаружила, что в тележке лежала цепь, которой мужчина обмотал шею и плечи, прежде чем прыгнуть с пирса. Игрушечную железную тележку, сделанную на совесть (красная эмаль даже не потускнела), когда-то подарили Шерли на Рождество, потом в тележке стояли горшки с геранью в саду за домом. Мэрион так и не прочла записку, которую оставил отец, пока мать где-то завтракала с подругами, но он явно не попрощался и не попросил прощения, а рассказал ей то, о чем прежде умалчивал, – правду о материальном положении семьи. Положение было отчаянным, все имущество арестовано за долги, они угодили в паутину мошенничества и банкротства. Последние деньги, на которые теоретически можно было бы сыграть на бирже, отец потратил на первый семестр Шерли в Вассаре.
В истории, которую Мэрион рассказала Софии, в той истории, которую она сочинила в лечебнице и в годы католических самокопаний, вина ее была неотделима от присущей ей способности к диссоциации. Через два дня после смерти отца она решительным щелчком рычага светового щита перевоплотилась во Фронси Пеппер, сказав себе, что жизнь продолжается, и два часа блистала на сцене. После каждого из трех представлений она возвращалась к своей вине и скорби. Но теперь она знала, что в ее воле щелкнуть внутренним выключателем. В ее воле выключить самосознание и наделать гадостей ради минутного удовольствия. С уловки диссоциации началась ее болезнь, но тогда она еще об этом не знала.
Им с Шерли дали закончить семестр там, где они учились, но дом должны были забрать за долги, а мебель продать с молотка. Мать решительно заявила ей, что она, Изабелла, некоторое время погостит у самой богатой своей подруги. Шерли, не удосужившаяся приехать на похороны, оплаченные кузеном отца, которого они раньше в глаза не видели, планирует поискать работу и жилье в Нью-Йорке. Но как быть с Мэрион? Бабушка по матери выжила из ума, а гостить у подруги вдвоем – это слишком. Единственные, кто мог взять Мэрион, – братья матери. Если бы мать отправила ее в Аризону к дяде Джеймсу, пейзажисту, пожалуй, Мэрион спаслась бы от себя самой. Но Изабелла была уверена, что Джимми гомосексуал, следовательно, в опекуны не годится, и приютить Мэрион до окончания школы согласился Рой, младший брат Изабеллы, который жил в Сономе.
Рой Коллинз был человеком широкой души: в ней для всех хватало ненависти. Он ненавидел предков за то, что промотали деньги, которые должны были бы достаться ему. Он ненавидел Рузвельта, профсоюзы, мексиканцев, артистов, педиков и светских лицемеров. Особенно он ненавидел евреев и свою светскую лицемерку-сестру, которая вышла замуж за еврея. Но он не такой слабак, как его братец-педик или зять-самоубийца, он не уклоняется от семейного долга. У него четверо детей, ради которых он трудится, не покладая рук, в фирме по продаже сельскохозяйственной техники, а фирму он основал на те гроши, что достались ему от деда с бабкой. И хотя жена и дети были слишком запуганы, чтобы отважиться ему возразить, ему нравилось напоминать им за каждой трапезой, как тяжко он трудится. Мэрион считала, что Рой не лучший опекун, но у него были деньги. В отличие от ее отца, он был гораздо богаче, чем можно было предположить по его скромному дому в Санта-Розе. В разгар Депрессии ему удалось сохранить платежеспособность фирмы, и, как единственный распорядитель садов и виноградников, он так охотно сам себя кредитовал (от имени и по поручению семейного фонда, имуществом которого распоряжался), что в конце концов владения стали называть по его имени. Мэрион узнала об этом лишь когда уехала в Аризону, но это хотя бы отчасти объясняло, почему Рой кормил и одевал ее три с половиной года и почему он так сильно ненавидел брата с сестрой. В противном случае было бы труднее их ограбить.
До пятнадцати лет Мэрион была послушной дочерью, кроткой дочерью, но жизнь с Роем Коллинзом вынуждала ее то и дело щелкать выключателем. Они ругались из-за того, что она начала курить. Ругались из-за того, как она носила носки, из-за школьных подружек, которых она приводила домой, из-за помады, которую она якобы украла в аптеке (чего Рой не мог доказать). Щелкнув выключателем, она не соображала, какие слова кричит. В новой школе ее тянуло к театральным девушкам, к беспутным девушкам и к парням, которые за ними ухлестывали. У нее самой были все данные, необходимые для беспутной девушки: она была городская, ее отец покончил с собой. Она дымила не переставая и огорчала других рассказами о самоубийстве. Мэрион надеялась, что, если будет вести себя достаточно скверно, Рой не выдержит, возненавидит ее и отправит еще куда-нибудь. Но он смекнул, чего она добивается, и садистски отказывал ей в этом. Значительно позже она догадалась, что, возможно, он испытывал к ней сексуальное влечение: люди всегда жестоки к тем, кого боятся полюбить.
Ее лучшая подруга, Изабелла Уошберн, была выше и красивее Мэрион, ослепительная блондинка с остреньким носиком, сводившим парней с ума, но Мэрион была умнее, смелее и смешила Изабеллу. Та считала себя актрисой, но в Театральное сообщество для школьников вступать не собиралась. Ей больше нравилось ходить в кино, куда билетеры, не в силах устоять перед прелестью ее носика, частенько пропускали Изабеллу и Мэрион бесплатно. От прежней Мэрион сохранилось одно лишь воспоминание, но театр оставался для нее местом, которое отвлекло ее от отца, местом вины, так что, хотя Мэрион наверняка верховодила бы в театральном сообществе, она больше не бывала ни на одном прослушивании. Вместо этого она ринулась в драму реальной жизни: обсуждала парней, провоцировала парней и в конце концов влюбилась в парня по имени Дик Стэблер, который жил по соседству с Коллинзами.
У Дика были густые брови и хриплый голос, он от рождения чуть шепелявил, и когда Мэрион слышала его, у нее подкашивались ноги: Дик выглядел и говорил в точности как Хитклифф из “Грозового перевала”, каким она его представляла. Родители Дика небезосновательно ей не доверяли, и в выпускном классе ее жизнь превратилась в драматический сериал: уловки, тайные свидания на лоне природы, где их никто не увидит и можно целоваться с Диком и позволять ему трогать ее грудь. Мэрион считала себя “озабоченной”: порой ей так сильно хотелось секса, что глаза в прямом смысле вылезали из орбит, до боли, до смерти. Она была готова на все, чего захочет Дик, в том числе и выйти за него замуж, но он собирался поступить в колледж и найти себе жену получше, чем Мэрион. Однажды весной родители Дика глубоко за полночь услышали шум, доносившийся из гостиной, отец спустился проверить, в чем дело, включил самый ослепительный свет во всей Санта-Розе и обнаружил Мэрион с Диком на диване – они лежали рядом, хоть и в одежде. После этого недоразумения и под неослабным напором родительского неодобрения страсть Дика к Мэрион угасла. Она осталась одна и чувствовала себя плохой и грязной. Ее дядя в очередном приступе гнева дошел до того, что назвал ее “шлюхой”, и вместо того чтобы заорать на него в ответ, как бывало не раз, она залилась слезами раскаяния.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































