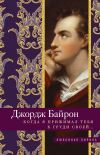Текст книги "Манфред"

Автор книги: Джордж Байрон
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Джордж Байрон
МАНФРЕД
DRAMATIS PERSOMAE.
Манфред.
Охотник за сернами.
Аббат Сан-Мориса.
Мануил.
Герман.
Альпийская фея.
Ариман.
Немезида.
Судьбы.
Духи и т. д.
Место действия в верхних Альпах – частью в замке Манфреда, частью в горах.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СЦЕНА I
Манфред один. Сцена – готическая галерея.
Время – полночь.
МАНФРЕД.
Долить пора бы лампу, хоть и полной
ее не хватит мне на бденье;
Дремота, если задремлю, не сон, —
Все та же мысль в ней непрерывно длится,
Я не могу прогнать ее, и в сердце
Есть вечный страж; смыкаются глаза
Чтоб внутрь глядеть, a я дышу
И двигаюсь как существо живое.
Печаль должна наставником быть мудрых;
Познанье – скорбь и кто всех больше знает,
Тем горше плакать должен, убедившись,
Что древо знания – не древо жизни.
Философов, науку, волшебство,
Премудрость мира я успел изведать,
Умом своим я все могу усвоить,
Но пользы нет: добро я делал людям
И даже между них с добром встречался,
Но пользы нет: врагов имел я много
И устоял, a сколько их погибло!
Но пользы нет: добро и зло, и жизнь,
Власть, страсти – все, что есть в других —
Все было для меня как дождь в пустыне
С той роковой минуты. Нет уж больше
Боязни. Надо мной лежит проклятье:
В природе всей не ведать больше страха,
Не трепетать ни от надежд, ни от желаний
И на земле не знать уже любви.
Но к делу!
– Вы, таинственные силы!
Вы, духи безграничности вселенной!
Я вас искал во мраке и в сиянье —
Со всех сторон вы охватили землю
И носитесь тончайшею стихией.
Для вас шатры – вершины снеговые,
Вы движетесь в морях и под землею —
Я вас зову могучим заклинаньем,
Которому послушны вы – явитесь!
(Молчание).
Их нет еще. – Так голосом того,
Кто первый среди вас, и этим знаком,
Пред коим вы трепещете, и правом
Бессмертного – явитесь! Слушайте – явитесь!
(Молчание).
О, если так, земли и неба духи,
Вам от меня не ускользнуть: и силой
Глубокою – всевластным заклинаньем,
Рожденным на звезде давно погибшей,
Теперь пылающем обломке мира
Разбитого, блуждающего ада
И тем проклятием, что на душе моей,[2]2
Ср. «Чайльд-Гарольд», п. I, строфа 83 (наст. изд. т. I, стр. 44):
Гарольд, скорбя, не ведал упоенья:
Проклятье Каина он на челе носил.
[Закрыть]
Той мыслью, что во мне и надо мной,
Я заклинаю вас: ко мне! – явитесь![3]3
«Заклинание» было впервые напечатано вместе с «Шильонским Узником», в 1816 г., с примечанием: «Это стихотворение составляло хор в ненапечатанной волшебной драме» начатой несколько лет тому назад». Высказываемое различными комментаторами предположение, что строфы этого заклинания направлены против леди Байрон, подтверждается близким сходством некоторых из этих строф с заключительною частью «Очерка» (см. наст. изд. т. I, стр. 466-7).
[Закрыть]
(В темном конце галереи показывается звезда и останавливается, слышится голос, который поет).
ПЕРВЫЙ ДУХ.
Смертный, здесь я. На твой зов
Я примчался с облаков,
Из чертогов золотых,
Ярким солнцем залитых;
Отразился в них закат —
И синеют, и горят.
Хоть не прав ты может быть,
Я готов тебе служить.
Я пришел в лучах зари —
Что же надо? Говори.
ГОЛОС ВТОРОГО ДУХА.
Мон-Блан в короне из снегов
Есть царь седых вершин,
Окутан ризой облаков
Стоит как властелин.
На нем повисли льды лавин,
Но умолкает гром
Среди трепещущих долин
При голосе моем.
Когда ж громады ледников
Сползают день за днем —
Я путь указываю льдов,
Иль задержу на нем.
Мне внемлет снеговой простор,
И под моей стопой
Дрожат громады скал и гор —
Что общего с тобой?
ГОЛОС ТРЕТЬЯГО ДУХА.
Там, где ветер молчит
В глубине голубой,
Где морская змея
Улеглась под водой,
И где кудри свои
Чешет моря краса,
Как степной ураган
Твой призыв ворвался,
Над чертогом моим
Прокатился волной.
Все желанья свои
Духу моря открой.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДУХ.
Там, где долго пламя
Дремлет под золой,
Где сверкает лава
Огненной рекой,
Где проникли Анды
В глубину земли,
A короной снежной
В небеса ушли, —
Я царю там вечно,
Но услышал зов —
Жду твоих велений,
Сделать все готов.
ПЯТЫЙ ДУХ.
Я вечный всадник урагана,
Я бури рулевой;
Лечу над бездной океана
Я в туче грозовой.
Я мчался на твое призванье
И видел мощный флот,
Но утра раннего сиянье
Обломков не найдет.
ШЕСТОЙ ДУХ.
Живу лишь ночью, мучусь дня сияньем:
Зачем меня терзал ты заклинаньем?
СЕДЬМОЙ ДУХ.
Я управляю той звездой,
Что правит всей твоей судьбой:
Когда-то чудный, светлый мир,
Она стремилась сквозь эфир,
Неслась вперед свободно, плавно,
В пространстве не было ей равной.
Но час пробил и время наступило
Ей стать блуждающею силой.
ее кровавое сиянье
Стоит угрозой мирозданья;
Небес прорезывая сферы,
Стремясь без цели и без меры,
Несется грозная комета,
Чудовище огня и света!
Ты под лучом ее рожден
И смеешь мне повелевать —
На миг тебе я подчинен,
Но будешь ты мой раб опять.
Но говори, умчусь я скоро,
Пусть этих духов слабый рой
С тобой ведет переговоры —
Ты только прах передо мной.
ВСЕ СЕМЬ ДУХОВ.
Земля, моря и ночь, твоя звезда и горы,
Гроза и воздух здесь мы – все к тебе пришли.
Мы духи их и на твой зов явились скоро —
Что хочешь ты от нас, ты, смертный сын земли?
МАНФРЕД.
Забвения!
ПЕРВЫЙ ДУХ.
Чего? Кого? Зачем?
МАНФРЕД.
Того, что здесь в груди, читайте сами,
Вы знаете, что я сказать не в силах.
ДУХ.
Мы можем дать лишь то, что мы имеем:
Проси от нас господства, власти, царства
Над всей землей или над частью, знака,
Чтоб над стихиями повелевать, которых
Владыки мы – и все от нас получишь.
МАНФРЕД.
Забвенья лишь – самозабвенья
Ужели не добыть в тех тайных царствах,
Которые так щедро вы дарите?
ДУХ.
Оно не в нашем существе и власти;
Но – y тебя есть смерть.
МАНФРЕД.
Забвенье в ней?
ДУХ.
Бессмертны мы и мы не забываем;
Мы вечны и прошедшего для нас,
Как будущего, нет. Вот наш ответ.
МАНФРЕД.
Вы надо мной смеетесь, но та сила,
Что привлекла вас, сделала моими,
Тот дух, та прометеевская искра,
Как молния души моей сверкает
И так же далеко хватает, как и ваша,
И не уступит вам окованная прахом!
Ответьте мне, иль покажу вам, кто я!
ДУХ.
Мы наш ответ тебе уже сказали —
Ты сам ответил.
МАНФРЕД.
Как понять мне вас?
ДУХ.
Когда y нас с тобою та же сущность,
Так мы уже ответили, сказав,
Что смерть для нас совсем не существует.
МАНФРЕД.
Так я из ваших царств вас звал напрасно,
И вы не можете иль не хотите мне помочь.
ДУХ.
Что есть y нас мы предлагаем все,
Подумай и скажи, пока мы здесь —
Власть, сила, царство, дни без счета…
МАНФРЕД.
Проклятие! К чему мне эти дни?
Итак уж тянутся довольно. Прочь!
ДУХ.
Постой, тебе помочь хотели б мы;
Подумай, не найдешь ли дара ты иного,
Который мы могли бы предложить?
МАНФРЕД.
Ни одного. Но нет, нет, погодите —
Хотел бы я увидеть вас, я слышу
Звук голосов и сладкий, и печальный,
Как музыка воды, я вижу
Звезды прекрасной ровное сиянье
И больше ничего… Приблизьтесь, как вы есть,
Один ли, все ли, но в обычных формах.
ДУХ.
У нас нет форм – они в стихиях наших,
Мы им даем начало и значенье.
Сам форму выбери – мы в ней предстанем.
МАНФРЕД.
Нет для меня на всей земле
Ни безобразной формы, ни прекрасной.
Пусть тот из вас, кто всех сильнее,
Мне явится в каком угодно виде.
СЕДЬМОЙ ДУХ (являясь в образе прекрасной женщины).
Смотри!
МАНФРЕД.
О, Боже! если это так
И ты не призрак лживый, не безумье,
Я мог бы счастлив быть, тебя обнять
И будем мы опять…
(Образ исчезает).
Разбито сердце.
(Манфред падает без чувств).
Слышится голос, поющий следующее заклинание.
Месяц светится уныло,
Еле дышит ветерок,
Метеоры над могилой,
Над болотом огонек;
Звезды, падая, сверкают,
Совы смехом отвечают,
И не шепчут с высоты
Неподвижные листы.
Но парю я над тобою,
Вея силой неземною.
Спи же, спи глубоким сном, —
Дух не спит во сне твоем;
Не отгонишь ты видений,
Не забудешь всех сомнений;
Дни потянутся чредою,
Буду я везде с тобою:
Ты как саваном обвит,
И туман кругом стоит.
Так отныне до веков
Ты ответишь на мой зов.
Пред тобой пройду незримо,
Но и то, что невидимо
Ты почуешь над собой
Неизбежною судьбой.
И когда в тревоге тайной
Обернешься ты случайно —
Не поверишь ты глазам,
Что меня не видишь там.
Все, чем будешь ты страдать,
В сердце должен ты скрывать.
Ты окован волшебством,
Ты проклятием влеком,
И в невидимые сети
Ты попал под звуки эти.
Ветер песнею своей
Сон отгонит от очей,
И среди ночной прохлады
Ты не будешь знать отрады, —
В блеске солнечных лучей
Ночь ты будешь звать скорей.
Из твоих же лживых слез
Яд смертельный я принес,
Сердце я твое видал,
Черной крови в нем достал;
Я улыбку взял твою,
Из нее извлек змею,
Из твоих же волхований
Добыл силу заклинаний;
Яды все я испытал,
Всех сильнее твой признал,
Злобой сердца и улыбки,
Безграничною виной,
Лицемерием ошибки
И коварною душой,
Торжеством того искусства;
Где притворство гонит чувство, —
Заклинаю всем, что зло,
Всем что будет, что прошло, —
Ты спасения не жди,
Ад носи в своей груди!
Казнь свою ты сам избрал,
Над тобой пролит фиал,
Жизнь твоя осуждена:
Ни забвения, ни сна!
Смерть ты будешь призывать
И пред нею же дрожать.
Чу! Теперь ты очарован,
Цепью слов моих прикован:
Заклинанья прозвучали
И навек тебя связали.
СЦЕНА II
Гора Юнгфрау. Время – утро. Манфред один на утесах.
МАНФРЕД.
Исчезли мною вызванные духи,
И тайные науки обманули.
Мое лекарство обратилось в муку,
Волшебной помощи не жду; y ней
Над прошлым власти нет, a то, что будет,
Мне все равно, пока все то, что было,
Во мраке не исчезнет. Мать земля!
И ты, рассвет румяный, и вы, горы,
Зачем прекрасны вы? Мне вас любить
Нельзя. Ты, око ясное вселенной,
Отверстие для всех и надо всеми,
Всем милое, ты в сердце мне не светишь;
И вы, вы, скалы, с высоты которых
Там, над потоком, сосны вековые
Мне кажутся ничтожными кустами
В ужасной глубине; один прыжок,
Одно движенье, ветра дуновенье
Могло б меня на каменной постели
На веки успокоить. Что ж я жду?
Влеченье есть, a я стою недвижно;
Опасность вижу – и не отступаю.
Кружится голова, a ноги тверды.
Так связанный невидимою силой,
Как раб и не хочу, a должен жить;
И это жизнь! – Носить внутри себя
Глухую пустоту, быть для себя
Своей могилой. Я уж перестал
В своих глазах оправдывать себя —
Последней слабости не знаю зла.
(Пролетает орел).
Крылатый вестник, ты сквозь облака
Полет счастливый направляешь в небо,
Я рад бы сделаться твоей добычей
И накормить твоих орлят. Исчез,
Уж я тебя не догоню и взглядом;
Но все для твоего доступно взора,
Внизу, вверху, кругом. – Как все прекрасно!
Какою красотою полон мир!
В его явлениях, в себе самом!
A мы зовем себя его царями?
Соединенье Божества и праха,
Борьба враждебных вечно элементов —
Мы смесь ничтожества с гордыней,
Желаний низких и высокой воли,
Пока в нас смертное не пересилит
И мы тогда не превратимся в то,
Что и самим себе назвать нам страшно,
(В отдалении слышится пастушья свирель).
Чу, горной музыки простые звуки —
Здесь дни патриархальные не сказка:
Звучат здесь в вольном воздухе напевы;
Под звон бубенчиков бродящих стад[4]4
Первые очерки этой и многих других швейцарских картин в «Манфреде» находятся, как указал и сам Байрон, в дневнике его путешествия по Швейцарии, пересланном им сестре. Вот несколько примеров:
«Сент. 19, 1816. – Подъехали к озеру, находящемуся на самой груди горы; оставили своих четвероногих на попечении пастуха я стали подниматься выше; подошли к снегу, лежавшему клочками, на которые пот с моего лба падал росой, оставляя следы точно мелкого сита. От снежной метели и ветра у меня закружилась голова, но я продолжал карабкаться все выше и выше. Гобгоуз добрался до самой верхушки… Весь этот горный пейзаж превосходен. На крутом и высоком утесе пастух заиграл на рожке; это совсем не похоже на Аркадию, где я видал пастухов с длинным мушкетом вместо посоха и с пистолетами за поясом… Звон бубенчиков на шее у коров (здесь все богатство, как у патриархов, заключается в стадах) на пастбищах, высота которых часто больше любой английской горы, восклицания пастухов на утесах, звуки свирели на скалах, казавшихся совершенно неприступными, и вообще вся окружавшая меня картина явились воплощением всего того, что я когда-либо слышал или воображал себе о пастушеской жизни, – воплощением, гораздо более полным, нежели в Греции или Малой Азии, где слишком много сабель и мушкетов, и если у пастуха в одной руке палка, то в другой уж, наверное, ружье; здесь же впечатление было свободно от всякой посторонней примеси – дико и вполне патриархально… Когда мы подошли, они стали играть Ranz des vaches и другие песни, в виде приветствия. Я напитал свой ум природой…».
[Закрыть] —
О, если б звуками дышать и быть
Незримым духом тихого напева,
Лишь голосом гармонии звучащей,
Блаженствуя, родясь и умирая
В ее звенящих тихо переливах.
(Снизу поднимается охотник за сернами).
ОХОТНИК.
Так, так и есть, я здесь обманут серной:
Следов уж нет; едва ли мне сегодня
Оплатится опасный труд. – Но кто там?
Он, кажется, не наш, a здесь достиг он
Таких высот, которых достигают
Из горцев и охотники не все.
Он мужествен и гордый вид имеет,
Как вольный гражданин; но далеко —
Я подойду к нему поближе.
МАНФРЕД (не замечая его).
Так от тоски седеть, как эти сосны,
Зимы нагие, жалкие остатки,[5]5
«Я проходил через целые леса иссохших, совсем иссохших сосен: стволы, лишенные коры, безжизненные ветви, – все это дело одной зимы… Их вид напомнил мне меня самого и мою семью…».
[Закрыть]
Как дерево погибшее, сухое,
Чей корень проклят был, и сознавать
Паденье – быть лишь этим, вечно этим,
Когда я был иным! Состариться
Не от годов, a от одних мгновений,
Переживать часы ползущие веками!..
Нависшие громады ледяные,
Сорваться с гор готовые лавины,
Неситесь, чтоб меня теперь засыпать.[6]6
«Поднялся на Венгерн-Альп; оставил лошадей, снял пальто и пошел на вершину. С одной стороны взорам открывалась Юнгфрау со всеми своими глетчерами; за нею блистал, подобно истине, Зильбергорн; дальше – Малый и Большой Шейдегг и, наконец, Веттергорн. Юнгфрау возвышается на 1300 футов над уровнем моря и на 1100 футов над долиной. Слышал падение лавин почти через каждые пять минут…».
[Закрыть]
Я слышу вас вверху и под собой,
Везде гремят тяжелые раскаты,
Но гибнет только то, что хочет жить:
Цветущие луга и поросли лесные,
И хижины безвинных поселян.
ОХОТНИК.
Туманы подниматься начинают,
Ему пора сойти, не то он может
Дорогу потерять, a с ней и жизнь.
МАНФРЕД.
Туман ползет, змеится ледниками
И подо мною тучи все горят.
То плещет океан глубокий ада;[7]7
«Облака поднимались из противоположной долины, извиваясь перпендикулярно над пропастями, словно пена адского океана в пору прилива; они были белые, с оттенком серы, и на вид неизмеримо глубокие. Склон, по которому мы поднимались, был, разумеется, не особенно крут; но, добравшись до вершины и взглянув через кипящее облачное море вниз, на противоположную сторону, мы увидели, что утесы, на которых мы стояли, с другой стороны падали совершенно отвесно…» (Дневник Байрона).
[Закрыть]
О берег жизни каждая волна
В нем разбивается с глухим ударом.
ОХОТНИК.
Мне подойти к нему придется осторожно:
Заслышав шаг, он оступиться может,
A он и так дрожит.
МАНФРЕД.
Когда-то горы
Обрушившись, столкнули и другие,
Обломками засыпали долины,
Потокам сразу путь загородили,
С землей и с камнями смешавши воды,
Заставив их искать другой дороги.
Ты это сделал в старину, Мон-Роз,[8]8
Ошибка переводчика. В подлиннике: «гора Розенберг», т. е. «Россберг», близ Гольдау, на ю.-в. Цугского озера (между тем как Мон-Роз или Монте-Роза находится в итальянской Швейцарии). Россберг обрушился 2 сентября 1806 г. Огромная масса утеса, в тысячу футов ширины и сто футов толщины, оторвалась от горы и скатилась в лежащую у подножия ее долину, на деревни Гольдау, Вузинген и Ротен, захватив также часть Ловерца. При этом погибло более 450 человек, и целые стада скота были уничтожены в какие-нибудь пять минут.
[Закрыть]
Зачем я не был там?
ОХОТНИК.
Друг, берегитесь!
Во имя Господа, что создал вас,
Не подходите к пропасти так близко.
МАНФРЕД (не слыша его).
Да, то была бы славная могила,
Спокойно в глубине лежало б тело,
A не разорванное все на части
По этим скалам на потеху ветру.
Прощай же ты, разверзшееся небо,
И не смотри сюда с таким упреком,
Тебе я чужд. Земля, прими мой прах!
(В то время как Манфред готов спрыгнут со скалы, охотник внезапно схватывает и удерживает его).
ОХОТНИК.
Безумец, стой! Хоть жизнь тебе постыла —
Ты наших гор не запятнаешь кровью.
Иди со мной, тебя я не пущу.
МАНФРЕД.
Я сердцем болен тяжело, пусти!
Да, я совсем ослаб. Кружатся горы.
Я больше ничего не вижу. Кто ты?
ОХОТНИК.
Сейчас отвечу, a теперь за мной.
Все гуще облака – вот так, держитесь,
Ногой сюда; возьмите эту палку
И там скорее этот куст хватайте.
За пояс мой держитесь. Тише. Так.
Мы через час уже должны быть дома.
Идти там дальше будет много легче.
Поток там проложил себе дорогу
Зимою. Так, вот это хорошо —
Из вас охотник вышел бы хороший.
(Пока они с трудом сходят, занавес опускается).
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
СЦЕНА I
Хижина в Бернских Альпах. – Манфред и охотник за сернами.
ОХОТНИК.
Нет, подожди, ты должен отдохнуть, —
В тебе и дух, и тело не способны
Друг друга охранять, хоть несколько часов.
Когда оправишься, я провожу…
Куда?
МАНФРЕД.
Не надо, я дорогу знаю,
И мне не нужен больше проводник.
ОХОТНИК.
Ты рода знатного – и это видно
В одежде и в походке; ты из тех,
Кому в горах принадлежат те замки,
Что смотрят сверху в нижние долины.
Которого ж из них хозяин ты?
Я редко в них вхожу, но мне случалось
В прихожих там погреться или выпить.
И все пути туда я знаю с детства…
Который же тебе принадлежит?
МАНФРЕД.
Не все ль равно?
ОХОТНИК.
Простите мой вопрос.
Прошу вина отведать моего;
Оно старинное и мне не раз
Согрело кровь средь наших ледников,
Теперь пусть вам поможет. Выпьем, право.
МАНФРЕД.
Прочь, прочь! Там кровь алеет по краям!
Ужели ей вовек не скрыться в землю?
ОХОТНИК.
Что хочешь ты сказать? Ты, видно, бредишь.
МАНФРЕД.
Кровь, кровь моя, горячий, чистый ключ
Струившийся в груди отцов и в нашей,
Когда мы были молоды, и сердце
Одно в нас билось, и любили мы
Друг друга, как нельзя любить,[9]9
Большинство критиков прошло молчанием этот намек на кровосмесительную связь Манфреда с Астартой, но многие напали за это на Байрона. Шелли, в письме к г-же Джисборн от 16 ноября 1819 г., говоря о трагедии Кальдерона «Волосы Авессалома», между прочим, говорит: «Кровосмешение, подобно многим другим некорректным поступкам, есть обстоятельство весьма поэтическое. Оно может быть или гордым вызовом всему окружающему и облекаться в славу высокого героизма, или циническою похотью, которая, смешивая понятия о добре и зле, пренебрегает ими ради эгоистических побуждений».
[Закрыть]
Кровь пролилась тогда, – теперь она встает
Там в облаках, что между мной и небом,
Где нет тебя, я ж никогда не буду.
ОХОТНИК.
Ты человек загадочных речей,
Какого-то ужасного греха.
Каков бы ни был страх твой или мука —
Надейся на небесное терпенье.
МАНФРЕД.
Терпение, терпение! вот слово
Для вьючного скота, a не для хищной птицы.
Пред смертными такими же, как ты,
Хвали его, – я не твоей породы.
ОХОТНИК.
Слава Богу!
Я не взял бы и славы Вильгельм Телля,
Чтоб быть таким, как ты; но свое бремя
Нести ты должен, – ропот не поможет.
МАНФРЕД.
Я и несу его; смотри: я жив.
ОХОТНИК.
Нет, это судороги, a не жизнь.
МАНФРЕД.
Скажу тебе, я прожил много лет
И длинных лет, но все они ничто
В сравненье с тем, что надо пережить:
Века, пространство – вечность и сознанье,
И в нем одна лишь только жажда смерти.
ОХОТНИК.
Но ты на вид едва достиг лишь средних лет,
И я тебя должно быть много старше.
МАНФРЕД.
По-твоему, жизнь созидает время?
Пожалуй, да, но в ней дела – эпохи,
Мои ж дела живут и дни, и ночи
Несчетные, и как песок морской
Все те же вечно, вечно без конца.
Нагая и холодная пустыня,
Где разбиваются со злобой волны
И оставляют лишь одни обломки,
Каменья, горечь едкую отлива.
ОХОТНИК.
Помешан он: его нельзя оставить.
МАНФРЕД.
О, если б так, тогда бы все, что вижу, —
Все было б только тяжким бредом.
ОХОТНИК.
Что?
Что видишь ты, что чудится тебе?
МАНФРЕД.
Я сам и ты, простой и честный горец,
И дом твой скромный и гостеприимный,
Твой дух свободный, твердый, терпеливый,
Безвинность, уважение к себе,
Здоровье днем и сон спокойный ночью;
И промысел твой честный, хоть опасный;
Надежда старость видеть и могилу
Спокойную с гирляндою цветов
И дорогою памятью внучат:
Вот что я вижу здесь – a там, внутри,
Не все ль равно?… Душа уж сожжена.
ОХОТНИК.
И ты со мной судьбой бы поменялся?
МАНФРЕД.
Нет, друг! Я не хочу тебя обидеть, —
Не стану жребием ни с кем меняться;
Хоть и с трудом, но в жизни я несу,
Что и во сне другие не снесли бы, —
Погибли бы, не просыпаясь.
ОХОТНИК.
И ты
С такими чувствами и состраданьем,
Ты злом проникнут весь? Не говори.
Возможно ль, чтоб из чувства страшной мести
Ты погубил врагов?
МАНФРЕД.
О, нет, нет, нет!
Я погубил лишь тех, кому был дорог,
Кого любил, – я убивал врагов,
Лишь защищаясь сам от нападений.
Но были гибельны мои объятья.
ОХОТНИК.
Спаси, тебя Господь! Ты сам покайся,
A я молиться буду за тебя.
МАНФРЕД.
Не надо, – но снести могу я жалость.
Прощай, пора!.. Вот золото, возьми,
Спасибо… Благодарности не надо:
Ты заслужил его… Теперь прощай,
Не провожай: я здесь дорогу знаю.
(Exit Манфред).
СЦЕНА II[10]10
«Эта сцена – одна из самых поэтических и наиболее удачно написанных во всей поэме. Спокойное уединение места действия проникнуто тихим и чарующим волшебством, и с этой очаровательной картиной вполне гармонирует появление среди нее существа, одаренного небесною красотою». (Джеффри).
[Закрыть]
Нижняя долина в Альпах. Водопад.
Входит МАНФРЕД.
И полдня нет; лучи косые солнца
Блестящей радугой над водопадом
Стоят,[11]11
«Эта радуга образуется солнечными лучами в нижней части альпийских водопадов. Она совершенно сходна с небесной радугой, – как будто бы эта последняя спустилась на землю, – и находится так близко, что вы можете пройти под нею. Это зрелище длится до полудня». (Прим. Байрона).
«Прежде, чем подниматься на гору, пошел к водопаду. Солнце, поднявшись над ним, образовало в нижней его части радугу всех цветов, особенно же – красного и золотого; эта радуга движется по мере того, как вы сами двигаетесь. Я никогда не видал ничего подобного». (Дневник Байрона).
[Закрыть] a он серебряные воды
Со скал, кипя и пенясь, мечет в бездну,
И там, как дым густой, клубятся брызги,
Колеблясь, будто хвост того коня,
На нем же в день последний смерть воссядет,[12]12
«Дошли до подножия горы Юнгфрау (т. е. Девы); ледники; водопады; видимое падение одного из этих водопадов – 900 футов вышины… Слышал падение лавины, подобное грому; видел ледник – огромный. Началась буря, с громом, молнией и градом; все было великолепно. Водопад вьется по скале, словно хвост бедой лошади, развевающийся по ветру; таким можно себе представить хвост «бледного коня», на котором несется Смерть в Апокалипсисе. Это – и не туман, и не вода, а что-то среднее между ними. Высота его огромна… В одном месте он кажется волною, в другом – потоком, в третьем – облаком; зрелище удивительное и неописуемое». (Дневник Байрона).
[Закрыть]
Как в Откровении написано.
Один, любуюсь этою картиной,
Но дань сверкающих, шумящих вод
С их духом разделю… Позвать ее.
(Манфред зачерпывает горстью воды и бросает ее в воздух, тихо произнося заклинания; через некоторое время фея Альп появляется под радугой водопада).
Прекрасный дух с лучистыми кудрями,
С очами полными огня, чьи формы
Возводят прелести земных красавиц
До красоты небесной, неземной,
В стихии чистой ты сияешь,
Вся в блеске этих радужных огней
Зарделась, как ребенок, мирно спящий
В объятиях y матери своей,
Как те снега, когда заря мгновенно
Охватит неприступные вершины,
Земли румянец при объятьях неба.
Перед твоею красотой бледнеет
И радуга, что блещет над тобой,[13]13
«Во всех героях Байрона мы узнаем, хотя и в бесконечно разнообразных изменениях, черты все одного и того же величественного характера: высокое и смелое мнение об умственной силе, напряженную чувствительность страсти, почти безграничную способность к бурным волнениям, преклонение пред величием свободной силы и в особенности – наслаждение красотой, составляющее кровную, душевную потребность. «Паризина» им переполнена; им проникнута почти каждая страница «Шильонского Узника»; но в «Манфреде» это чувство красоты так и рвется наружу, и кипит среди потоков, водопадов, утесов, гор и облаков. Байрон вложил в характер Манфреда гораздо больше собственной своей личности, нежели в прочие свои создания. Здесь он с удивительной мощью сумел придать реальные формы метафизическим понятиям, и мы не знаем другого поэтического произведения, в котором картина внешней природы была бы так ярко освещена столь прекрасным, торжественным и величественным чувством. Эту поэму, вместе с «Чайльд-Гарольдом», мы прежде всего рекомендуем прочесть иностранцу, желающему составить себе верное понятие о Байроне. Шекспир умел придавать возникающим в нашем уме отвлеченным идеям формы столь же определенные, ясные и блистательные, в каких он изображал идеализированные явления внешней природы. Прекрасное существо Ариеля рисуется перед нами в собственных его словах. В «Манфреде» мы видим превосходные, хотя еще и не совсем зрелые, проявления подобной же творческой силы. Здесь поэт с наслаждением воплощает собственные мысли, чувства и фантазии в видимые образы, которые мы можем, так сказать, осязать и представлять себе живыми существами. Прекрасная фея Альпов является как бы дыханием лучезарного водопада, – как будто бы очи поэта, не насытившись созерцанием бездушной красоты природы, вызвали перед собою этот милый призрак для того, чтобы удовлетворить чистое стремление души к прекрасному». (Вильсон).
[Закрыть]
Прекрасный дух; в твоих очах глубоких,
Где светится спокойствие души
И ясно так бессмертие сквозит, —
Прощение тому уж я читаю.
Кому подчас таинственные силы
Дают возможность быть в общенье с ними.
Да, ты простишь теперь мне этот вызов,
Чтоб на тебя взглянуть.
ФЕЯ.
Тебя я знаю,
О, сын земли! И знаю тех, кто дал
Тебе твое могущество; я знаю —
Ты человек и мысли, и решенья,
Добра и зла – и крайний в них обоих,
Муж роковой и роком обреченный.
Да, я тебя ждала, чего ж ты хочешь?
МАНФРЕД.
Смотреть на красоту твою – и только.[14]14
«Во всей этой сцене есть нечто исключительно прекрасное. Как появление феи, так и разговор с нею Манфреда написаны таким образом, что их невероятность забывается, благодаря их красоте, и не веря, конечно, в существование подобных призраков, мы все-таки испытываем такое чувство, как будто бы эти призраки действительно стоят перед нами». (Джеффри).
[Закрыть]
Лицо земли мне стало ненавистно,
И я проникнул в то, что сокровенно, —
В жилища тех, кто управляет ею,
Но и они не могут мне помочь,
Не могут дать того, чего искал я
И перестал искать.
ФЕЯ.
Чего же дать
Не могут те, кто всех сильнее в мире
И управляют всем незримым?
МАНФРЕД.
Дара…
Но для чего мне повторять? Напрасно…
ФЕЯ.
Я ничего не знаю. Говори.
МАНФРЕД.
Что ж, хорошо – пусть это будет мукой,
Но пусть исход она найдет хоть в речи.
И в юности я не стремился к людям
И не глядел на землю их очами;
Их честолюбье не было моим,
Их цели жизни мне казались чужды;
Все – радости, и скорбь, и страсть, и сила —
Все делало меня чужим для них.
Я образ смертного носил, но плоть живая
Сочувствия во мне не вызывала.
Среди существ телесных, лишь одна…
Но нет, о ней потом, – что до людей,
Как я сказал, я с ними знался мало.
Отрадно было мне в пустыне дикой
Дышать морозным воздухом вершин,
Где птицы гнезд не вьют и мотыльки
Над голым камнем не порхают;
Любил я плыть один в водах потока
Меж острых камней и водоворотов,
Иль по волнам ревущим океана, —
Так сила юная во мне кипела;
То ночью за движением луны
Я пристально следил, то ждал,
Чтоб молния меня вдруг ослепила;
То чутко слушал шелест желтых листьев,
Когда, свистя, их ветер гнал осенний.
Вот чем был занят я, – я был один
И, встретив тех существ, к которым я
Принадлежал, – как ни томился этим, —
Я чувствовал, что сам я опускаюсь
И прахом становлюсь. И я тогда
Все глубже погружался в царство смерти,
Искал ее причин, ее последствий,
Из вида черепов, костей и праха
Запретное я сделал заключенье.[15]15
Ср. «Чайльд-Гарольда», п. II, строфы 5-10 (наст. изд. т. I, стр. 51–52).
[Закрыть]
Так много лет я ночи проводил
Над позабытой с древности наукой;
Трудом упорным, тяжким испытаньем
Я силу приобрел над поднебесной,
Над духами в пространстве бесконечном
Что населяют все; я приучил
Глаза свои смотреть на вечность,
Как это делали когда-то маги,
Что заклинаньями умели вызвать
И Эрос, и Антэрос y Гадары,[16]16
«Философ Ямвлих. История о вызывании Эроса и Антэроса находится в его жизнеописании, составленном Эвнанием. Она рассказана хорошо». (Прим. Байрона).
«Рассказывают о нем, – говорит Эвнаний, – что когда он со своими учениками купался в теплых источниках Гадары, в Сирии, между ними начался разговор об этих источниках, и Ямвлих, улыбаясь, приказал ученикам спросить у местных жителей, как называются два меньших ключа, которые были красивее остальных. Те отвечали, что один ключ зовется «Любовью» (Эрос), а другой – «Противолюбовью» (Антэрос), а почему они так называются, неизвестно. Тогда Ямвлих, сидевший в это время на берегу источника, у самой воды, положил руку на воду и, произнеся несколько слов, вызвал из глубины источника красивого мальчика, невысокого роста, с золотистыми кудрями, падавшими на грудь и спину; затем подойдя к другому источнику и сделав то же самое, он вызвал оттуда другого такого же мальчика, у которого кудри казались то черными то золотистыми. Оба эти Купидона прижались к Ямвлиху и стали бегать вокруг него, словно его собственные дети. После этого ученики уже не задавали ему никаких вопросов».
[Закрыть]
Как я тебя;– и с каждым днем росла
И жажда знания, и власть, и радость
Все глубже понимать, пока…
ФЕЯ.
Ну, что ж?
МАНФРЕД.
Я речь свою затягивал так долго,
Не нужные подробности упоминая,
Лишь потому, что подходил к моей печали.
Но дальше. Я тебе не называл
Отца и мать, ни милой, ни друзей
И ни одной привязанности цепи;
Их не было, иль я не видел их,
Одна…
ФЕЯ.
Себя ты не щади… Что дальше?
МАНФРЕД.
Она была со мною схожа всем:
ее глаза, и волосы, и облик,
И даже голос – все такое ж было
И только красотою смягчено;
Такие ж одинокие мечтанья
И жажда тайных знаний; ум способный,
Как мой, проникнуть в глубину вселенной,
И то в ней было, что мне недоступно:
Улыбка, жалость, слезы – я не знал их —
И нежность – y меня лишь к ней одной —
И мне совсем неведомая скромность.
ее грехи моими были – прелесть
Лишь ей одной принадлежала – полюбив…
Ее убил я!
ФЕЯ.
Как, своей рукой?
МАНФРЕД.
Разбил я сердцем сердце… В грудь мою
Оно лишь заглянуло и завяло. Кровь
Я проливал, но не ее, a кровь
ее лилась, и я не мог помочь.
ФЕЯ.
И ради одного из тех созданий,
Что презираешь ты, желая семь
Возвыситься, смешаться с нами, ты
Дарами знанья высшего пренебрегаешь?
К ничтожеству стремишься вновь? Ступай!
МАНФРЕД.
Дочь воздуха, уж я сказал: с тех пор…
Но что слова! Взгляни в мой сон,
Когда я сплю, иль проследи за бденьем!
Я в одиночестве уж не один,
Я фурий вижу. Ночи напролет
Зубами скрежетал и дни потом
Я проклинал себя и о безумстве
Молился как о высшей благодати —
Никто мольбе моей не внял. Я смерти
Искал, но среди гроз, в борьбе стихий
Прочь от меня бежали сами волны,
И все смертельное скользило мимо.
И тут меня лишь за единый волос
Какой-то демон держит беспощадно,
Но он, как цепь железная, не рвется.
Вглубь фантазии я погрузился, —
Я ею прежде был богат как Крез,
Но как отлив она меня назад бросает
В пучину безысходной мысли.
С людьми смешался я – искал забвенья
Везде; но лишь не там, где есть оно,
A только в нем одном я и нуждался.
Но здесь моя наука и искусство
Кончаются – и нет нигде надежды,
A я живу, и вечно буду жить.
ФЕЯ.
Быть может, я могу тебе помочь.
МАНФРЕД.
Чтоб это сделать, ты теперь должна бы
Умерших снова воскресить иль с ними
Меня похоронить; о, сделай это,
Когда, где хочешь, только бы конец!
ФЕЯ.
Я в этом не властна; но если ты
Клянешься мне во всем повиноваться —
Исполнить я могу твое желанье.
МАНФРЕД.
Нет, никогда! Кому повиноваться?
Рабом тех духов быть, которым сам я
Повелеваю. Никогда!
ФЕЯ.
Так вот
Ответ твой и его ты не изменишь?
Подумай лучше.
МАНФРЕД.
Я уже сказал.
ФЕЯ.
Довольно! Я могу уйти?
МАНФРЕД.
Иди.
(Фея исчезает).
МАНФРЕД (один).
Мы лишь игрушки времени и страха;
Приходят дни – и дни проходят мимо;
Мы проклинаем жизнь, a смерть страшит нас.
Дни ненавистные идут без счета;
Как иго, жизни бремя давит сердце,
Оно то от тоски замрет, то бьется
От радости, чтоб в муке изнемочь.
Среди всех дней минувших и грядущих
(Нет в жизни настоящего) так мало,
Так мало можно насчитать таких,
Когда душа не жаждала бы смерти.
Но мы, как от потока ледяного,
Бежим от нее, хоть дрожь одно мгновенье.
Одно осталось мне в моей науке:
Умерших вызвать и спросить о том,
Что нас страшит… Могила? ведь страшнее
Ответа нет, a это лишь ничто.
A если не дадут совсем ответа…
Ответил же пророк давно умерший
Волшебнице Эндора; царь спартанский
Узнал судьбу от византийской девы,[17]17
«История спартанского царя Павзания (который начальствовал над греками в битве при Платее и впоследствии погиб за попытку изменить спартанцам) и Клеоники рассказана Плутархом в биографии Кимона и софистом Павзанием в его описании Греции. (Прим. Байрона). // Ср. выше (стр. XII) в выдержках из Гете.
[Закрыть]
Убив в неведенье, что было мило.
Он умер не прощенный, хоть и звал
На помощь Зевса и волхвов заставил
Творить над грозной тенью заклинанья,
Чтоб гнев ее смягчить или поставить
Предел для мести, и ответ
ее неясный позже оправдался.
Когда б я не жил, та, кого любил я,
Была б жива; когда б я не любил,
Она была бы до сих пор прекрасна,
Счастлива, счастье бы дарила. Что же
Она теперь? Страдает за меня?
Иль то, что страшно мыслить – иль ничто?
Я скоро буду звать и не напрасно,
A сам теперь страшусь того, что смею.
До сей поры смотреть я не боялся
На духов добрых или злых, теперь
Дрожу, и холод проникает в сердце;
Но все в душе я в силах превозмочь, —
Могу бороться с ужасом. Темнеет.
(Уходит).
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?