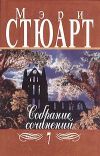Текст книги "Мидлмарч: Картины провинциальной жизни"

Автор книги: Джордж Элиот
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Глава XXII
И, говоря со мной так просто и так мило,
Творя добро одним своим незнаньем зла,
Она нечаянно все сердце мне раскрыла
И от щедрот его богато одарила.
Я слушал не дыша. Она была мила
И жизнь мою, о том не ведая, взяла.
Альфред де Мюссе
Во время обеда на следующий день Уилл Ладислав держался на редкость мило и не дал мистеру Кейсобону ни малейшего повода для выражения неудовольствия. Доротея даже решила, что Уилл, как никто другой, умеет вовлекать ее мужа в разговор и выслушивать его с почтительным вниманием. Впрочем, в Типтон-Грейндже у него не было достойных собеседников. Сам Уилл говорил довольно много, но несерьезно, как бы мимоходом – словно веселый бубенчик вторил звучному колоколу. Если Уилл и допускал кое-какие промахи, это все-таки был один из его удачных дней. Он описывал мелочи жизни римских бедняков, подметить которые мог только ничем не стесненный наблюдатель, выразил полное согласие, когда мистер Кейсобон упомянул о неверных представлениях Мидлтона касательно связи между католицизмом и иудаизмом, а затем в тоне полувосторженном-полушутливом непринужденно описал то удовольствие, какое он извлекает из римской пестроты, чьи постоянные контрасты не позволяют мысли окостенеть и избавляют вас от опасного заблуждения, будто историю прошлого можно разложить по коробочкам, как нечто мертвое и застывшее. Занятия мистера Кейсобона, заметил Уилл, всегда велись на самой широкой основе, и он, быть может, никогда ничего подобного не испытывал, но что до него, то Рим, должен он признаться, открыл ему совершенно новое ощущение истории как единого целого, а отдельные ее фрагменты стимулируют воображение и дают богатую пищу мыслям.
Время от времени – хотя и нечасто – Уилл обращался к Доротее и взвешивал ее суждения так, словно от них зависел окончательный приговор даже Мадонне ди Фолиньо или Лаокоону. Ощущение, что ты вносишь свой вклад в общее мнение, придает беседе особую прелесть, да и гордости мистера Кейсобона льстило, что его молодая жена умеет поддерживать умный разговор куда лучше большинства женщин, – недаром же он сделал ее своей избранницей!
Ни малейшая тень неудовольствия не омрачила обеда, и когда мистер Кейсобон сообщил, что намерен на день-другой прервать свои труды в библиотеке, а затем после краткого их возобновления покинуть Рим, где ему уже нечего будет делать, Уилл взял на себя смелость заметить, что миссис Кейсобон до отъезда непременно следовало бы посетить мастерскую какого-нибудь художника – и лучше не одну. Как считает мистер Кейсобон? Жаль упустить такую возможность: ведь это нечто совсем особенное – жизнь, подобная зеленой траве, полной жужжания насекомых среди величественных руин. Уилл был бы счастлив сопровождать их – не больше двух-трех мастерских, ровно столько, чтобы они не устали и не утратили интереса.
Мистер Кейсобон заметил умоляющий взгляд Доротеи и учтиво осведомился, не желает ли она поехать: он весь день будет в полном ее распоряжении. В конце концов было условлено, что Уилл зайдет за ними утром и будет их сопровождать.
Разумеется, Уилл не мог пропустить Торвальдсена – самого знаменитого из живших тогда ваятелей, о котором спросил сам мистер Кейсобон. Однако полдень еще не миновал, когда он повез их в мастерскую своего друга Адольфа Наумана, назвав его одним из виднейших обновителей христианского искусства, не только воскресивших, но и углубивших замечательное представление о священных событиях как о таинствах, к которым становятся причастны все последующие века, так что великие духом люди новых поколений делаются словно их современниками. Уилл добавил, что Науман был его учителем.
– Я сделал у него несколько этюдов маслом, – продолжал Уилл. – Всякое копирование мне претит. Я в любой набросок должен вкладывать что-то свое. Науман пишет «Святых, влекущих колесницу Церкви», а я написал этюд на тему, почерпнутую из Марло, – «Тамерлан в колеснице, запряженной побежденными царями». Я не разделяю екклесиастических увлечений Наумана и иногда посмеиваюсь над необъятностью смысла, который он пытается вложить в свои картины. Но теперь я решил превзойти даже его. Для меня Тамерлан в его колеснице знаменует неумолимый ход истории, чей кнут не щадит впряженные в нее династии. На мой взгляд, это недурное мифологическое истолкование. – Тут Уилл взглянул на мистера Кейсобона, который принял столь небрежное обхождение с символизмом без особого удовольствия и лишь вежливо наклонил голову.
– Набросок, несущий такой смысл, должен быть замечательным, – сказала Доротея. – Но мне хотелось бы, чтобы вы подробнее объяснили свой замысел. Ваш Тамерлан должен воплощать землетрясения и вулканы?
– Да-да! – ответил Уилл, смеясь. – А также переселение народов и расчистку лесов… и Америку, и паровоз. Короче говоря, все, что можно вообразить.
– Какой трудный алфавит! – сказала Доротея, улыбнувшись мужу. – Прочесть его смог бы только человек с вашими знаниями.
Мистер Кейсобон заморгал и покосился на Уилла. У него возникло подозрение, что над ним смеются. Впрочем, заподозрить в этом Доротею он не мог.
Они застали Наумана за мольбертом, но ему никто не позировал: его картины были расположены наивыгоднейшим образом, жемчужно-серая блуза и лиловая бархатная шапочка очень шли к его некрасивому, но выразительному лицу, – одним словом, все сложилось так удачно, как будто он ожидал красивую молодую англичанку именно к этому часу.
Художник объяснял сюжеты своих оконченных и неоконченных полотен, говоря по-английски с обычной уверенностью, и, казалось, рассматривал мистера Кейсобона не менее внимательно, чем Доротею. Уилл время от времени разражался пылкими похвалами, указывая на особые достоинства той или иной картины своего друга, и Доротея почувствовала, что начинает по-новому относиться к Мадоннам, почему-то сидящим на тронах под балдахинами среди скромных сельских пейзажей, и к святым с архитектурными моделями в руках или ножами, небрежно воткнутыми в их затылки. То, что прежде ей казалось чудовищно нелепым, становилось понятным, а иногда даже обретало глубокий смысл, но мистера Кейсобона эта отрасль знания, по-видимому, совершенно не интересовала.
– Мне кажется, я предпочла бы просто ощущать красоту картины, чем разгадывать ее как шараду, но подобные произведения я все-таки научусь понимать гораздо быстрее, чем ваши с их всеобъемлющим смыслом, – заметила Доротея, обернувшись к Уиллу.
– В присутствии Наумана о моих картинах лучше не упоминать, – сказал Уилл. – Он объяснит вам, что все они – Pfuscherei[18]18
Мазня (нем.).
[Закрыть], а более бранного слова в его лексиконе нет.
– Правда так? – спросила Доротея, глядя на Наумана серьезно и бесхитростно. Художник слегка поморщился и ответил:
– Живопись для него не призвание. Ему следует попробовать себя в литературе. Уж она-то достаточно ши-ирока-а.
В произношении Наумана последнее слово получилось насмешливо растянутым. Уиллу это не слишком понравилось, но он сумел засмеяться, и мистер Кейсобон, хотя немецкий выговор художника его раздражал, почувствовал некоторое уважение к строгости его суждений.
Уважение это не стало меньше, когда Науман отвел Уилла в сторону, поглядел на какое-то большое полотно, затем на мистера Кейсобона и, вернувшись к своим посетителям, сказал:
– По мнению моего друга Ладислава, вы извините меня, сударь, если я скажу, что набросок вашей головы был бы бесценен для фигуры святого Фомы Аквинского, над которой я сейчас работаю. Это значило бы чрезвычайно злоупотребить вашей любезностью, но я так редко вижу то, что мне нужно, – идеальное в реальном.
– Вы меня весьма удивили, сударь, – сказал мистер Кейсобон, но его щеки окрасил румянец удовольствия. – Однако, если моя физиономия, которую я привык считать самой заурядной, может подсказать вам какие-то черты ангельского доктора, я буду весьма польщен. То есть при условии, что это не займет много времени и что миссис Кейсобон не станет возражать против такой задержки.
Но Доротея была только очень рада – больше ее мог бы обрадовать разве что Божественный глас, который провозгласил бы мистера Кейсобона самым мудрым и достойным из сынов человеческих и вернул бы твердость ее поколебавшейся вере.
Все необходимые принадлежности были у Наумана под рукой просто в удивительной полноте, и он тотчас принялся за этюд, ни на минуту не прерывая их беседы. Доротея сидела в безмятежном молчании – она давно уже не чувствовала себя такой счастливой. Какие прекрасные люди! Только невежество, подумала она, помешало ей увидеть красоту Рима, ощутить, что его печаль овеяна надеждой. Ей была свойственна редкая доверчивость: в детстве она полагалась на благодарность ос и благородную чувствительность воробьев, а затем, когда они обманывали ее ожидания, в той же мере негодовала на их низость.
Хитрый художник задавал мистеру Кейсобону вопросы об английской политике и выслушивал длиннейшие ответы, а Уилл, примостившись на стремянке в углу, оглядывал общество со своей высоты.
Через некоторое время Науман сказал:
– Если бы я мог отложить этюд на полчаса, а затем еще раз над ним поработать… Погляди-ка, Ладислав! По-моему, лучшего пока трудно пожелать.
Уилл разразился междометиями, подразумевающими восторг, который невозможно выразить словами, а Науман жалобно вздохнул:
– Увы… вот если бы… Мне нужно еще только полчаса… Но вас ждут дела… Я не решаюсь затруднить вас такой просьбой… а о том, чтобы вы приехали завтра…
– Ах, останемся! – воскликнула Доротея. – У нас ведь сегодня нет никаких дел? – добавила она, умоляюще глядя на мистера Кейсобона. – Будет так жаль, если этюд останется незавершенным.
– Я к вашим услугам, сударь, – произнес мистер Кейсобон со снисходительной любезностью. – Раз моя голова сегодня внутри предается праздности, пусть поработает ее внешняя оболочка!
– Вы так добры! Теперь я счастлив! – воскликнул Науман, повернулся к Уиллу и продолжал по-немецки, указывая на этюд, словно что-то требовало обсуждения. Затем отложил его и рассеянно поглядел по сторонам, как будто раздумывая, чем занять своих посетителей. И наконец сказал, обращаясь к мистеру Кейсобону:
– Может быть, прекрасная новобрачная, милостивая госпожа не откажет мне в разрешении сделать с нее набросок, чтобы как-то заполнить эти полчаса. Не для картины, разумеется, а так просто.
Мистер Кейсобон с поклоном выразил уверенность, что миссис Кейсобон сделает ему это одолжение, и Доротея тотчас спросила:
– Где мне сесть?
Науман, рассыпаясь в извинениях, попросил ее встать и позволить ему придать ей требуемую позу, что она и сделала, обойдясь без преувеличенных жестов и смешков, которые почему-то считаются обязательными в подобных случаях. Художник пояснил:
– Я хочу, чтобы вы приняли позу святой Клары. Наклонитесь, вот так, ладонь приложите к щеке… Да-да, так. Смотрите, пожалуйста, на тот табурет… Вот так!
Уилл боролся с желанием пасть к ногам святой и облобызать край ее одеяния, а также с искушением закатить пощечину Науману, который взял ее за локоть, показывая, как нужно согнуть руку. Какая наглость! И какое кощунство! Зачем только он привез ее сюда?
Художник работал с увлечением, и Уилл, опомнившись, спрыгнул со стремянки и постарался занять мистера Кейсобона разговором. Однако, несмотря на его усилия, время для этого последнего, по-видимому, тянулось нестерпимо медленно: во всяком случае, он выразил опасение, что миссис Кейсобон, наверное, устала. Науман не стал злоупотреблять его терпением и сказал:
– А теперь, сударь, если вы опять готовы оказать мне одолжение, я освобожу вашу супругу.
И мистер Кейсобон перестал торопиться, а когда тем не менее выяснилось, что голове святого Фомы Аквинского для полного совершенства требуется еще сеанс, он изъявил согласие попозировать и на следующий день. Во время этого второго сеанса святая Клара также получила не одно исправление. Конечный результат настолько угодил мистеру Кейсобону, что он решил приобрести полотно, на котором святой Фома Аквинский в обществе других богословов вел диспут, слишком отвлеченный, чтобы его можно было изобразить, но более или менее интересный для слушателей на галерее. Святой же Кларой Науман остался (по его словам) весьма недоволен и не мог обещать, что сумеет превратить набросок в хорошую картину, а потому дальше предварительных переговоров дело не пошло.
Я не стану останавливаться ни на шуточках по адресу мистера Кейсобона, которые Науман отпускал вечером, ни на его дифирамбах очарованию Доротеи. Уилл присоединялся к нему и в том и в другом, но с одним различием. Стоило Науману упомянуть ту или иную особенность ее красоты, как Уилл начинал негодовать на его дерзость: самые обычные слова тут звучали грубостью, да и какое право имеет он обсуждать ее губы? О ней нельзя говорить, как о других женщинах. Уилл не мог прямо высказать то, что чувствовал, но его душило раздражение. А ведь когда после некоторого сопротивления он согласился привезти мистера Кейсобона с супругой в мастерскую своего друга, согласие это во многом было продиктовано гордостью при мысли, что именно он дает Науману возможность изучить ее красоту… нет, ее божественную внешность, ибо к ней неприложимы эпитеты и сравнения, предназначенные для описания только телесной прелести. (Бесспорно, обитатели Типтон-Грейнджа и его окрестностей, как и сама Доротея, весьма удивились бы подобному преклонению перед ее красотой. В тех краях мисс Брук считалась всего лишь «хорошенькой».)
– Сделай милость, оставь эту тему, Науман. Миссис Кейсобон нельзя обсуждать, словно простую натурщицу, – объявил Уилл, и Науман уставился на него с недоумением.
– Schön![19]19
Ладно! (нем.)
[Закрыть] Я буду говорить о моем Аквинате. Как тип голова вовсе не так уж плоха. Сам великий схоласт тоже, наверное, был бы польщен, если бы его попросили позировать для портрета. Чего-чего, а уж тщеславия у этих накрахмаленных ученых мужей предостаточно. Как я и думал, ее портрет был ему интересен куда меньше его собственного.
– Проклятый самодовольный педант с водой в жилах вместо крови! – воскликнул Уилл, чуть не скрежеща зубами. Его собеседник ничего не знал о том, какими обязательствами он связан с мистером Кейсобоном, но Уилл как раз вспомнил о них и пожалел, что не может тут же выписать чек, чтобы возместить мистеру Кейсобону эти расходы.
Науман пожал плечами:
– Хорошо, что они скоро уезжают, мой милый. Из-за них твой прекрасный характер начинает портиться.
Все надежды и усилия Уилла были теперь сосредоточены на том, чтобы увидеть Доротею, когда она будет одна. Ему хотелось стать для нее хоть чем-то – пусть он запечатлеется в ее памяти более ясно, а не останется всего лишь мимолетным воспоминанием. Ее безыскусственной доброжелательности ему было мало: он понимал, что так она относится ко всем. Преклонение перед женщиной, вознесенной на недосягаемую для них высоту, играет большую роль в жизни мужчин, но, преклоняясь, они почти всегда жаждут быть замеченными своей царицей, жаждут какого-нибудь знака одобрения от владычицы своей души, который она может подать, не сходя с престола. Именно этого и хотел Уилл. Однако в его мысленных требованиях было немало противоречий. Когда глаза Доротеи обращались на мистера Кейсобона с супружеской тревогой или мольбой, это было прекрасно: она утратила бы часть своего ореола, если бы менее строго следовала велениям брачного долга, и тем не менее в следующий миг Уилл выходил из себя – ведь подобный нектар изливался на песок пустыни! И желание обрушить язвящие слова на мужа, который не стоил ее мизинца, было тем мучительней, что веские причины вынуждали его оставлять эти слова невысказанными.
К обеду на следующий день Уилла не пригласили, а потому он убедил себя, что по долгу вежливости должен явиться с визитом, приурочив его к дневным часам, когда мистера Кейсобона не будет дома.
Доротея, оставшаяся в неведении о том, что, приняв Уилла в прошлый раз, она вызвала неудовольствие мужа, вновь без колебаний приняла его – ведь к тому же визит этот мог быть прощальным. Когда Уилл вошел, она перебирала камеи, которые купила для Селии. Непринужденно поздоровавшись с ним, она показала ему браслет с камеей, который держала в руке, и сказала:
– Я так рада, что вы пришли! Может быть, вы разбираетесь в камеях и подтвердите, что они действительно неплохи. Мне хотелось заехать за вами, когда мы отправлялись их покупать, но мистер Кейсобон сказал, что у нас нет на это времени. Свои занятия здесь он завершает завтра, и через три дня мы уезжаем. Но я как-то не уверена в этих камеях. Садитесь же, прошу вас, и поглядите на них.
– Я далеко не знаток, но в геммах на гомеровские темы ошибиться трудно. Они на редкость хороши. И такие прекрасные оттенки, словно созданные для вас.
– О, это подарок моей сестре, а у нее совсем другой цвет лица. Вы видели ее тогда со мной в Лоуике – у нее белокурые волосы, и она очень хороша собой, во всяком случае по моему мнению. Мы никогда еще не разлучались так надолго. Она удивительно милая и добрая. Перед отъездом мне удалось узнать, что ей хотелось бы иметь камеи. Вот почему меня огорчило бы, если бы они оказались недостаточно хорошими… для камей, – с улыбкой добавила Доротея.
– Значит, вам камеи не нравятся? – сказал Уилл, садясь в некотором отдалении от нее и следя, как она закрывает коробочки.
– Да. Откровенно говоря, они не представляются мне столь уж важными для человеческой жизни, – ответила Доротея.
– Боюсь, ваши взгляды на искусство вообще весьма еретичны. Но почему? Мне кажется, вы должны тонко чувствовать красоту, в чем бы она ни таилась.
– Вероятно, я во многих отношениях очень тупа, – сказала Доротея просто. – Мне хотелось бы сделать жизнь красивой, то есть жизнь всех людей. Ну а колоссальная дороговизна искусства, которое словно лежит вне жизни и нисколько не улучшает мир, – от этого делается больно. Я помню, что оно недоступно большинству людей, и эта мысль портит мне всю радость.
– По-моему, такое сочувствие граничит с фанатизмом, – горячо сказал Уилл. – То же можно сказать о красивых пейзажах, о поэзии, обо всем прекрасном. Если вы будете последовательны, то должны ополчиться против собственной доброты и стать злой, лишь бы не иметь преимущества перед другими людьми. Нет, истинное благочестие в том, чтобы радоваться – когда можно. Это значит, что вы делаете все от вас зависящее, чтобы спасти репутацию Земли как приятной планеты. Радость заразительна. Невозможно взять на себя бремя забот обо всем мире, вы куда больше помогаете ему, когда радуетесь – искусству ли или чему-нибудь еще. Неужто вы хотели бы преобразить всю юность мира в трагический хор, стенающий по поводу горестей и бед или выводящий из них мораль? Боюсь, вы ложно веруете, будто всякое несчастье уже добродетель, и хотите превратить свою жизнь в мученичество. – Уилл спохватился, что зашел дальше, чем намеревался, и умолк. Но Доротея поняла его слова по-своему, а потому ответила с полным спокойствием:
– Вы ошибаетесь. Я вовсе не скорбное меланхолическое создание и редко грущу подолгу. Я легко сержусь и совершаю далеко не лучшие поступки – не то что Селия. Я вспыхиваю, а потом все вновь кажется мне прекрасным. Я не могу не верить в то, что существует высокое и прекрасное. И здесь я была бы готова радоваться искусству, но слишком многое остается мне непонятным, слишком многое кажется мне восхвалением безобразия, а не красоты. Пусть картины и статуи великолепны, но вложенные в них чувства часто низменны, грубы, а порой и нелепы. Иногда я вижу перед собой что-то воистину благородное, что-то, что пробуждает во мне такие же чувства, как Альбанские горы или закат солнца на холме Пинчо. Но тем обиднее, что среди всей этой массы вещей, в которые люди вложили столько старания и труда, мало по-настоящему хорошего.
– Разумеется, скверных произведений всегда много, зато это почва, на которой произрастают более прекрасные и редкие цветы.
– Да-да, – сказала Доротея, увидя в его словах подтверждение того, что особенно ее тревожило. – Я понимаю, как трудно сделать что-либо хорошо. С тех пор как мы приехали в Рим, мне часто кажется, что наши жизни, если бы их можно было повесить на стену, в подавляющем большинстве выглядели бы много безобразнее и нелепее картин.
Доротея, казалось, хотела сказать что-то еще, но передумала и замолчала.
– Но вы так молоды… Подобные мысли в ваши лета неестественны, – решительно заявил Уилл, встряхивая головой. – Вы говорите так, словно вообще не знали юности. Это чудовищно! Словно вы, подобно мальчику из легенды, узрели в детстве ужасы подземного царства. Вас воспитывали в тех ужасных представлениях, которые, точно Минотавр, избирают прекраснейших женщин, чтобы пожрать их. А теперь вы уезжаете и вас запрут в каменной темнице Лоуика. Вы будете погребены заживо. Я прихожу в бешенство при одной мысли об этом! Лучше бы я вовсе вас не знал, чем думать, что вас ждет подобное будущее!
Уилл вновь испугался, что зашел слишком далеко. Но смысл, вкладываемый нами в слова, зависит от состояния наших чувств, а его тон гневного сожаления был так внятен сердцу Доротеи, которое щедро дарило свой пыл и не находило ответного пыла в сердцах тех, кто ее окружал, что она ощутила неведомую ей прежде благодарность и ответила с мягкой улыбкой:
– Вы очень добры, но не надо из-за меня тревожиться. Все дело в том, что Лоуик вам не нравится, вас влечет иная жизнь. Я же избрала Лоуик своим домом.
Последняя фраза была произнесена почти торжественно, и Уилл не нашелся что ответить: припасть к ее туфелькам и объявить о своей готовности умереть за нее он не мог – что толку? Да и она, по-видимому, ни в чем подобном не нуждается. На минуту воцарилось молчание, а затем Доротея вновь заговорила – и было ясно, что она решилась наконец высказать то, что занимало ее больше всего:
– Мне хотелось бы спросить вас о том, что вы сказали в прошлый раз. Может быть, дело просто в вашей манере выражаться. Я замечаю, что вам свойственна некоторая горячность. Я и сама часто преувеличиваю, когда увлекаюсь.
– Но что вы имеете в виду? – сказал Уилл, заметив, что она говорит со странной для нее робостью. – Мой язык склонен к гиперболичности и сам себя подстегивает. Вполне возможно, что мне придется взять свои слова назад.
– Вот вы говорили, что надо знать немецкий, то есть для занятий предметами, которым посвятил себя мистер Кейсобон. Я думала об этом, и мне кажется, широта знаний мистера Кейсобона позволяет ему работать над теми же материалами, какими пользуются немецкие ученые… – Доротея растерянно заметила, что наводит справки о степени учености мистера Кейсобона у постороннего человека.
– Ну, не совсем над теми же, – ответил Уилл, стараясь быть сдержанным. – Он ведь не знаток Востока и сам указывает, что сведения об этих источниках получает из вторых рук.
– Но ведь есть ценные старые книги о древних временах, написанные учеными, которые ничего не знали о нынешних открытиях, и этими книгами пользуются до сих пор. Отчего же книге мистера Кейсобона не быть столь же ценной? – с жаром спросила Доротея. Она чувствовала неодолимую потребность продолжить вслух спор, который вела сама с собой.
– Это зависит от направления исследований, – ответил Уилл, заражаясь ее горячностью. – Предмет, который избрал мистер Кейсобон, меняется не менее, чем химия: новые открытия постоянно порождают новые точки зрения. Кому нужна в наши дни еще одна система, опирающаяся на четыре элемента, или трактат против Парацельса? Неужели вы не видите, насколько бессмысленно теперь ползти чуть дальше людей прошлого века – таких, как Брайант, – и исправлять их ошибки? Жить на чердаке среди старого хлама и подновлять хромоногие теории о Куше и Мицраиме?
– Как вы можете говорить об этом так легко? – спросила Доротея, глядя на него с грустным упреком. – Если вы правы, то что может быть печальнее, когда столь упорный и самозабвенный труд оказывается напрасным? Не понимаю, почему вас совсем не трогает – если вы действительно это думаете, – что человек такой добродетельный, талантливый и ученый, как мистер Кейсобон, не сумел преуспеть в том, чему отдал свои лучшие годы.
Доротея растерялась, заметив, до какого предположения она дошла, и вознегодовала на Уилла за то, что он ее на это подтолкнул.
– Вы же меня спрашивали о фактах, а не о чувствах, – ответил Уилл. – Но если вы хотите карать меня за факты, я покоряюсь. Я не в том положении, чтобы высказывать свои чувства по отношению к мистеру Кейсобону. В лучшем случае это будут восхваления облагодетельствованного.
– Простите меня, – сказала Доротея, густо краснея. – Я понимаю, что вы правы, и мне не следовало касаться этой темы. К тому же я ошибаюсь. Потерпеть неудачу после длительных стараний куда достойней, чем вообще ни к чему не стремиться.
– Я совершенно с вами согласен, – ответил Уилл, стараясь поправить дело. – И решил не лишать себя больше возможности потерпеть неудачу. Пожалуй, щедрость мистера Кейсобона была для меня вредна, и я намерен отказаться от свободы, которую она мне давала. В ближайшее время я вернусь в Англию и начну сам пролагать себе дорогу, чтобы не зависеть ни от кого, кроме самого себя.
– Это прекрасно, я уважаю такое чувство, – сказала Доротея с прежней ласковостью. – Но я убеждена, что мистер Кейсобон всегда думал только о том, чтобы помочь вам.
«У нее хватит упрямства и гордости служить ему и не любя, раз уж она вышла за него», – подумал Уилл, а вслух сказал, вставая:
– Я больше вас не увижу…
– Не уходите, не дождавшись мистера Кейсобона! – сказала Доротея со всей искренностью. – Я очень рада, что мы встретились в Риме. Мне хотелось узнать вас покороче.
– А я заставил вас рассердиться, – сказал Уилл. – И вы будете дурно обо мне думать.
– Нет-нет. Сестра предупреждала меня, что я всегда сержусь на тех, кто не говорит того, что мне хотелось бы услышать. Но надеюсь, я все же не думаю о них дурно. В конце концов я обычно начинаю сердиться на себя за нетерпимость.
– Тем не менее я вам не нравлюсь. Теперь я связан для вас с неприятными мыслями.
– Вовсе нет, – искренне ответила Доротея. – Вы мне очень нравитесь.
Уилл не слишком этому обрадовался; ему пришло в голову, что если бы он не нравился ей, то, наверное, значил бы для нее больше. Он промолчал, но лицо его стало хмурым, почти обиженным.
– И мне очень хочется узнать, чем вы займетесь, – весело продолжала Доротея. – Я глубоко верю, что люди рождаются с разными призваниями. Без этого убеждения я, наверное, была бы крайне узкой в своих взглядах – ведь и кроме живописи есть много такого, о чем я не имею ни малейшего понятия. Вы представить себе не можете, как мало я знакома с музыкой и литературой, в которых вы такой знаток. Интересно, каким же окажется ваше призвание? Может быть, вы станете поэтом?
– Как сказать. Поэт должен обладать душой настолько чуткой, что она различает любой оттенок, и настолько открытой чувствам, что чуткость ее, как незримая рука, извлекает множество гармоничных аккордов из струн эмоций, – душой, в которой знание тотчас преображается в чувство, а чувство становится новым средством познания. Но подобное состояние достижимо лишь иногда.
– Однако вы ничего не сказали о стихах, – заметила Доротея. – По-моему, без них не может быть поэта. Я понимаю ваши слова о знании, преображающемся в чувство, так как, мне кажется, я постоянно испытываю именно это. Но право же, я не сумею написать даже самого короткого стихотворения.
– Вы сами – стихотворение, и в этом заключается самое лучшее в поэтах: то, что озаряет сознание поэта в минуты вдохновения, – сказал Уилл, блистая оригинальностью, которую все мы разделяем с утренней зарей, весенними днями и прочими вечными обновлениями.
– Мне очень приятно это слышать, – ответила Доротея со смехом, звонким, как птичья трель, и с шаловливой благодарностью во взгляде. – Какие любезные вещи вы говорите!
– Как я хотел бы быть не просто любезным, но полезным вам! Как был бы я счастлив оказать вам хотя бы ничтожную услугу, но, боюсь, такого случая мне никогда не представится, – пылко воскликнул Уилл.
– Нет, нет, – дружески сказала Доротея. – Он, несомненно, представится, и я вспомню о вашем добром расположении ко мне. Когда я увидела вас в Лоуике, то подумала, что нам следует стать друзьями, – ведь вы же родственник мистера Кейсобона. – В ее глазах блеснули слезы, и Уилл почувствовал, что и его глаза, подчиняясь законам природы, также увлажнились. Упоминание мистера Кейсобона не испортило этого мгновения, освященного могучей силой и пленительным достоинством ее благородной доверчивой неопытности.
– А кое-что вы могли бы сделать и сейчас, – произнесла Доротея, поднимаясь и пройдясь по комнате, чтобы утишить волнение. – Обещайте мне никогда ни с кем не говорить об этом… то есть о труде мистера Кейсобона… В таком тоне, я хочу сказать. Этот разговор начала я. И во всем виновата я. Но вы дадите мне такое обещание?
Она остановилась напротив Уилла и посмотрела на него с глубокой серьезностью.
– Разумеется, я обещаю, – сказал Уилл, но покраснел. Если он не позволит себе с этих пор ни одного слова осуждения по адресу мистера Кейсобона и перестанет пользоваться его помощью, тем больше у него будет права питать к нему ненависть. Поэт должен уметь ненавидеть, говорит Гёте, и этим талантом Уилл, во всяком случае, обладал. Он сказал, что мистера Кейсобона все-таки дожидаться не будет, а придет проститься с ним перед самым их отъездом. Доротея протянула ему руку, и они обменялись простым «до свидания».
Однако у подъезда Уилл встретил мистера Кейсобона, который пожелал своему молодому родственнику всего самого лучшего и вежливо отказался от удовольствия еще раз проститься с ним, сославшись на сборы перед дорогой.
– Я должна сообщить вам кое-что о вашем родственнике, мистере Ладиславе. Возможно, это поднимет его в ваших глазах, – сказала Доротея мужу поздно вечером. (Едва он вошел, она объявила, что у них был Уилл и собирается зайти еще раз, но мистер Кейсобон ответил: «Я встретился с ним на улице, и мы попрощались». Сказано это было тем тоном, какой мы употребляем, желая показать, что тема, будь она личной или общественной, нас не интересует и больше мы к ней возвращаться не хотим. А потому Доротея отложила продолжение разговора.)
– Что же именно, любовь моя? – спросил теперь мистер Кейсобон. Он всегда называл ее «любовь моя», когда говорил особенно холодно.
– Он решил оставить свои странствия и больше не пользоваться вашей щедростью. Он собирается вернуться в Англию, чтобы самому проложить себе путь. Мне казалось, вы сочтете это добрым знаком, – сказала Доротея, умоляюще глядя на мужа, чье лицо оставалось непроницаемым.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?