Читать книгу "Выбор"
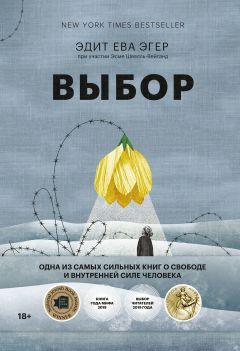
Автор книги: Эдит Ева Эгер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 5. Лестница смерти
Мы снова идем днями и неделями. После Аушвица мы оставались в Германии, но в какой-то день подходим к австрийской границе и ждем, когда сможем ее пересечь. Конвоиры обсуждают слухи, пока мы стоим в бесконечных очередях. Эти очереди создали для меня иллюзию порядка – иллюзию того, что за одним логично следует другое. Какое облегчение – просто стоять. Я прислушиваюсь к разговорам конвоиров: умер президент Рузвельт; войну продолжит Трумэн. Как странно слышать, что в мире за пределами нашего чистилища что-то меняется. Выбран новый курс. Все эти события происходят слишком далеко от нашей повседневной действительности. Это потрясает сознание, что сейчас, даже сейчас, кто-то принимает решения относительно меня. Не конкретно меня. У меня нет имени. Но кто-то власть имущий делает выбор, который определит, что будет со мной дальше. Север, юг, восток, запад? Германия или Австрия? Что должно стать с выжившими евреями до того, как закончится война?
«Когда закончится война…» – говорит конвоир. Он обрывает фразу. Это похоже на разговоры о будущем, которые нас с Эриком когда-то занимали. После войны… Если как следует сосредоточить все внутренние силы, смогу ли я понять, остался ли он в живых? Я представляю, будто стою на станции, где мне нужно купить билет, но я должна с одной попытки решить, в каком городе я его встречу. Прага? Вена? Дюссельдорф? Прешов? Париж? Я лезу в карман, машинально проверяя, на месте ли паспорт. Эрик, милый, любимый мой, я в пути. Пограничница кричит мне и Магде что-то по-немецки и указывает на другую очередь. Я делаю несколько шагов, но Магда стоит на месте. Пограничница снова кричит. Магда не двигается, не реагирует. Она сошла с ума? Почему она за мной не идет? Пограничница стоит перед Магдой и орет на нее, Магда мотает головой.
– Я не понимаю, – говорит ей Магда по-венгерски. Конечно, понимает. Мы обе хорошо владеем немецким.
– Все ты понимаешь! – кричит пограничница.
– Я не понимаю, – повторяет Магда.
Ее голос лишен эмоций. Она стоит, развернув плечи, выпрямившись. Я что-то упустила? Почему она притворяется, что не понимает? Неповиновением здесь ничего не добьешься. Она потеряла рассудок? Пререкания продолжаются. Правда, Магда не спорит. Только повторяет ровным тоном, спокойно: «Не понимаю, не понимаю». Немка теряет самообладание. Она бьет Магду прикладом по лицу. Ударяет еще раз по плечам. Она бьет и бьет, пока Магда не валится с ног, и охрана жестами велит мне вместе с другой девочкой оттащить ее.
Магда в ушибах, кашляет, но ее глаза сияют. «Я сказала “нет”! – говорит она. – Я сказала “нет”». Для нее это великолепное поражение. Доказательство ее силы. Она стояла на своем, когда пограничница потеряла контроль. Этот акт гражданского неповиновения позволил Магде почувствовать себя инициатором выбора, а не жертвой судьбы.
Но сила, которую ощутила Магда, недолговечна. Скоро начинается новый переход – к месту, которое намного хуже всего, что было до этого.
Мы приходим в Маутхаузен. Это мужской лагерь у каменоломни, где узников заставляют колоть и перетаскивать гранит, который будет использован во время перестройки города гитлеровской мечты, обновленной столицы Германии – нового Берлина. Я не вижу ничего, кроме лестницы и мертвых тел. Лестница из белого камня высится над нами, уходя высоко-высоко наверх, по ней как будто можно дойти до неба. Тела, сваленные в кучи, повсюду. Они лежат искривленные, с раскинутыми конечностями – будто куски сломанного забора. Скелетообразные, обезображенные, спутанные, они почти утратили человеческие очертания. Мы стоим на белых ступенях. «Лестница смерти» – так ее называют. Здесь мы, по нашим предположениям, ждем новой селекции, после чего нас отправят либо на смерть, либо работать дальше. Очередь вздрагивает от слухов. Мы узнаем, что узники Маутхаузена должны таскать из каменоломни вверх почти пятидесятикилограммовые каменные блоки, проходя сто восемьдесят шесть идущих подряд ступеней. Я представляю моих предков, рабов фараона в Египте, сгибавшихся под тяжестью камней. Здесь, на лестнице смерти, как нам говорят, если несешь камень, быстро взбираясь по лестнице, и кто-то впереди тебя спотыкается или падает в изнеможении, ты упадешь следующим, а за тобой другой и так далее, пока вся ваша цепочка не осядет грудой внизу.
Но мы слышали, что, если ты выживаешь, это еще хуже. Заключенных выстраивали на краю утеса вдоль стены, которой дали название «стена парашютистов». Под дулом пистолета ты выбираешь: быть расстрелянным, упасть самому или столкнуть с обрыва стоящего перед тобой.
– Просто толкай меня, – говорит Магда, – если до этого дойдет.
– Ты меня тоже, – говорю я. Я лучше тысячу раз упаду с обрыва, чем увижу, как стреляют в мою сестру. Мы очень слабы, заморены голодом, чтобы говорить так из любезности. Мы говорим это из любви, а также ради самосохранения. Не заставляйте меня опять таскать тяжести. Дайте просто упасть среди камней.
Я вешу меньше, намного меньше, чем камни, которые заключенные поднимают по лестнице смерти. Я такая легкая, что меня мог бы унести ветер, как листок или перышко. Вниз, вниз. Я могла бы упасть сейчас. Могла бы просто упасть назад, вместо того чтобы делать еще один шаг наверх. Мне кажется, я пустая. Во мне нет тяжести, которая бы тянула меня к земле. Я готова поддаться фантазии о невесомости, о том, чтобы сбросить бремя существования, как вдруг кто-то впереди меня разрушает эти чары.
– Вон крематорий, – говорит одна из нас.
Я поднимаю глаза. Мы многие месяцы пробыли вне лагерей – я и забыла, что дымоходы поднимаются над всем лагерем так буднично. В каком-то смысле их вид успокаивает. В этом прямом штабеле кирпичей чувствуется близость смерти, ее неотвратимость: труба – это мост, который скроет твой переход из плоти в воздух; считать себя уже мертвой – все это в какой-то степени кажется понятным и осмысленным.
И все-таки, пока из трубы идет дым, мне есть с чем бороться. У меня есть цель. «Мы умрем этим утром», – предрекают слухи. Я чувствую, что обреченность утягивает меня, как гравитация, как неизбежная и постоянно действующая сила.
Приходит ночь, мы спим на ступенях. Почему они так затянули с началом селекции? Моя бодрость духа пошатнулась. Мы умрем этим утром. Этим утром мы умрем. Знала ли моя мама, что ее ждет, когда вставала в очередь с детьми и пожилыми? Когда видела, что мне и Магде указали в другую сторону? Боролась ли она со смертью? Приняла ли ее? Или была в неведении до конца? Когда уходишь в смерть, имеет ли значение, что ты это понимаешь? Мы умрем этим утром. Этим утром мы умрем. Слух? Бесспорный факт? Но фраза повторяется, словно отражаясь эхом от карьерного камня. Неужели мы и правда прошли маршем сотни миль, только чтобы исчезнуть?
Мне хочется привести рассудок в порядок. Не хочу, чтобы мои последние мысли были стереотипными или мрачными. Не хочу вопросов типа «в чем смысл?» и «зачем все это было?». Не хочу в последних мыслях заново проигрывать все ужасы, которые мы видели. Я хочу чувствовать себя живой. Хочу снова испытать удовольствие от выразительности своего тела. Я думаю о голосе Эрика и его губах. Стараюсь вызвать в памяти те мысли, которые, возможно, еще способны заставить меня трепетать. Я никогда не забуду твои глаза. Я никогда не забуду твои руки. Вот что я хочу вспомнить: тепло в груди, румянец на коже. Хотя «вспомнить» – не совсем точное слово. Я хочу насладиться своим телом, пока оно у меня есть. Целую вечность назад, в Кашше, мама запретила мне читать «Нана» Эмиля Золя, но я утащила книгу в ванную и тайком читала. Если завтра я умру, то умру девственницей. Зачем тогда мне вообще нужно было тело, если я не смогла познать его полностью? Многое в моей жизни было тайной. Помню день, когда у меня начались первые месячные. Я ехала на велосипеде из школы домой, а когда приехала, увидела кровавые разводы по всей моей белой юбке. Я испугалась. В слезах побежала к маме, просила помочь мне найти рану. Она шлепнула меня. Я не знала, что есть венгерская традиция: шлепать девушку в начале ее первых месячных. Да и вообще не знала о менструации. Ни мама с сестрами, ни учителя, ни тренеры, ни друзья – никто ничего не рассказывал мне о моей анатомии. Я знала, что у мужчин есть что-то, чего нет у женщин. Я не видела моего отца голым, но чувствовала ту часть тела Эрика, когда он прижимал меня к себе. Он никогда не просил меня прикоснуться к нему, никогда не обращал мое внимание на свое тело. Мне нравилось думать о наших телах как о тайнах, которые ждут, чтобы их открыли; думать о чем-то таком, что превращалось в электрический разряд, когда мы приближались друг к другу.
Теперь это останется загадкой, которую я не разгадаю. Бывало, что я чувствовала, как загораются маленькие звездочки желания, но теперь я уже никогда не найду выхода этому желанию, никогда не увижу целой галактики обещанного света. Об этом я плачу здесь, на лестнице смерти. Ужасно терять – уже потерять – все, что дорого и знакомо: мать, отца, сестру, любимого, страну, дом. Но почему я должна расстаться с тем, чего я даже не знала? Почему меня лишают будущего? Моих возможностей? Почему я никогда не буду матерью своим детям? Не надену свадебное платье, которое мне не сошьет отец? Я умру девственницей. Не хочу, чтобы это стало моей последней мыслью. Нужно подумать о Боге.
Я стараюсь представить некую непоколебимую силу. Магда утратила веру. И она, и многие другие. «Я не могу верить в Бога, который позволил такому случиться», – говорит каждая из них. Мне понятно, что они имеют в виду. И все-таки мне всегда казалось, что нетрудно осознать: это не Бог убивает нас в газовых камерах, в канавах, у обрыва, на ста восьмидесяти шести ступенях. Убивают люди. И снова встревает ужас, а я не хочу ему потакать. Я представляю Его как существо, похожее на танцующего ребенка. Игривого, чистого и любознательного. Такой следует быть и мне, если я сейчас приближаюсь к Богу. Я хочу сохранить в себе ту часть, способную к удивлению, способную задаваться вопросами, до самого конца. Знает ли кто-нибудь, что я здесь? Знает ли о том, что происходит? Что есть такие места, как Аушвиц и Маутхаузен? Интересно, видят ли меня сейчас родители? А Эрик? Хотела бы я знать, как выглядит голый мужчина. Мужчины вокруг меня всюду. Мужчины уже неживые. Сейчас я не оскорблю их гордости, если посмотрю. Большим грехом будет отказаться от своего любопытства, убеждаю я себя.
Я оставляю Магду спать на лестнице и взбираюсь на илистый холм, где навалены трупы. Я не буду раздевать кого-то, кто остался в одежде. Не стану нарушать покой мертвых. Но если найду упавшего, то посмотрю.
Вижу мужчину с перекошенными ногами. Они будто бы не принадлежат этому телу, но я различаю то место, где ноги соединяются. Я вижу волосы, как у меня, черные, жесткие, и маленький отросток. Он похож на небольшой гриб, что-то хрупкое, выдающееся из земли. Удивительно: женские интимные части спрятаны внутрь, а мужские все наружу, такие уязвимые. Я чувствую удовлетворение. Я не умру не знающей биологию, из-за которой я появилась.
На рассвете очередь начинает двигаться. Мы почти не разговариваем. Кто-то рыдает. Некоторые молятся. Каждый из нас сейчас в одиночку переживает: кто ужас, кто сожаление, кто смирение, а кто-то испытывает чувство облегчения. Я не рассказываю Магде, что видела ночью. Очередь движется быстро. Это будет недолго. Я силюсь вспомнить, какие созвездия я раньше находила в ночном небе. Пытаюсь вспомнить вкус маминого хлеба.
– Дицука, – зовет меня Магда. Но я понимаю, что она обращается ко мне, лишь сделав несколько глубоких выдохов. Мы дошли до верха лестницы. Впереди офицер, проводящий селекцию. Но всех отправляют в одну сторону. Это не очередь на селекцию. Нас провожают. Это и правда конец. Они прождали до утра, чтобы отправить нас всех на смерть. Должны ли мы что-то друг другу пообещать? Принести извинения? Есть ли что-то, что нужно сказать? Перед нами еще пять девушек. Что мне сказать моей сестре? Две девушки.
И вдруг очередь останавливается. Нас отводят к группе эсэсовцев, стоящих у ворот.
– Кто попробует сбежать, будет расстрелян! – кричат они на нас. – Кто отстанет, будет расстрелян!
Нас снова что-то спасло. Уму непостижимо.
Мы опять идем маршем.
⁂
Это марш смерти, от Маутхаузена до Гунскирхена. Самое короткое расстояние, которое нас заставляли проходить, но мы так обессилели, что из двух тысяч в марше выживет только сотня. Мы с Магдой держимся друг за друга, твердо решив оставаться вместе и держаться на ногах. Каждый час по сотне девочек падает в канавы с обеих сторон дороги. Они слишком слабы или больны, чтобы продолжать идти, и их убивают на месте. Мы словно головка облетевшего одуванчика, семена которого разнес ветер, оставив лишь несколько белых пучков. Единственное, что во мне осталось, – это голод.
Все тело болит; все тело немеет. Еще один шаг, который я уже не могу сделать. Боль такая, что я не чувствую своих движений. Я вся – цепь боли, сигнал, циркулирующий от себя и обратно к себе. Даже не замечаю, что оступаюсь, пока не чувствую, как руки Магды и других девочек меня поднимают. Они переплели пальцы и удержали меня в этой живой люльке.
– Ты поделилась с нами хлебом, – говорит одна из них.
Эти слова мне ни о чем не говорят. Когда это я ела хлеб? Но потом всплывает воспоминание. Наша первая ночь в Аушвице. Менгеле велит играть музыкантам и приказывает мне танцевать. Это тело когда-то танцевало. В этой голове были мечты о театральной сцене. Этот рот ел тот хлеб. Я та девочка, которая думала так той ночью и думает сейчас: «Менгеле убил мою мать; Менгеле позволил мне жить». И сейчас девушка, которая ела со мной корку хлеба почти год назад, узнала меня. Она напрягает последние силы, чтобы переплести пальцы с пальцами Магды и других девушек и поднять меня. В некотором смысле Менгеле дал шанс этому случиться. Той ночью он никого из нас не убил и не убил позже. И дал нам хлеб.
Глава 6. Одна травинка или другая
Всегда есть ад еще страшнее. Такова наша награда за жизнь. Когда мы останавливаемся, мы оказываемся в лагере Гунскирхен. Это филиал Маутхаузена: несколько деревянных построек в болотистом лесу рядом с деревней – лагерь, который рассчитан на несколько сотен подневольных работников и в котором сейчас толпятся восемнадцать тысяч. Это не лагерь смерти. Здесь нет газовых камер, нет крематория. Но и нет никаких сомнений, что нас сюда прислали умирать.
Уже сейчас трудно сказать, кто жив, а кто мертв. В наши тела проникают болезни, и мы их передаем друг другу. Тиф. Дизентерия. Вши. Открытые раны. Плоть на плоти. Живая на гниющей. Туша лошади, наполовину обглоданная. Можно есть сырой. Кому нужен нож, чтобы резать сырое мясо? Грызи так, прямо с кости. Спят здесь, плотно прижавшись по трое, на переполненных деревянных конструкциях или на голой земле. Если под тобой кто-то умирает, ты спишь дальше. Нет сил, чтобы оттащить мертвеца. Вот девушка, скрючившаяся от голода. Рядом торчит нога, черная, гнилая насквозь. Нас собрали в сыром дремучем лесу, чтобы уничтожить в большом огне, поджечь всех нас. Здесь везде динамит. Мы ждем взрыва, огонь от которого нас поглотит. До большого взрыва велика вероятность отправиться на тот свет и от других опасностей: голод, лихорадка, болезни. На весь лагерь только одно отхожее место с двадцатью дырами. Если не дождешься своей очереди, то расстреляют там же, где из тебя вышли испражнения. Тлеют пожары свалок. Земля – сплошная грязевая яма, и, если ты находишь силы ходить, ноги увязают в жиже наполовину из грязи, наполовину из дерьма. Прошло пять или шесть месяцев после Аушвица.
Магда флиртует. Это ее ответ зову смерти. Она знакомится с французом, молодым парижанином, который до войны жил на Рю-де-чего-то-там – я была уверена, что никогда не забуду его адреса. Даже в самых недрах ужаса между двумя людьми возникают химия и озарение, и у каждого – возбужденное биение в горле. Я наблюдаю, как они разговаривают – будто сидят в летнем кафе и передают друг другу звонкие тарелки. Так делают живые. Наш священный импульс – кремень против страха. Не разрушай свой дух. Подними его, как факел. Скажи французу свое имя и припрячь его адрес, а потом смакуй его и прожевывай медленно, как кусочек хлеба.
Уже через пару дней в Гунскирхене я становлюсь одной из тех, кто не может ходить. Я об этом еще не знаю, но у меня сломан позвоночник (я и сейчас понятия не имею, когда и как получила травму). Я только чувствую, что все мои резервы иссякли. Лежу, дыша тяжелым воздухом, мое тело сплелось с телами незнакомцев, все мы в одной куче – и мертвые, и давно мертвые, и, как я, чуть живые. Мне видится что-то, как я сама понимаю, нереальное. И все это перемешивается с тем, что реально, но чего не должно быть. Моя мама читает мне. Скарлетт плачет: «Я любила образ, который сама себе создала». Папа кидает мне птифур. Клара начинает играть скрипичный концерт Мендельсона. Она играет у окна, чтобы случайный прохожий ее заметил и посмотрел на нее; она играет, чтобы притянуть внимание, которого она жаждет, но о котором не может попросить прямо. Так делают живые. Мы заставляем струны вибрировать так, как нам нужно.
Здесь, в аду, я вижу, как человек ест человечину. Способна ли я на такое? Могла бы я, для спасения собственной жизни, прильнуть ртом к коже, обвисшей на костях умершего человека, и начать жевать? Я видела, как над телами надругались с непростительной жестокостью. Мальчика привязывали к дереву, и офицер СС стрелял ему в ногу, в ладонь, в обе руки, в ухо – невинного ребенка использовали в качестве тренировочной мишени. Была беременная женщина, которая каким-то образом попала в Аушвиц, а не была убита сразу же на распределении. Когда у нее начались роды, эсэсовец связал ей ноги. Я не видела агонии страшнее. Но только глядя на то, как голодающий ест мясо мертвого человека, я чувствую, что к горлу подступает желчь и в глазах темнеет. Я не смогу этого сделать. Но мне нужно что-то есть. Нужно есть, иначе я умру. Из вытоптанной грязи пробивается трава. Я смотрю на травинки, они разной длины и разных оттенков. Буду есть траву. Из этих травинок я выберу вот эту. Займу свой разум выбором. Одна травинка или другая? Вот что значит выбирать. Есть или не есть. Есть траву или есть мясо. Съесть эту травинку или вон ту. Почти все время мы спим. Нечего пить. Я совсем теряю чувство времени. Часто засыпаю. Даже когда не сплю, с трудом пытаюсь оставаться в сознании.
Один раз я вижу, как Магда ползет ко мне с консервной банкой в руках, от которой отражается солнце. Банка сардин. Красному Кресту, сохраняющему нейтралитет, позволили доставить помощь заключенным, и Магда пробилась в очередь и добыла банку сардин. Но нам нечем ее открыть. Это всего лишь еще один оттенок жестокости. Даже благое намерение, хорошее дело становится напрасным. Моя сестра медленно умирает от голода; она сжимает в руке еду. Она вцепилась в жестянку, как однажды не выпускала из рук свои волосы, пытаясь удержать саму себя. Банка рыбных консервов, которую невозможно открыть, – самое человечное, что у нее сейчас есть. Мы уже мертвы и почти мертвы. Не могу понять: я скорее первое или второе?
Краем сознания я замечаю, что дни и ночи сменяют друг друга. Когда открываю глаза, то не знаю, спала ли я или была в обмороке и как долго. Я не нахожу сил спрашивать – долго ли? Иногда я чувствую, как дышу. Временами пытаюсь приподнять голову, чтобы посмотреть, где Магда. Иногда не могу даже подумать о ее имени.
Крики вырывают меня из сна, который был похож на смерть. Должно быть, эти крики – предвестники смерти. Я жду обещанного взрыва, обещанного тепла. Мои глаза закрыты, я жду, когда начну гореть. Но взрыва не происходит. Огня нет. Я открываю глаза и вижу джипы, медленно проезжающие через сосновый лес, который скрывает лагерь от дороги и делает незаметным с неба. «Американцы прибыли! Здесь американцы!» – вот что кричат вокруг ослабевшие и умирающие. Джипы выглядят расплывающимися и мутными, как будто я смотрю на них сквозь воду или знойный воздух. Может быть, это коллективная галлюцинация? Кто-то поет «Когда святые маршируют»[17]17
«Когда святые маршируют» (When the Saints Go Marching In) – народная американская песня в жанре спиричуэлс, входит в стандарт джазового репертуара.
[Закрыть]. Эти сенсорные впечатления неизгладимы, они более семидесяти лет со мной. Но когда все это происходит, я не понимаю, что они означают. Я вижу мужчин в камуфляже. Вижу флаги со звездами и полосами – соображаю, что это американские. Вижу флаги, украшенные числом 71. Американец дает узникам сигареты, те так голодны, что едят их, целиком, с бумагой. Я смотрю на это из клубка тел. Не могу различить, где мои ноги, где чужие. «Есть здесь кто живой? – выкрикивают американцы по-немецки. – Поднимите руку, если вы живы». Я пытаюсь пошевелить пальцем, чтобы подать сигнал, что я жива. Солдат подходит так близко ко мне, что я вижу грязные подтеки на его штанине. Я чувствую запах его пота. Я здесь, – хочу откликнуться я. – Здесь! У меня нет голоса. Солдат осматривает тела. Его глаза пробегают по мне, не опознавая меня как живую. К лицу он прижимает кусок грязной тряпки. «Поднимите руку, если вы меня слышите», – говорит он, почти не отрывая ткани от лица. Я изо всех сил стараюсь привести пальцы в движение. Ты ни за что не выберешься отсюда живой – так говорили все: капо, которая вырвала у меня сережки; эсэсовец с татуировочной машинкой, который не захотел потратить на меня чернила; женщина-бригадир с ниточной фабрики; эсэсовец, отстреливавший нас во время долгого-долгого перехода. Значит, вот каково это, когда они оказываются правы.
Солдат что-то кричит по-английски. Кто-то вне моего поля зрения кричит в ответ. Они уходят.
И вдруг на земле ослепительные блики. Вот и огонь. Наконец-то. Удивительно, что нет звука. Солдаты оборачиваются. Мое онемевшее тело вдруг вспыхивает жаром – от огня или от лихорадки. Но что-то не то. Огня нет. Отблеск света вовсе не от огня. Это солнце наткнулось на банку сардин у Магды в руках! Специально ли, случайно ли, но она привлекла внимание солдат с помощью рыбных консервов. Они возвращаются. У нас появился еще один шанс. Если я смогу танцевать мысленно, я смогу сделать так, чтобы мое тело увидели. Я закрываю глаза и концентрируюсь, соединяя руки над головой в воображаемом арабеске. Слышу, как солдаты снова кричат друг другу. Один стоит очень близко ко мне. Я зажмуриваюсь и продолжаю свой танец. Я представляю, что танцую с ним. Что он поднимает меня над головой, как Ромео в бараке с Менгеле. Представляю, что есть любовь и она пробивается сквозь войну. Что есть смерть – и всегда, всегда есть ее антипод.
В ту минуту я почувствовала свою руку. Я знаю точно – это моя рука, потому что до нее дотрагивается солдат. Я открываю глаза. Его широкая темнокожая рука обхватывает мои пальцы. Он вкладывает что-то мне в руку. Разноцветные горошины – красные, коричневые, зеленые, желтые.
– Еда, – говорит солдат. Он смотрит мне в глаза. Никогда не видела такой темной кожи, как у него; толстые губы, темно-карие глаза. Он помогает мне поднести руку ко рту. Помогает положить горошины на сухой язык. Появляется слюна, и я чувствую сладость. Вкус шоколада. Я помню, как называется этот вкус. Всегда носите с собой какую-нибудь маленькую сладость, – говорил мой отец. Вот и она.
А что с Магдой? Ее тоже нашли? Ко мне еще не вернулись ни слова, ни голос. Я даже не могу пробормотать «спасибо». Не могу собрать два слога в имени сестры. Кое-как проглатываю маленькие конфетки, которые дал солдат. Я с трудом могу думать о чем-то, кроме желания получить еще еды. Или глоток воды. Сейчас солдат занят тем, что пытается вытащить меня из груды тел. Ему нужно стащить с меня мертвых. У них одрябли лица, обвисли конечности. И хотя они совсем тощие, но тяжелые, и американец морщится, напрягаясь, чтобы их поднять. По его лицу течет пот. Он кашляет от смрада. Закрывает покрепче рот тряпкой. Кто знает, как давно эти мертвецы стали мертвецами? Возможно, их от меня отделяет пара вздохов. Я не знаю, как мне выразить благодарность. Но от нее по коже пробегают мурашки.
Он наконец вытаскивает меня и укладывает на землю, на спину, чуть подальше от мертвых. Я вижу клочки неба сквозь кроны деревьев. Чувствую дуновение влажного воздуха на лице, сырость грязной травы подо мной. Даю своему разуму погрузиться в ощущения. Я представляю мамины волосы, закрученные в пучок, папин цилиндр и усы. Все, что я чувствую и когда-либо чувствовала, берет начало в них, в их союзе, который меня создал. Они качали меня на руках. Они сделали меня дочерью земли. Я вспоминаю историю своего рождения, которую рассказывала Магда. «Ты мне помогла, – благодарила моя мама свою мать. – Ты мне помогла».
И теперь Магда лежит рядом со мной на траве. Сжимает в руках банку сардин. Мы прошли последнюю селекцию. Мы живы. Мы вместе. Мы свободны.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































