Текст книги "Римский король"
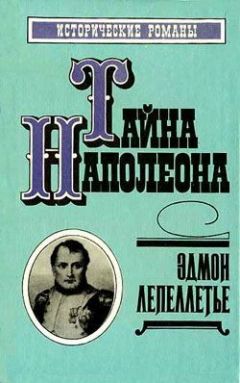
Автор книги: Эдмон Лепеллетье
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Эдмон Лепеллетье
Римский король
I
Император Наполеон 20 марта 1811 года находился на вершине могущества и в апогее славы. Он являлся властелином Европы, вершителем судеб остального света. От него зависели мир и война, и ничто как будто не могло поколебать его трон, воздвигнутый на пятидесяти победах, трон, у которого доблестные сабли знаменитых маршалов и грозные штыки гренадеров составляли ослепительный и надежный оплот. Смущенные короли, фиктивные преемники Людовика XVI, соскучившиеся в ожидании все более и более невероятной реставрации, позабытые народом за время продолжительного изгнания другими монархами как разоренные и компрометирующие родственники, наконец, бывшие заговорщики, преследуемые и деморализованные, отказались от своих претензий, признанных тщетными, и прозябали в унылой покорности. Все враги империи были удручены и буквально пресмыкались, хотя им предстояло вскоре воспрянуть в дни реставрации. Но в то время они жили лишь одной надеждой, лишь одной мыслью уже не о падении колосса, а о внезапной смерти человека.
«Ах, если бы Наполеон мог умереть!» – таково было единственное желание всех, кому мешал император. Враги нашептывали эту надежду всем, кто был расположен благосклонно принять ее, и распространяли при всех европейских дворах веру в возможность такой случайности.
Заклятым врагом баловня судьбы – Наполеона – был граф Нейпперг, и читатель увидит на следующих страницах романа, что это зловещее пожелание высказывалось им даже во дворне самого Наполеона, где Мария Луиза без страха и негодования слушала эту молитву.
Смерть императора объединяла все виды ненависти, все виды мести, все пылкие надежды вокруг нового Карла Великого.
Наполеон не имел прямого наследника, и его государство рисковало распасться в жестоких столкновениях. Вся его громадная империя была бы обречена на раздел. Генералы, братья, союзники Наполеона выкроили бы себе по хорошему куску из великолепных остатков и на поживу сбежались бы издалека. Смерть Наполеона явилась бы для побежденных монархов отместкой, для порабощенных наций – избавлением, а для Бурбонов, вычеркнутых из списка королей, становилась возможной реставрация.
Весть о том, что Мария Луиза готовится подарить императору ребенка, уничтожила все эти планы, разрушила надежды. Итак, мечте Наполеона было суждено сбыться вполне!
Победоносный всюду, доверчиво наслаждавшийся миром, имея только одну обузу на плечах – Испанию, он с лихорадочным нетерпением ожидал разрешения императрицы от бремени.
Несмотря на самый тщательный уход, беременность Марии Луизы протекала тяжело, а в последнюю минуту у ее постели водворилась молчаливая и глубокая тревога, и обеспокоенный доктор Корвизар послал за императором.
Отбросив всякий этикет, без камергера, без дежурной дамы, с обнаженной головой и помутившимся взором, тот, видимо упавший духом, показался на пороге спальни Марии Луизы.
– Спасите мать! – воскликнул он. – Не дайте погибнуть моей Луизе! Корвизар, вы отвечаете головой за жизнь императрицы! – воскликнул он.
– Ваше величество, я попытаюсь спасти также и ребенка, но придется, пожалуй, прибегнуть к щипцам…
Наполеон с горестным видом махнул рукой, предоставляя полную власть доктору, а затем, увидав знаменитого акушера Дюбуа, который должен был принимать младенца, и заметив его смущение, сказал ему:
– Сохраните хладнокровие и поступайте – черт побери! – так, как если бы вы находились у постели крестьянки.
Некоторое время Наполеон с тревогой и нежностью смотрел на юную страдалицу, с любовью пожимал влажную руку Марии Луизы, бледной и задыхавшейся под кружевами в приступе первых болей. Потом он вернулся опять в кабинет, расстроенный, взволнованный, неспособный усидеть на месте.
Его не только пугали осложнения при родах, предсказанные Корвизаром, но боязнь за жизнь ребенка усиливалась беспокойством за мать. Допуская даже благополучный исход, император мучился вдобавок неизвестностью о том, какого пола будет ребенок. Дарует ли Провидение ему сына, а Империи Наполеона II? Конечно, он обрадовался бы и дочери, но ее появление на свет расстроило бы все или по крайней мере отсрочило бы на неопределенное время его планы, все его надежды. А если здоровье Марии Луизы, расшатанное рождением принцессы, если ее организм, потрясенный трудными родами, не позволят ей вторично сделаться матерью? Что тогда? О, это было бы возвратом к прежней неуверенности, к боязни, что императорское наследие будет расхищено или перейдет в руки чересчур слабые, чтобы принять его и удержать…
Чтобы рассеять томительное нетерпение, император подходил время от времени к одному из окон кабинета и смотрел на толпы народа, который наводнял площадь Карусель, не сводя взора с Тюильрийского дворца.
Народ, подобно Наполеону, томился в лихорадке.
20 марта 1811 года тревога витала и над всей Францией: подданные не меньше своего повелителя изнывали от нетерпения узнать, что совершит природа в спальне роженицы. Рождение сына у императора представлялось всем залогом мира, поддержкой французского могущества, гарантией для будущего.
Большинство рассуждало таким образом. Мыслившие иначе точно так же не скрывали того, что событие имело большую важность в их глазах. Враги Наполеона, приверженцы принцев, люди, примкнувшие к заговору шуанов и готовившие втихомолку возвращение Бурбонов, надеялись, что ребенок родится нежизнеспособным. Неблагоприятные слухи, ходившие по городу, радовали их. А если бы ребенку было суждено случайно явиться на свет здоровым, то они желали в виде утешения, чтобы то была девочка. Мальчик расстроил бы их планы, основанные на внезапной смерти Наполеона без наследника, без возможного преемника.
Филадельфы, рассеянные, заточенные в тюрьму или сосланные, сговорились между собой перед разрешением императрицы. Те из них, которые были на свободе, прилагали все усилия, чтобы сплотиться.
20 марта 1811 года мы находим главных из них за столом в кабачке на площади Карусель. Здесь, в тесном кабинете, Марсель, выпущенный из тюрьмы благодаря ходатайству Ренэ перед императором, беседовал с тремя мужчинами, различными по возрасту и манерам, по имевшими одинаковые черты; ту профессиональную особенность, которая позволяет военным, актерам и духовным лицам узнавать своих собратьев даже под одеждой, способной обмануть остальных.
Первый, самый молодой из собеседников, назывался Александром Бутрэ. Двадцати восьми лет, родом из Анжера, он занимал место учителя в одной роялистской семье и поддерживал отношения с друзьями принцев и важными эмигрантами.
Второй, бритый, с мягким обращением, как Бутрэ, но с более острым взглядом и более сдержанной улыбкой, носил имя аббата Лафон. Этому пламенному роялисту было уже под сорок лет.
Третий мужчина, низкого роста, коренастый, с лицом оливкового цвета, стрелял налево и направо пронзительными черными глазами. Жесткая черная борода покрывала его щеки и подбородок. То был испанский монах по имени Каманьо. Он мечтал о восстановлении Вандеи, а его ненависть к Наполеону основывалась преимущественно на преследованиях, направленных против папы.
Эти трое заговорщиков сообщили Марселю об усилиях филадельфов сорганизоваться вновь в Бордо, Пуату и восточных областях. Они выжидали только удобного случая, чтобы подать сигнал к восстанию.
Чокаясь за осуществление своих надежд, четверо единомышленников напрягали слух в ожидании пушечного выстрела, который должен был возвестить рождение царственного младенца. Для них это событие также представляло немалую важность. Наполеон без наследника был более уязвим. Новорожденный сын, упрочив императорский трон, становился в глазах армии и народа как бы законным наследником грозного имени Наполеона, продолжателем его дела, его могущества и поэтому делал сомнительной удачу замыслов, взлелеянных заговорщиками.
Они оканчивали свою беседу, в которой обменивались мнениями и излагали планы, когда грянула пушка…
Этот выстрел был встречен страшным гамом, поднявшимся на площади Карусель. Тысячи стесненных грудей спешили облегчить себя невнятным ревом, который звучал и надеждой, и приветом, и радостью, инстинктивным и смутным взрывом чувств. Люди отводили душу после напряженного ожидания среди продолжительного и хриплого шепота.
Пушка Инвалидов заговорила… Императорский младенец родился на свет! Был ли то ожидаемый принц? Или корона Наполеона переходила к женскому поколению?
Через минуту грянул второй выстрел.
Новое смутное неистовство собравшегося народа, в котором выделялись отрывистые восклицания, грубые окрики: «Молчите! Не мешайте! Шш!.. Шш!.. Да здравствует император!»
Третий выстрел!
В тишине, почти ненарушаемой, слышался только слабый шепот, похожий на журчание воды, доносившееся издалека, раздались голоса, считавшие выстрелы:
– Три!
Марсель и его товарищи вышли к порогу, чтобы лучше слышать, а также следить за впечатлениями любопытных.
Тут в нескольких шагах от них очутились двое мужчин, которые, по-видимому, избегали привлекать к себе внимание, потому что притаились у кабачка за оконным ставнем, откинутым напором толпы.
– Мне знаком этот человек, – тихо заметил Марсель, обращаясь к аббату Лафону, – он принадлежит к нашей партии. Это агент графа де Прованс маркиз де Лювиньи. Он отошел от нас, когда узнал, что нашей целью было восстановление республики.
– Ого! Мале не сказал еще последнего слова, – возразил аббат, – и я твердо надеюсь вместе с отцом Каманьо склонить его к признанию королевской власти, единственной формы правления, возможной во Франции. Ведь вы этого же мнения, ваше преподобие?
– Мне решительно все равно, как будет называться режим, которым мы заменим власть Бонапарта, – свирепым тоном ответил монах, – только бы новое правительство восстановило церковь в ее славе.
– Я не разделяю ваших идей, – сказал тогда Бутрэ, – касательно возвращения короля, которое кажется мне весьма проблематичным; я полагаю, что если Наполеон будет наконец повержен нами, то непременно нужно ввести республику! Но вот в чем я схожусь с вами: в том, что я требую, чтобы эта республика не была нечестивой, но христианской. Не слишком примешивайте папу к нашим делам. Французская церковь – вот что было бы нам нужно! Как по-вашему?
Марсель покачал головой.
– Нужна всемирная республика, – ответил он. – Все люди братья! Никаких границ! Война уничтожена! Согласие вместо соперничества, свободный обмен продуктами, а идеи, как и товары, освобожденные от таможенной пошлины, уже не подлежат произволу властей, посягательствам казны и полицейским притеснениям; вот мой идеал, и вот почему хочу я ниспровергнуть Наполеона! – заключил этот восторженный проповедник равенства и свободы.
Пушка продолжала палить, и возрастающий гул толпы вторил ее залпам.
– Семнадцать! Приближается, милейший Мобрейль, – сказал Лювиньи своего товарищу достаточно громко для того, чтобы его слова донеслись до Марселя и его друзей.
Этот спутник маркиза Лювиньи – личность, не внушающая доверия, с ухватками забияки и проходимца, со зверским взором и тонкими, неприятными губами, – пробормотал;
– Еще четыре минуты! Ах, Наполеон, закатится ли наконец твоя звезда?
– Если, к несчастью, нам придется услышать еще восемьдесят четыре выстрела этой проклятой пушки… если у Бонапарта родился мальчик, какое решение должны принять наши принцы, господин де Мобрейль?
– Сделать то, что я всегда советовал: устранить тирана. Для этого достаточно хорошего кинжала.
– Нужен человек, чтобы действовать им…
– Этот человек существует. Он готов. Это я! – и выражение ненависти исказило лицо этого искателя приключений, Герри, маркиза д'Орво, графа Мобрейля, который впоследствии получил поручение от Талейрана и Бурбонов убить Наполеона с его братьями Жеромом и Жозефом, а также похитить Римского короля и королеву Вестфальскую.
Всеобщее безмолвие заставило замереть всякий шум, всякий шепот. Прозвучал двадцать первый пушечный выстрел. Закончился ли им салют, положенный на случай рождения принцессы?
Все собравшиеся замерли. Казалось, что промежуток был более продолжительным, и некоторые уже говорили:
– Это все! У Наполеона не будет наследника…
Но вдруг грянул новый выстрел, подхваченный громовым «ура!», за ним другой, третий. Сомнений больше не было: родился младенец мужского пола.
Ликование, крики, шляпы, подброшенные в воздух, рукопожатия, обмен сердечными излияниями – весь избыток народной радости дал себя знать в тот несравненный день счастья для Наполеона.
Он пережил страшные волнения. Усилия скрыть их совершенно разбили его. Покинув спальню Марии Луизы во время родов, он удалился к себе и принял ванну для успокоения нервов и отдыха.
Императрица, испытывая жестокие боли, стонала, корчилась, издавала хриплые вопли и, с испуганными глазами при виде щипцов в руках Дюбуа, кричала, что она не позволит накладывать их, что она слышала приказание Наполеона пожертвовать ею ради спасения наследника. Это была неправда. Наполеон, как известно читателю, в страстном порыве крикнул Дюбуа, предупреждавшего его о трудностях предстоящего разрешения: «Прежде всего спасайте мать!» Но Мария Луиза в своих мучениях с ненавистью смотрела на кабинет мужа. Можно сказать, что эта пытка материнством повлияла на ее чувства к нему. Наполеон, и прежде нелюбимый ею, представлявшийся ее напуганному воображению скверным и злым чудовищем, а вдобавок грубым человеком, в этот момент, когда ее чувства были возбуждены до крайних пределов, а душа терзалась, как и тело, сделался для нее тайным предметом отвращения и вражды. Что же касается ребенка, причинившего ей эти нестерпимые боли, то она никогда не любила его. Этот несчастный, вся жизнь которого была лишь кратковременной весной, безотрадной, как ненавистная осень, был обречен прозябать сиротой при живом отце и живой матери. Войны, необходимость защищать Францию, охваченную вражеским нашествием, плен и медленная агония на отдаленном острове помешали отцу нежить и холить желанного сына, а Марию Луизу удерживал при себе граф Нейпперг, и ей предстояло иметь других детей, нуждавшихся в материнской ласке.
Перед наложением щипцов снова послали за Наполеоном.
Успокоившийся, преодолевший душевные муки, он присутствовал при операции от начала до конца. Он склонился к императрице, которая обливалась потом и вся трепетала среди прерывистых рыданий, запыхавшаяся, терпевшая настоящую пытку. Император держал ее за голову и потихоньку прикасался губами к ее лбу, чтобы запечатлеть на нем нежный, боязливый поцелуй; он нашептывал ей слова любви, которые она не могла слышать и которые были не в состоянии ни растрогать, ни ободрить ее, ни придать ей терпения и энергии, столь важных в такой критический момент. Акушер между тем начал вводить щипцы. Ребенок шел ногами; требовалось освободить голову.
Жуткое безмолвие царило в спальне, где, кроме императора и Дюбуа, находились де Монтескью, сиделка императрицы, герцогиня Монтебелло, первая статс-дама, и де Лукай, дежурная в тот день во дворце, государственный канцлер Камбосерес и Бертье, принц Нёшательский (двое последних были вызваны в качестве свидетелей).
С улицы доносился шум, напоминавший рев моря; невнятный говор толпы усиливался от ожидания. По городу распространилась весть, что муки императрицы возрастают, что роды опасны. Присутствующие молчали из боязни увеличить боли матери и тревогу императора.
Наконец Дюбуа, долгое время стоявший согнувшись, быстро отступил назад, подняв склоненную голову; очень бледный, он обернулся к императору, держа в руках что-то крошечное, красноватое, бесформенное, неподвижное и окровавленное…
– Ваше величество, родился мальчик! – сдавленным голосом произнес акушер.
Вздох облегчения, в котором выразилась вся сдерживаемая внутренняя радость, вырвался из груди Наполеона.
Наконец-то! Судьба не отвернулась от него! У него наследник! Свету предстояло считаться с Наполеоном Вторым!
Наполеон рванулся к акушеру, чтобы взять своего ребенка, но Дюбуа остановил его нетерпеливым, повелительным жестом и бросил беспокойный взгляд на маленькое, по-прежнему неподвижное существо с багровым тельцем, которое походило на ком безжизненного мяса, извлеченного из утробы умирающей матери.
Наполеон внезапно почувствовал острую судорогу. Ему стали понятны озабоченность и сомнение врача. Закусив губы, сжав пальцы, он старался сохранить царственную безмятежность, которую демонстрировал до сих пор. Он молча пристальным и мрачным взором следил за всеми движениями акушера, старавшегося оживить ребенка.
Между тем Дюбуа растирал маленькое тельце, влажное и помертвевшее; он вдувал воздух в легкие новорожденного, приникая губами к неподвижному и холодному ротику, потихоньку хлопал по бедрам и осторожно качал малютку.
Семь минут прошли таким образом, и ни один крик, ни одно проявление жизни не успокоили истерзанного императора.
Вдруг рот ребенка полуоткрылся и его первый писк, для ушей Наполеона более восхитительный, чем звук триумфальных фанфар, раздался в тревожной тишине спальни. Наследник империи был жив, несомненно жив!
Несмотря на всю силу воли и удивительную способность оставаться непроницаемым, Наполеон невольно издал какое-то радостное ворчание. Он схватил наскоро спеленутого ребенка и бросился в соседнюю гостиную, где ожидали все депутаты империи, маршалы, принцы. С грубым тщеславием, в порыве гордой и вульгарной радости удовлетворенный император и счастливый отец представил новорожденного собравшимся и сказал:
– Господа, вот Римский король! В этот момент по сигналу, поданному из дворца, большой колокол на колокольне собора Парижской Богоматери и пушечные залпы в доме Инвалидов начали извещать о появлении на свет Наполеона Второго.
Тогда император в приливе отцовского счастья и торжества основателя династии выбежал на балкон Тюильрийского дворца, перед которым дожидалась несметная толпа, сдерживаемая только простой веревкой. Тут в виде трофея, в знак победы и славного будущего он поднял царственное дитя над головой и показал его народу.
Так, подобно первым франкским королям, которых поднимали на большом щите, сын Наполеона получил национальное признание своих прав. Эта живая корона, возложенная поверх императорских и королевских диадем, которыми уже увенчал себя Наполеон, была приветствуема кличем, грозным для врага и радостным для Франции: «Да здравствует император!»
В радостном гуле едва можно было различить глухие проклятия немногочисленных приверженцев Бурбонов, рассеянных в толпе. Маркиз де Лювиньи и граф де Мобрейль быстро удалились, проклиная слишком благосклонную судьбу. Недовольные, раздраженные, раздосадованные Марсель, аббат Лафон, монах Ка-маньо и Бутрэ вскоре после того ушли из кабачка} тревожно качая головами, они говорили между собой:
– Пойдемте, посоветуемся с Филопеменом. Изменит ли это рождение его планы?
И все четверо, все более и более задумчивые и смущенные, направились к лечебнице доктора Дюбюиссо-на, где был помещен генерал Мале.
Никто не предвидел тогда, что рождение Римского короля не послужит ни препятствием для смелых планов Мале, ни гарантией мира для Франции. Никто не мог предугадать злополучную и трогательную судьбу этого ребенка, которого отец мог ласкать только в детстве и молодость которого зачахла в царственной темнице вне пределов Франции, в грустной неволе, где ему запрещали даже говорить на родном языке и скрывали от него громкую славу отечества.
Но колокола, звонившие всю ночь, артиллерия, возвещавшая о счастливом событии, ошеломляли, опьяняли, отуманивали народ и двор, и 20 марта 1811 года было днем триумфа, кульминационной датой в жизни Наполеона.
Горный склон молодости, побед, смелого и могучего подъема был пройден: после краткой остановки на вершине сначала медленный спуск, затем поспешный, потом обрыв, падение, пропасть со всеми ее ужасами, Фонтенбло и попытка самоубийства, измена, отречение, остров Святой Елены и оскорбления английского тюремщика, – вот что готовилось судьбой эфемерному властелину мира, который, сделавшись отцом, безмерно радовался в это утро, внушавшее столько веры и надежд.
II
Граф де Мобрейль, расставаясь с маркизом де Лювиньи, многозначительно пожал ему руку и сказал:
– Счастье не всегда будет служить Наполеону! Мы еще увидимся, маркиз!
Лювиньи тряхнул головой и пробормотал:
– Не думаю… или по крайней мере не сейчас. Я уезжаю.
– А не будет некоторой нескромностью спросить причине вашего отъезда?
– Пока Бонапарт остается здесь, – промолвил маркиз, грозя кулаком Тюильри, – я буду вдали от Франции.
– А куда вы поедете?
– В Лондон к нашим законным государям.
Мобрейль глубоко задумался. Вдруг по его измученному лицу скользнула улыбка.
– Я знаю, – сказал он, – вы имеете доступ ко двору их высочеств? С вами, дорогой маркиз, там считаются? А по временам и совещаются с вами, не правда ли?
– Их высочества изволили оценить мою преданность. Граф де Прованс почтил меня особой благосклонностью, а граф д'Артуа соблаговолил неоднократно поручать мне весьма ответственные поручения, за исполнение которых неизменно выражал мне благодарность.
– Вы отчасти причастны к заговорам, маркиз?
– Я принимал участие во всех заговорах, – оживленно ответил Лювиньи. – Ведь это я служил посредником между их высочествами и господами Кадудалем, Пишегрю, Фушэ, Талейраном, Моро. Бернадотт, наша последняя надежда, как-то странно охладел. В настоящий момент князь де Понтекорво старается для себя; это честолюбивый и неблагодарный человек! На этого интригана больше нечего рассчитывать!
– Найдутся другие. Фушэ и Талейран всегда пойдут за теми, на чьей стороне успех. Но как, прислушиваясь к этой проклятой пушке, я только что сказал сам, существует одно-единственное средство избавиться от империи.
– Это покончить с императором. Мы уже думали об этом, изыскивали средства…
– Все это никуда не годится! Старо, опасно, слишком неверно! Нет, надо отказаться от излюбленного средства участников всех военных и гражданских заговоров, надо напасть на тирана, схватиться с ним лицом к лицу и поразить его. Вот то средство, которое я имею е виду! Не дадите ли вы мне возможность лично представить их высочествам мои предложения и не возьмете ли вы меня с собой в Лондон?
– Я с удовольствием представлю вас их высочествам, так как вы кажетесь мне человеком дела.
– В деле меня и оценят! – холодно заметил Мобрейль.
– Но будем считать, что я ничего не знаю. Как сегодня, так и завтра или через десять лет – мне одинаково неизвестны ваши проекты. Вы отправитесь вместе со мной в Лондон; вы француз, верноподданность которого мне хорошо известна; вы желаете иметь честь засвидетельствовать свое почтение своим законным государям, я даю вам возможность проникнуть к ним, вот и все. Но вы не посвящали меня в ваши намерения. Решено?
– Даю вам слово! Так когда же мы едем?
– Если хотите – завтра.
– Маркиз, я отправлюсь уложить свой чемодан, и завтра мы будем уже на дороге в Кале.
– Скажите-ка, господин Мобрейль, значит, вы сильно ненавидите Наполеона? – спросил Лювиньи, внимательно вглядываясь в авантюриста.
– Да, я ненавижу его и хочу мстить! – с мрачной энергией ответил граф Мобрейль.
– А ведь вы почти из его дома. Ведь вы, кажется, были шталмейстером при дворе его брата, Жерома Бонапарта, которого он имел смелость сделать королем Вестфалии. Сделать такого шута горохового королем! Ну не насмешка ли это?
– А, так вы, значит, слышали мою историю? – сказал Мобрейль. – О, это самое банальное приключение! Королева проявила ко мне известную благосклонность, а Жерому это не понравилось. Он сообщил о своей супружеской неудаче брату, а тот вместо того, чтобы посмеяться и посоветовать несчастному мужу философское спокойствие, необходимое в подобных случаях, решил стать мстителем за честь Жерома. Я был как раз накануне назначения на в высшей степени выгодную должность комиссара у испанской границы. Наполеон разорил меня одним росчерком пера: он вычеркнул мое имя из доклада о назначении на место и строго-настрого приказал никогда не упоминать ему обо мне. Мне думается, что он сам приревновал меня: у него были определенные намерения на королеву Вестфальскую… Бедная Екатерина Вюртембергская! Как мне жалко ее! Положив на месте проклятого корсиканца, я хочу отомстить также и за нее! Маркиз, я сгораю от нетерпения предложить нашим принцам всю свою энергию и ненависть!
– Я помогу вам! Но будем осторожны! Так до свиданья, до завтра!
– До завтра! Господи Боже, маркиз, благодаря счастливой случайности, которая так неожиданно свела нас с вами, я уже не нахожу сегодняшний день таким отвратительным.
– Так вы прощаете Римскому королю его рождение?
– Римскому королю? О, черед дойдет и до этого королька. Пусть только он попадет в мои руки!
– Вы убили бы и его? – спросил Лювиньи, на которого произвел сильное впечатление мрачный тон заявления Мобрейля, сопровождаемый свирепым блеском глаз. И словно охваченный заранее жалостью к маленькому королю, он прибавил: – Ребенка! Вы, значит, не отступаете ни перед чем? О, вы ужасный человек!
– Говорят, что так! – ответил злодей, польщенный этим замечанием, словно комплиментом, а затем пробормотал с жестокой улыбкой: – Ребенок вырастет. Было бы безумием убить льва и оставить в живых львенка. До завтра, и постараемся провести агентов корсиканца!
Через пять дней после этого соглашения Мобрейль по рекомендации маркиза де Лювиньи был допущен к графу де Прованс, которому впоследствии история дала имя Людовика Восемнадцатого.
Будущий король Франции жил в Англии, в элегантном поместье в графстве Бекингэм Там он ждал, хотя и без особенной надежды, чтобы Франция раскаялась в своих революционных заблуждениях, прогнала узурпатора и вернула ему, Людовику Станиславу Ксавье графу де Прованс, корону его брата Людовика XVI. Но ему так часто нашептывали на ухо слова одобрения, он видел столько разочарования и безнадежной усталости в окружавших его лицах, что теперь очень рассеянно и вскользь выслушивал редкие предсказания будущего возвращения в Тюильрийский дворец. Впрочем, эти предсказания обычно звучали без внутреннего убеждения, скорее банальным комплиментом, какой-то заученной формулой обязательной вежливости в устах все более редких преданных роялистов, являвшихся принести его высочеству выражения верности и предложить к его услугам свою шпагу.
И граф де Прованс уже не верил в успех заговора или мятежа. Без всякой грусти, со спокойствием примирившегося философа и скептической улыбкой на устах он признавал бесполезным и все эти выражения преданности, и готовность жертвовать человеческими жизнями. Он совершенно не старался отыскать подражателей отважным партизанам вроде Кадудаля или Фроттэ, сама порода которых казалась ему уже иссякнувшей. Он более чем умеренно доверял проектам заговорщиков, этих разинь, которые давали себя арестовать до начала открытых действий и адские машины которых неизменно отказывали в благоприятный момент. Некоторое время он еще верил в маршала Бернадотта, которого ему рисовали в виде ловкого интригана, безумно завидовавшего Наполеону и готового в силу этого изменить ему и использовать против него те военные силы, которыми он командовал, равно как и старинные связи с оставшимися независимыми офицерами; за Бернадоттом было еще большое влияние на истинных республиканцев, которые ценили в нем генерала, явившегося в штатском платье на свидание с Бонапартом утром восемнадцатого брюмера. Бернадотт не мог сам питать надежду на корону. После низложения Наполеона он стал бы Монком и призвал законного государя. Генерал Монк был одним из ближайших сподвижников английского диктатора Кромвеля, низложившего и казнившего английского короля Карла I, сына Марии Стюарт. Через два года после смерти Кромвеля Монк счел более выгодным для себя не поддерживать правление сына Кромвеля, а содействовать восстановлению на престоле короля из дома Стюартов – Карла II, сына казненного Карла I. До самого последнего момента Монк действовал так, что даже ближайшим сотрудникам оставалось неизвестным его намерение – он боялся скомпрометировать себя на случай неудачи. Бернадотта справедливо сравнивают С Монком, так как оба они были чистокровными политиками, руководствующимися не идеей или привязанностями, а только соображениями выгоды.
Но и этой обольстительной мечте суждено было рассеяться. Бернадотт внезапно резко оборвал начавшиеся переговоры. Уверяли, будто он искал в Европе княжество или королевство для себя, где, избавившись от всяких вассальных обязательств и необходимости быть благодарным Наполеону, он мог бы для укрепления своего юного трона опереться на древнюю монархию.
Но так или иначе, в данный момент не приходилось рассчитывать на этого честолюбивого сержанта, ставшего маршалом империи и князем де Понтекорво. Что мог бы дать, даже обещать ему государь в изгнании, шансы которого на трон были столь эфемерны?
И с ироничной гримасой граф де Прованс припоминал имена всех тех старинных слуг его рода, потомков придворных Людовика XV и Людовика XVI, наследников геройской фамилии, которые мало-помалу снизошли до принятия от этого корсиканского выскочки, ставшего их господином, должностей, денежных наград, командования полками, а иные из них – даже новых титулов.
И не разражаясь громогласными сетованиями, не жалуясь на всеобщее оскудение, не сожалея об изменниках, чувствуя себя забытым французами и презираемым европейскими государями, сознавая, что какими бы внешними знаками почета ни окружали его англичане, а на их поддержку ему рассчитывать не приходится, Людовик Станислав Ксавье, все более и более тучневший из-за недостатка движения и физических упражнений, изо дня в день жил только ожиданием хорошего обеда, так как, подобно всем Бурбонам, был изрядным обжорой. Дожидаясь, пока накроют стол, он спокойно откидывался в кресле, не думая больше о короне, и погружался в латинский текст Горация, изданного Эльзевиром и облеченного в кокетливый переплет, перечитывал ту или другую оду, которую он смаковал с наслаждением безмятежного любителя науки, удалившегося на покой и отказавшегося от всякого мирского шума.
При докладе о маркизе д'Орво, графе Мобрейле, Людовик, не выпуская из рук Горация и карандаша, которым он делал пометки на полях, вытянулся в кресле, стараясь придать величественный вид своему гигантскому телу, и затем, посмотрев через потайное зеркало на человека, о приходе которого ему доложили, пробормотал с иронией:
– Вот тип завзятого хвастуна! В то время как Мобрейль приветствовал графа, а Блакас быстро перечислял титулы этого француза, явившегося в Англию специально для того, чтобы сложить свои приветствия к ногам того, кого он считал своим законным государем, граф де Прованс думал: «Меня опять собираются прельстить каким-нибудь казарменным заговором, бесшабашным замыслом соскучившегося гарнизона. Этого субъекта, который, судя по внешнему виду, подвизался главным образом на больших дорогах, либо сейчас же заберут и расстреляют, если только не предпочтут спрятать в какой-нибудь отдаленный и усиленно охраняемый уголок; либо ему в случае неуспеха удастся ускользнуть, но тогда он не посмеет явиться ко мне с какими-либо требованиями. Так или иначе, но я буду избавлен от него. Значит, я могу выслушать его; это меня ни к чему не обязывает, но доставит только удовольствие верному Блакасу! Хотя я все-таки предпочел бы не прерывать своей беседы с Горацием»…









































