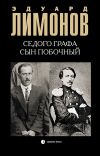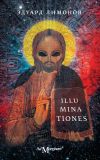Текст книги "Дети гламурного рая. О моде, стиле и путешествиях"
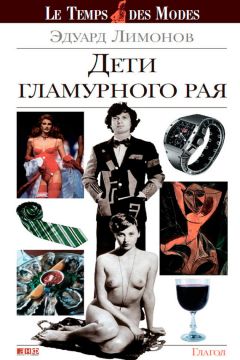
Автор книги: Эдуард Лимонов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Простая Love Story
В обычной жизни происходит немало любовных трагедий, достойных высокого стиля Шекспира, но их некому заметить и записать. Обыватель плохо помнит себя. В конце пятидесятых годов прошлого века в одном классе со мной, в харьковской средней школе № 8, учился Виктор Головашев. Это был небольшого роста молодой атлет, широкий в плечах, с первым разрядом по вольной борьбе. Ну, знаете, есть такой тип некрупных, которые компенсируют себя, становясь могучими. Развитой и современный, помню, Виктор мог страницами цитировать Маяковского. Я, начавший тогда писать стихи, был предметом его иронии. Девушки нашей школы были ему, по-видимому, неинтересны, и какое-то время я видел его одного. А в девятом классе появилась хромая Ванда, на два года старше его. Она переехала жить в наш поселок из другого района и сразу приобрела репутацию загадочной девушки, каковых в Салтовском поселке было очень немного. Она поселилась с бабкой на отшибе, у самого часового завода, недалеко от русского кладбища. Ванда прихрамывала, даже одно время ходила с палочкой. Прямые волосы иностранной скобкой.
Фамилия у нее была польская. Вот за давностью лет я запамятовал, какая, но фамилия ей была и не нужна. Мы звали ее Ванда. Родители у нее почему-то жили в Германии.
Училась она не в нашей школе, переехала в поселок из города, но переводиться к нам не стала. Ездила в прежнюю на трамвае. Ванда ходила в брюках, а тогда еще девушки не ходили в брюках. От трамвайной остановки она обыкновенно шла, сопровождаемая то одним, то другим парнем. О ней было известно, что соседи по дому видели ее пьяной и что иногда за ней приезжал взрослый мужик на черной «Волге». Мы, подростки, считали ее проституткой. Так и говорили, что Ванда – проститутка. Впрочем, вряд ли мы могли объяснить, что это такое.
Однажды я увидел, что Ванду провожает Витька. Дело в том, что путь от трамвайной остановки к ее дому проходил у меня под окнами. Вот я и увидел: идет Ванда, прихрамывает и насмешливо – видно было по выражению лица – разговаривает с Витькой. Видимо, она позволила ему дружить с ней, потому что впоследствии он стал проходить в моем окне все чаще и чаще с нею или от нее. Иногда он шел пьяный. Раньше с ним такого не случалось.
По окончании школы он поступил в Харьковское танковое училище. Как спортсмена его приняли с восторгом. В том же училище вместе с ним учился другой парень из нашего класса – Ленька Коровин. Он стал в десятом классе на полметра выше, чем был в девятом. Уже после школы мне случайно встретился Ленька и сообщил, что Ванда теперь с Витькой, но и еще с какими-то мужиками встречается, а Витька страдает, пьет и рвется в квартиру, которую она делит с бабкой.
Впоследствии я вы брался с Салтовского поселка, жил в центре Харькова, а через три года и вовсе уехал в Москву и потерял все связи со школьными друзьями. Узнал лишь, что Витька и Ленька окончили училище, служат в одной танковой части, где-то в Средней Азии, и что Ванда женила Витьку на себе. Добилась-таки своего.
А потом был провал, то есть я уехал на Запад и пятнадцать лет не имел никаких сведений о ребятах и девушках с Салтовского поселка, уже ставших за это время пожилыми мужчинами и женщинами. В 1989 году Юлиан Семенов добился для меня разрешения приехать в СССР, и я, конечно, побывал в Харькове у родителей. Моя мать поведала мне конец грустной истории любви Витьки и Ванды.
Во всех внешних проявлениях Ванды – брюки, палочка, хромота, скобка волос – было нечто потустороннее и изломанное. Вероятнее всего, она компенсировала свою хромоту мужчинами. Насмешливо и как бы уступая восхищению ею, Ванда позволила Витьке жениться на ней.
И он увез ее с собой в Среднюю Азию. Военный городок находился в месте пустынном и далеком от больших городов. Да и малых не было поблизости. Ей, видимо, было страшно скучно, а она не желала ограничиваться одним витькиным восхищением. Ванда стала спать и с офицерами, и с солдатами гарнизона. Однажды Витька вернулся с дежурства раньше обычного и застал свою любимую голой, на ней лежал молоденький солдатик. Витька жестоко избил ее и ушел в запой.
Вышел он из запоя уже не майором, а простым смертным. Его выгнали из армии.
Он вернулся в Харьков один. И пошел работать на завод «Серп и молот» простым рабочим. Поселился у матери. Работал и пил. Пил и работал. Через шесть месяцев, в разгар лета, вернувшись с приусадебного участка, мать нашла сорокапятилетнего сына на кухне висящим в петле. В кармане брюк была записка, в которой Виктор обвинял в своей смерти Ванду. Но, конечно, никаких последствий слова, брошенные самоубийцей, не имели.
Витькина мать, когда-то чернобровая полная женщина, враз превратилась в глубокую старуху. Она скрыла, что Виктор покончил с собой. Чтоб избежать позора. Так и считается, что сын ее умер. А где сейчас Ванда, никто не знает.
Лысая певица
Когда долго живешь на свете, то забываешь сам себя, каким ты был когда-то, в тот или иной период. Правда, если иметь архив фотографий, то можно вспомнить себя, каким ты был, скажем, в конце семидесятых годов в Нью-Йорке. Но мой архив развеян ветром переездов, войн, тюремного заключения.
Кстати, о тюремном заключении. Меня десять месяцев судили в Саратове, и все это время я получал газеты и журналы. Лучшими днями для чтения были суббота и воскресенье, когда я не ездил в суды. Однажды, взгромоздившись на шконку, я с наслаждением перечитывал полученные газеты числом более десятка. И вдруг наткнулся на музыкальную рецензию. Кажется, на предпоследней странице «Коммерсанта», в секции культуры. Критик доброжелательно написал об очень известном в Соединенных Штатах и в мире, но не известном мне оркестре из Нью-Йорка. Если не ошибаюсь, коллектив так и назывался – New-York Orchestra. Рецензия была снабжена фотографией этого большого оркестра. Среди мужчин-музыкантов стояла женщина, которую я безошибочно узнал, хотя прошло четверть века. Мэрилин Мазюр – моя подружка, девочка-фотограф из школы visual arts в Нью-Йорке, – смотрела на меня взрослая, но мало изменившаяся. И чтобы у меня не было сомнений, рецензент особо отметил отличную игру на ударных инструментах «знаменитой Мэрилин Мазюр».
Все данные сходились. За исключением профессии. Но в конце концов в пору нашей с ней любви ей было лет девятнадцать-двадцать. В таком возрасте часто меняют увлечения. Внизу проснулись сокамерники, а я смотрел и смотрел на фотографию своей бывшей юной подруги и с наслаждением вспоминал ее. На фотографии на ней белая блузка, длинные вьющиеся черные локоны парика. По-видимому, она и сейчас носит парик, как носила его тогда. Из-за того парика я за глаза называл ее – Лысая певица.
Лысая певица была обворожительной юной еврейкой из Бруклина. Я обнаружил, что она носит парик, в первый же вечер нашего знакомства, когда этот парик сдвинулся ей на лоб в результате нашей страсти друг к другу. Мы приехали в мой отель на Бродвее, в дешевую и не очень чистую мою комнату, и с наслаждением made love. В те годы еще не появился СПИД и отношения между полами не были стеснены ненужными церемониями, так что мы схватили друг друга на праздновании чьего-то дня рождения, вцепились и не выпустили. Потом стали встречаться, потому что понравились друг другу в постели. Мэрилин была высокая, сисястая, но худая девочка с тонкой талией и крупными бедрами и попой. Родители ее были детьми еврейских эмигрантов из Восточной Европы.
Я так никогда толком и не понял, почему она носит парик. Она никогда его не снимала полностью, но я успевал всякий раз заметить, что под париком она была свежеострижена, как осеннее восточноевропейское поле. Мне она объяснила, что, когда нервничает, выдирает себе волосы. Однако невротичкой я бы ее никогда не назвал, она была скорее экзальтированной, увлекающейся, похотливой молодой самочкой, влюбившейся в молодого мужика из России. Любопытная, она шлялась повсюду со своим фотоаппаратом. Помню, что однажды она снимала беременных моделей, там, где сейчас находится Sea Port, в нижнем Манхэттане, тогда там были пустыри и склады. В другой раз она привела меня на заседание садомазохистского клуба «Нахтигаль» на 14-й улице. В те годы подобные клубы были запрещены, и в окрашенном красной краской большом ангаре царило нервное оживление. Собравшиеся ожидали полицейского рейда. В конце концов, мы стали встречаться в ее квартире в Бруклине и предавались там безудержной страсти: у меня, извините, несколько раз кровоточил истертый об нее член. Однажды она, стесняясь, долго и старательно снимала меня голого. Но снимки показывать отказалась, якобы ничего не вышло, потому что, как посетовала она:
– Я слишком люблю тебя, Эдуард!
У меня долгое время хранилось несколько фотографий – я и Мэрилин в ее квартире, – сделанных ее учителем фотографии, седой дамой по имени Эрика (вот фамилии уже не помню). Там она, как юная страстная козочка, такая Кармен, смотрит на меня влюбленными глазами, а я протягиваю ей цветок. На фотографии я выгляжу как этакий длинноволосый соблазнитель. И я без очков – носил контактные линзы.
Разошлись мы постепенно. По-видимому, причиной было то обстоятельство, что я любил ее меньше, чем она меня. Кроме нее, у меня были другие девочки, а у нее, я думаю, не было тогда других увлечений. Я не оценил ее тогда.
И вот на тюремной шконке в Саратове – третий корпус Саратовской центральной тюрьмы, зима только что начавшегося 2003 года – и теплые чувства и радость посетили меня. Я вспомнил ее тело и нашу молодую любовь, и мою заносчивость и наглость, и ее шепот: «I love you, Edward», и истертый в кровь свой член и расхохотался.
– Что, Вениаминыч, классный сон приснился? – спросил снизу старший по камере Игорь, оторвавшись от лицезрения телевизора.
– Девка тут одна была, – пояснил я. – Дурак я был. Любила меня. Четверть века прошло.
Игорь не ответил мне, так как игроки «Спартака» повели мяч к воротам противника. Он заорал:
– А-а-а-а!
Ну и вся камера с ним.
В двух моих книгах – «Дневник неудачника» и «История его слуги» – есть персонажи: Лысая певица и фотограф Сэра. Это одно и то же лицо. Мэрилин Мазюр.
В веселый сезон поздравлений
В веселый сезон поздравлений, season of greetings, как его называют в западных странах, когда улицы их городов превращаются в разукрашенный разноцветными огнями елочный базар и Деды Морозы звонят в колокольчик «Джингл-беллс», вторую тюрьму в городе Энгельсе расформировали.
Поздно ночью двадцать шестого декабрямы сидели – последние несколько десятков душ – на корточках вдоль стены, руки на затылках, полностью одетые для этапа, и морозный ветер гулял нам по спинам. Мороз был – двадцать семь градусов, когда в мерзлом «воронке», десять зэков в одной голубятне, одиннадцать – в другой, мы тряслись через невидимую нам Волгу, мать родную, русскую реку, из заволжских степей в блистательный Саратов. Между тем в месиве зэков и баулов видны были счастливые зэковские лица. Об оставленной «двойке» – тюрьме строгого режима внутри лагеря строгого режима – никто не жалел, а многие вспоминали с огорчением. Мы ехали – часть на тридцать третью пересыльную зону, часть в Саратовский централ. А в Саратовском централе пределом зэковских мечтаний было попасть на «третьяк», то есть в третий корпус. Там сидели тяжелостатейные и особо опасные, но сидели на слабом режиме, можно сказать, никаком режиме! На «третьяке» можно было не вставать утром, до самой поверки спать! Дежурный брал из кормушки хлеб, сахар, кашу по желанию, сдавал мусор, а остальные зэки спали, храпели! В то время как на «двойке» тебя срывал с постели крик казахов:
– Подъем!
Там служила туча казахов, как мух их там было, этих казахов. И больше ты не имел права прилечь. Там запрещали электроплитки и телевизор! Поэтому зэки радовались, как дети, в морозном зэковозе. В то время как за решеткой голубятни мрачные рыцари ГУИНа в полушубках и валенках молчали истуканами. Спросивши разрешения, зэки закурили все сразу, хотя разрешение дали одному. Этот освежающий запах сигареты на морозе! В зэковской вони, ибо, конечно, мы воняли, да еще как! Полумытыми телами… наша одежда пропиталась парами бесчисленных овсянок и перловок, бесчисленных вонючих супов, запахом клозета, табачных выдохов, мокроты, мочи, несвежих носков, подмышками, лобками, вонючими нашими парами голов. На этот запах мгновенно включаются конвойные собаки и хрипло рычат, слюна у горла стянута ошейником, а по нему стегает поводком казах. Они неистовствовали, когда мы выпрыгивали во двор централа в каком-то часу ночи.
В централе было тепло, мутно горели слабые лампочки над дверьми карантинных камер.
– Опять к нам? – участливо спросил высокий офицер в фуражке с высокой тульей, он обыскивал меня.
– Опять, – заявил я счастливо, – к вам!
– Что, не понравилось на «двойке»?
– Нет, – подтвердил я счастливо, – не понравилось совсем. Я патриот «третьяка».
– Раздевайтесь! – приказал офицер.
И я, сдирая с себя одежды, стал передавать их офицеру. Остался в чем мать родила, присел раз пять и оделся вновь, легко и весело.
– Переночуете в одиннадцатом карантине и завтра к восьми утра поедете «домой», на «третьяк», – сказал офицер, – вероятнее всего, в вашу же старую камеру и посадят, в сто двадцать пятую.
В восемь утра я сидел в ледяной голубятне автозэка с человеком по имени Топта, за решеткой от нас поместились ехавшие на вышки стрелки: молодая женщина с накрашенными губами и пожилой офицер, оба в тулупах и валенках, с карабинами. Они беседовали о зарплате, а я безутешно глядел на ее помаду и белые руки. На «третьяке» меня признали своим, пошутили, что я без них жить не могу, продержали полдня в решке на первом этаже, еще раз обшмонали и лишь затем отвели на третий этаж в камеру сто пятьдесят шесть, где уже жили четверо заключенных. Поэтому я устроился спать на полу, у батареи.
Тридцать первого декабря администрация сделала мне подарок. Парня по имени Денис – на бицепсе у него была выколота вертящаяся свастика в круге – перевели от нас, и я занял его шконку.
В новогоднюю ночь мы уселись за колченогий низкий стол. На столе у нас, как в романах Дюма, была копченая курица. Курицу «загнали» дяде Юре его дочери. И был тюрьме разрешен просмотр телевизора до шести утра. Я был абсолютно счастлив в ту ночь с тридцать первого декабря две тысячи второго года на первое января две тысячи третьего. Ведь с чудовищной «двойки» я вернулся в родной «третьяк».
В полночь зэки закричали «С Новым годом, «третьяк»!» и забарабанили по дверям и решеткам. И караульная смена ничего не сказала. Новый год все-таки. «Новый год, порядки новые,/ колючей проволокой наш лагерь обнесен,/ со всех сторон глядят глаза суровые…» – поется в старой воровской песне.
Моя жизнь не всегда была так трагично несчастлива… Париж, тридцать первое декабря тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. Я временно разошелся в тот год с тяжелой Наташей Медведевой, и мы жили на разных квартирах. В меня была влюблена тогда немецкая девочка-журналистка Изабель Гроу. Она писала для модного глянцевого журнала «Темпо», у нее были длинные ножки, тонкие, ниже лопаток, волосы девочки из приличной семьи.
И от нее обильно и нежно пахло духами «Кристиан Диор», ими когда-то душилась, грешными, другая модная девочка в городе Москве.
Изабель была темная блондинка. Папа-адвокат отправил ее в Париж учиться. Она училась в Сорбонне и писала для «Темпо» репортажи, в том числе и обо мне. Мы вместе «вращались», или, как сейчас говорят, «тусовались», среди парижских экспатриантов, то есть иностранцев: это были немцы, американцы, был даже художник-ирландец. Париж в восьмидесятые был дешевым городом для иностранцев. Многие пытались повторить судьбу Джойса, или Хемингуэя, или Пикассо.
Тогда я не ценил себя очень уж высоко. Я ходил в советской солдатской шинели стройбата, с золотыми буквами СА на черных погонах, был автором четырех романов, изданных по-французски и имевших шумный успех. Я жил в Париже шестой год. Другой считал бы все это основанием для того, чтобы быть наглым на моем месте. Но я ставил планку выше и переживал к тому же разрыв с Наташей, с адским, как позднее выяснилось, персонажем. А Изабель приходила соблазнять меня в мою мансарду на рю де Тюренн, она вытягивала ножки, принимала позы. Но я почему-то спал с кем угодно, только не с ней, а был для нее вроде старшего брата.
Тридцать первое наша компания решила провести на колесах. Мы загрузились в несколько автомобилей и начали рано. Мы заехали на квартиру американцев близ Ле Алля. Помню, когда мы выходили из авто, я отметил побелевшие плиты тротуара, что указывает в Париже на мороз. Снега в ту зиму не было, он обильно выпал лишь на следующий Новый год. А тогда мои лаковые туфли отпечатывали на белой изморози следы. Нужно еще сказать, что на мне был токсидо, то есть смокинг, – брюки с лампасами и сам смокинг. И белое пальто поверх. Белое пальто я купил когда-то в Нью-Йорке, но надевал его считанное количество раз. А тут такой случай – Новый год, Париж, красивая германка тоненькая Изабель с большой грудью. Марихуана американцев сблизила нас, и мы целовались. Я думаю, глядя в прошлое, что мы были очень красивой парой, стильной.
От американцев спустя пару часов мы помчались дальше. Париж и в обычные ночи напоминает праздник, а в season of greetings, между Кристмасом и Новым годом, он – симфония огней. К подсветке исторических памятников при соединились растяжки на улицах, вспыхивавшие сотнями тысяч лампочек. Изабель сидела у меня на коленях, и даже сквозь пальто я чувствовал ее горячие ляжки и задик. Может, они горели от выпитого ею шампанского?
Уже в новом, тысяча девятьсот восемьдесят шестом году мы домчались до пригорода Парижа, где в особняке некоего неприлично богатого еврея были танцы. И был кокаин. И, конечно, еще и еще шампанское. Там, казалось, был весь Париж! Я встретил своего приятеля Пьер-Франсуа Моро и встретил элегантного носатого Алена Брауна с соплей алого платка из нагрудного кармана, и его подругу, и девушек из порножурнала «Женские письма», Анн и Кароль. Все они, красивые и возбужденные, танцевали, бегали из зала в зал, все были молодые и красивые. Толстый, привычно пьяный хозяин-еврей слонялся по залам с сигарой, в смокинге, как и я, и получал видимое удовольствие от веселья своих гостей. О подобных сборищах можно прочесть у Скотта Фитцджеральда. Там было несколько сотен гостей! Играли два оркестра!
Уже много позже того, как рассвело, мы с трудом поднялись в мою мансарду и свалились спать, полураздевшись. Я, Анн, Кароль, ирландский мальчик с фамилией, начинающейся на «О», и Изабель. Мы тотчас уснули вповалку шампанским утренним сном, и во сне я дышал духами «Кристиан Диор», ибо спал, уткнувшись носом в душистую гривку Изабель. А рука моя покоилась на ее ляжке, где она сподобилась порвать чулок.
Прошлое бывало и красивым, не правда ли?
P.S.
Мы целовались в Новый год,
Но все когда-нибудь пройдет, —
Пришел тюремный Новый год,
И часовые у ворот.
Арифметический расчет
Глаголет: горстка лет пройдет,
Судьбы сместится колесо
И дрогнет чаша у весов…
То дрогнет вниз,
То вверх скользнет:
Тюремный год —
Счастливый год…
С татуировкой на щеке
Сидит парняга в кабаке.
Ты видишь, милая, он свой,
Как ты да я, да мы с тобой…
Ведь на коленной чашке
У тебя цветок,
А на правой ляжке голубок…
«Но я люблю тебя, Наташка…»
Люди развиваются постепенно. В 1996–1997 годах я еще ходил в Госдуму на заседания Комитета по геополитике. Его возглавлял Алексей Митрофанов из ЛДПР. Мы разрабатывали закон о статусе русской нации, который впоследствии выдержал даже два думских слушания, но не набрал нужного большинства в Совете Думы и был погребен. А зря. Нужный закон. Мы там собирались каждую неделю в большой комнате комитета, и кого там только не было! Несколько толковых людей и, как всегда, жирная туча пикейных жилетов, болтунов и алкоголиков. Для своего оправдания могу сказать, что тогда я еще чуть-чуть верил в российский парламентаризм. Теперь не верю, и если я приду в здание Госдумы, то сбегутся все охранники, менты, ФСБ и не пустят. Грудью лягут на паркет. Я пробовал. Но я не об этом. Я о девочке. Я уже тогда был серьезный политик, однако на девочек и некоторых дам озирался и оборачивался. И, надеюсь, буду до конца дней моих. Вот Жорж Клемансо, по прозвищу Тигр, французский премьер, умер в возрасте восьмидесяти восьми лет в задней комнате за своим рабочим кабинетом с дамой тридцати лет с небольшим. Французы гордятся – и правильно – вирильностью своих лидеров.
Тигр умер как мужчина, как надо.
Мы стояли в коридоре – один чечен, я, адвокат Беляк, еще кто-то – после заседания. И идет она: глазки блудливые, тощенькая, задик затянут в вельветовые брючки, волосы окрашены перьями черными и синими, носик расплывчатый, протезные какие-то модные каблуки – юная дегенераточка. Протискивается мимо, как нитка в иголочку, в дверь. Не очень желая пройти.
– Что делают в Государственной думе дети? – спрашиваю.
– Работают, – отвечает она дерзко. И к адвокату Беляку: – Здравствуй, Сергей.
Ее звали Наташа. В тот день у Беляка был день рождения, и мы пошли в столовую Госдумы выпить шампанского. И я пригласил ее пойти с нами. И она совсем не упиралась и пошла.
О, столовая Госдумы в те годы! Там повсюду стояли букеты цветов, и она скорее напоминала бальный зал из фильма по роману Скотта Фитцджеральда «Ночь нежна», чем столовую законодательного органа РФ. Давно забылись залпы октября девяносто третьего года, и недавние враги оживленно обедали вместе. Я лично видел Гайдара, хохочущего вместе с коммунистом Лукьяновым, генерала Варенникова с фирменным стаканом молока, не говоря уже о разбитных элдэпээровцах, у тех на дворе был вечный праздник, который всегда с тобой. Во главе с Бахусом – Владимиром Вольфовичем.
Мы выпили в этой обстановке две бутылки шампанского, и она смотрела на меня черными глазами любопытного ребенка, эта дочь дантиста, 1979 года рождения. Она знала, кто я такой, и ей нравились такие, как я. А мне нравилась она и то, что она 1979 года рождения, – я находил ее абсолютно безупречной. Впоследствии я открыл, что у нее совершенно нет сисек, но это не повлияло на мою attraction к ней, скорее это было дополнительным ее достоинством. Боже мой, она вся была очарование, каждое движение отличалось современной грацией дегенератика. Она виляла попой, шаркала ногами, когда уходила, на нее смотрел весь зал. Мы договорились встретиться. Я уж не помню, где мы были в первую встречу, но по обоюдному сговору, современные ребята, я и она, мы овладели друг другом в туалете. В моем туалете в доме в Калошином переулке, где я счастливо, по-холостяцки жил в те годы, лишь изредка на ком-нибудь останавливаясь. Зачем в туалете? Ну мы там почему-то целовались, потом современная эстетика и теплый пол – человек, сдававший мне квартиру, сделал там пол с подогревом.
Видите, я сам над собой посмеиваюсь, но она доставляла мне множество удовольствий, я любил ее. Я вообще не отличаюсь мрачным мировоззрением, у меня оно светлое, несмотря на порой враждебные обстоятельства моей жизни. Нет, я не квелый угро-финн из лесов, я, бывало, пел веселые песни даже в тюрьме.
Мы стали с ней встречаться. То я приходил к ней в Госдуму и мы вместе обедали в столовой, вызывая всеобщее внимание и ревность госдумовских мужланов. Мы пили шампанское. То она проводила уикенды у меня и мы весело напивались за обедом, и я домогался, а она якобы оборонялась, но потом позволяла себя брать. Однажды мы сходили в клуб «Титаник», где она, не рассчитав силенок, напилась, а я ее изругал, и она плакала. А то мы пошли к фотографу Хайди Холлинджер, и она нас фотографировала (фотографии позднее разорвала другая девушка).
Как у всякой активной девочки, у нее был груз на шее – бывший ее boyfriend, наркоман. Как-то она привела его ко мне, они напились, и я их выгнал, впрочем, не злясь, а смеясь в душе.
Ну и как, вы думаете, закончился мой с ней роман? Э, нет, вопреки логике, не девочки бросают мужчин моего возраста. Это я пожертвовал ею ради Лизы, моей бывшей женщины, решившей тогда вернуться ко мне, без сомнения, только для того, чтобы разрушить мое счастье в ноябре 1997-го.
Наташка плакала, лежала несколько месяцев дома, пыталась отравиться. Когда в марте меня бросила Лиза, я вызвонил Наташку, опять любовался ее неуклюжестью, пошел покупать с нею (и с моим охранником) какие-то нужные ей папки на Тверской в канцтоварах. Она была серьезной, повзрослевшей, на высоких каблуках, с черно-красными перьями волос и в коротком плаще из черного пластика. Она очень старалась быть высокомерной, но ей не очень удавалось. Мы стали судорожно встречаться. Весь апрель, май и часть июня 1998-го я уговаривал ее жить со мною, мне хотелось видеть ее каждый день и спать с нею ночью, обнимая ее. Не выпив, она была нежной и соглашалась жить вместе, выпив, кричала и укоряла меня за измену, говорила, что никогда не простит. 20 июня она обещала приехать с вещами. Я ждал ее весь день, наконец к вечеру пришел ее факс на мой Panasonic:
«Не верю. Не могу. Не буду».
Не по легкомыслию, но по страстному стечению судьбы или велению обстоятельств, в тот же день, еще с утра, я встретился с девочкой Настей шестнадцати лет, вручил ей партбилет НБП. При ней меня и посадили, и она дождалась меня из тюрьмы в 2003 году.
Но я люблю тебя, Наташка. Правда. Ей-богу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?