Текст книги "Укрощение тигра в Париже"
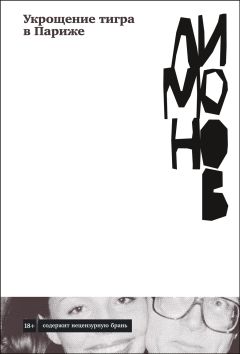
Автор книги: Эдуард Лимонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Купим пива и пойдем в Централ-парк пошабрим? – причмокивая губами, предложил массовик-затейник.
Затейник знал, как наилучшим образом получить кайф. И умел передать свой эпикурейский, наслажденческий запал другим. Писатель был уверен, что в Централ-парке сейчас холодно, и, может быть, очень холодно, а пиво и джойнт, он знал по опыту, еще более охладят тело, но он пошел. И Наташка была довольна. Сидя на скамье среди еще красивых, несгнивших централпарковых листьев, они слушали, уже поглупевшие от травы, как Кирилл в большой шелковой китайской куртке со слишком короткими рукавами объяснял им, как покорным детям:
– Держите дым, не выпускайте и сразу же делайте большой глоток пива. Это увеличивает кайф.
Она попробовала и закашлялась, рассмеялась и опять закашлялась, смеясь. Расхохотался и писатель, выкуривший за свою жизнь, может быть, уже полтонны травы. Кирилл, размахивая руками, выглядел как огородное пугало, куртка была слишком большая, рукава слишком короткие, вышивки на куртке слишком яркие. Несколько листьев свалились на Наташку. Писатель вдруг поцеловал ее, съежившуюся в красной куртке. Кирилл, запрокинув голову, пил из бутылки пиво, кадык вверх – в пустые свободные над парком небеса и тучи.
«Кто ее еще поцелует? – подумал писатель. – Кто у нее есть? Отец у нее умер, когда ей было два дня. Мать у нее в Ленинграде.
Кто ее поцелует? ("Спасибо!" – сказала она с непонятным выражением лица и голоса.) Ее поцелуют, если захотят ебать. И поцелуют по-другому. А вот так кто ее поцелует?» – спросил себя писатель, не обращая внимания на объект – на Наташку.
Замерзшие, купив бутылку водки, они вошли в высокий, как храм, холл здания на площади Линкольна, где остановился у приятеля Ричарда их друг – фотограф Жигулин. В те времена Жигулин больше жил в Париже, чем в Нью-Йорке. С потолка холла-храма свисали многочисленные люстры. Массивный дормен в форменной шинели проверил их телефонным звонком вверх Ричарду.
– Ок, – разрешил дормен.
Наташка вдруг засмеялась хриплым грубым смехом.
«Что это она?» – удивился писатель и заговорил с Кириллом, у которого в одном глазу мелькнуло нечто похожее на удивление, но воспитанный Кирилл не развил это мелькание. Не поддержанная никем, Наташка смущенно замолкла.
«Остатки прежнего поведения, прежних привычек к непосредственным проявлениям, – решил писатель. – Грубые привычки, грубый смех».
Однако писатель вспомнил времена, когда он жил куда более грубой жизнью, чем когда-либо могла жить Наташка, среди рабочих горячих и тяжелых работ или среди преступников, но, однако же, так не смеялся.
На тридцать третий этаж они ехали с группой хорошо выдрессированных мужчин, принадлежащих, без сомнения, к касте бизнесменов. До тридцать третьего этажа мужчины успели много раз неловко облизать губы, почесать щеку, дернуть ухо, вынуть и спрятать платок, скрипнуть ботинками, переступить с ноги на ногу и расстегнуть несколько пуговиц на плаще или тускло-зеленом пальто с начесом. Наташка вдруг свободно засмеялась остроте Кирилла, которую писатель не расслышал, и бизнесмены вздрогнули испуганно. Писатель решил, что предпочитает невоспитанную подружку испуганным навеки бизнесменам, и разозлился на себя за неизвестно откуда взявшийся в нем чванливый снобизм.
Пухлый Ричард встретил их на пороге квартиры. Неожиданно маленький, как бы усохший за два месяца, в которые писатель его не видел, Жигулин выскочил с черными брюками в руках из спальни.
– Ха-га-га, – просмеялся он и сложил высохшее личико в приветливую гримаску. – Привет, Лимоныч! Ты давно из Парижа?
– Наташа! – Может быть, более резко, чем это необходимо, представил ее писатель, и большая Наташка и маленький Жигулин пожали друг другу руки.
Горбоносый медальный «профиль юного ассирийца», как назвал профиль Жигулина безуспешно влюбившийся в него романтик-гомосексуалист, задрался вверх, и глаза юного ассирийца привычно ощупали Наташкины большие губы и скулы.
– Твоя новая девушка? Биг ван…
Всегда кажущийся наглым, Жигулин по-настоящему наглым не был. Писатель знал его уже десяток лет и видел во всех ипостасях в трех столицах мира.
– Моя новая девушка, – согласился писатель.
– Ну что, Кирилл, бля… много кожи продал сегодня? – задрал скелетик Кирилла и тут же убежал в кухню с криком: – Ой, бля, я опаздываю! Ричард, где ебаная гладильная доска!
Второстепенные персонажи: добрая животастая гора мяса Мэри – лучшая подруга Жигулина, русский шофер-таксист, внук известного композитора, пьяная модель Вики, – пересекали небольшую квартиру Ричарда в разных направлениях. Квартира служила одновременно и модельным агентством. Телефонный аппарат с полудюжиной линий, несколько файл-кабинетов, стена, сплошь завешанная фотографиями девушек, наваленные на письменном столе кучками слайды и фотографии напоминали об этом.
Она сняла свитерок и осталась в полосатой тишот без рукавов. И сразу, обнажив надставленные крылышки тонких плеч, стала моложе. Оставались уродливые брюки и сапоги, но можно было без труда догадаться, что и дальше, уходя под грубую кору одежды, настоящее тело Наташки такое же нежное и молодое, как ее плечики. Писатель заметил, что Кирилл одобрительно отметил Наташкины плечики. «Она просто не знает, как ей одеваться. Она забыла в Лос-Анджелесе, будучи женою простых мужчин много старше ее, что ей всего двадцать четыре», – подумал писатель и несколько раз дружески коснулся Наташки. Ричард показал сборник своих стихов… Проиграл записанную им пластинку… Ушел Жигулин. Внук композитора звал всю компанию ехать к нему в Коннектикут…
Ночью они не вернулись в Бруклин, но приехали к Кириллу. У Кирилла они еще выпили, покурили опять и снова потеряли друг друга. Кассета с русскими песнями глубокой давности заставила Наташку и Кирилла задуматься в разных углах дивана, а писателю захотелось спать. Натянув с помощью Кирилла простынь на единственный матрас, оказавшийся (опять!) на полу, брокер имел деньги на все, кроме кровати, писатель улегся. Одеяла Кирилла пахли затхло. Прогорклым человеческим жиром, усохшей ночной слюной и мочой. Понюхав один раз, писатель решил не обонять их дольше. Из соседней комнаты доносились вначале смешки, потом равномерный, наладившийся плеск беседы и удушливо пахнуло тлеющей марихуаной. Писатель поворочался, понюхал пыль из ближайшего угла и стал размышлять о своей собственной глупости. О том, почему он бесполезно страдает, валяясь на матрасах Большого Нью-Йорка в то время, как мог бы спокойно спать сейчас на узенькой, но удобной кроватке дочери Джоан Липшиц, возле детских книг и старых игрушек. Завтра утром проснулся бы в восемь часов к продолжил бы писать книгу, от которой его оторвал приезд подружки. Глупо… «Однако я пообещал ей. Следовательно, я должен смириться с неудобствами и дострадать неделю, оставшуюся до отлета в Париж». Женщина в свиных сапогах должна вылететь в Париж через шесть дней после него… И очень может быть, что она не вылетит в Париж. Решит не вылетать… Испуганная его холодностью.
«А его холодность, – подумал он, – объясняется не тем, что он вдруг переменился, а тем, что Наташка явилась в зимний Нью-Йорк из летнего Лос-Анджелеса другой. Такой, каких он активно не любит…»
Пришла в постель Наташка. Движимый непонятными еще ему мотивами, он отодвинулся на самый край матраса и сделал вид, что спит. Открыл рот и засопел глубоко. Отодвинулся так, что ей не оставалось ничего другого, как лечь за ним. Таким образом, подумал он, не разжимая глаз, она окажется, когда придет Кирилл, между ним и Кириллом.
Раздевшись, Наташка осталась (злодей ухитрился увидеть краем полуоткрытого глаза) в полосатой тишот и пенти, густо разорванных на коленках. От тела ее пахло крутым женским потом.
«Вонючая, как лисица», – отметил писатель.
Она не обняла его, но, согнувшись, очевидно, за спиной в зародыш, уперлась ему в спину коленками. И тотчас же отдернула коленки… Через некоторое время писатель увидел на фоне дверного проема, освещенного фонарями с 49-й улицы, Кирилла в трикотажной рубахе ниже колен. Приглядевшись, писатель разгадал, что странная рубаха является модной в этом году гигантской тишот.
Прошло, может быть, полчаса, на протяжении которых все они не уснули, но молчали. Время от времени кто-нибудь из них менял позу и кто-нибудь вздыхал. Писатель, вдыхая лисий, самочий запах русской женщины рядом, думал, что она, наверное, если судить по запаху, очень хочет сейчас ебаться. Говорят, что они начинают пахнуть, если очень хотят. В этот момент вздохнул Кирилл, может быть, подумав то же самое. «Как глупо… Лежим тут два самца и самка и вздыхаем, вместо того чтобы получать удовольствие. Я должен первым протянуть руку, – решил писатель. – Я и старше их обоих, и Наташка – моя герлфренд, следовательно, это я должен начать. Должен дать сигнал. Дать разрешение». Он повернулся и положил руку на крутой бок. Бок было отдернулся, но, вспомнив, что это рука писателя, того самого, к которому она летит в Париж, Наташка замерла. Рука растопырилась и погладила затянутый в рыхлый нейлон зад девушки, потом, обогнув бедро, воровски обшарила живот. Член – послушный индикатор степени возбужденности – уперся в тело девушки в районе сломанного копчика, показывая, что здесь, рядом со вздыхающим Кириллом, писателю хочется лисицу-Наташку. Рука, зацепив за край пенти на талии, потащила их вниз к животу. Оставила на уровне горячих (успел он почувствовать) зарослей, вернулась и, схватив край пенти, впившийся в зад, повлекла и его вниз.
– О ноу! – промычала Наташка из недр одеяла.
– Йес! – сказал он уверенно и уже двумя руками приподнял зад, как отдельную тяжелую вещь. Отлепив пенти от другого бедра, спустил их до колен и, нырнув вниз, стащил их с одной Наташкиной ноги, оставив висеть на другой. Поместил ладонь в мох под животом и, неловко расталкивая пальцами ноги, заторопился поскорее выяснить, ошибся ли он. Нет, он не ошибся, между ног было горячо, а в глубине – клейко, и мокро, и горячо.
Хотя писатель и перевернул ее на спину, Наташка отвернула голову в сторону и нагребла на лицо кучу тряпок. Делала вид, что ничего не происходит. Некоторое время он мял и поглаживал складки ее щели, и все его пальцы сделались скользкими и мокрыми. Она не издала ни единого острого звука, только дышала стесненно, стараясь, очевидно, не выдать его Кириллу. А он хотел, чтобы она его выдала. По Восьмой авеню, задыхаясь сиреною, проскочил автомобиль. Он задрал на ставшие внезапно мягкими ноги Наташки свою ногу и, ощущая удовольствие от скольжения по ее телу, лег на нее. Она вынула из простынь руку и закрыла ладонью глаза.
Он вплыл в Наташку и задвигался в ней. Подвигавшись некоторое время, понял, что, скованная паникой, она так и будет лежать, ему не отвечая. Он посмотрел на Кирилла. Старый друг Лимонова повернул голову из-за плеча. Писатель беззвучно зашевелил губами, ухмыльнулся и указал кивком головы на лежащую под ним Наташку. Кирилл отрицательно покачал головой. Писатель повторил беззвучную убеждающую речь, задрав Наташкину тишот, обнажив крупную грудь и округлив ее ладонью, жестом пригласил Кирилла проделать то же самое.
– Нет-нет… – просигналил Кирилл, и лицо его было при этом грустным.
И Кирилл спрятал голову за плечо и еще дальше откатился от писателя, лежащего на Наташке.
Писатель остался с грудью Наташки в руке и с членом в ее щели. Он еще некоторое время инстинктивно подвигался в Наташке, затем вынул из нее член, перетащил ее голову к себе на грудь и погладил Наташкины волосы. И не уснул всю ночь. Наташка же уснула довольно скоро.
Наутро писатель позвонил Джоан Липшиц.
– Эдвард, куда же вы пропали, ты и Наташа? Морис согласился отдать вам свою комнату.
Избалованный, больной редкой формой экземы мальчик, десять лет назад отрезанный от пуповины мамы Джоан, жил с поэтессой, очкастая девочка, однажды возмутившись присутствием Володи в доме, сбежала к отцу.
– Прекрасно, Джоан, спасибо… Какой благородный Морис…
Сев в бродвейский автобус, они поехали на Вест-Сайд-авеню.
Сидя в автобусе рядом с Наташкой, писатель проанализировал свое ночное поведение и пришел к выводу, что его неудавшаяся попытка выебать ее вдвоем была скорее усложненной обстоятельствами попыткой подложить Наташку под другого самца и тем избавиться от нее немедленно. Если бы ночью член Кирилла побывал в ней, сейчас бы, проезжая вверх по Бродвею в автобусе, он имел бы моральное право обращаться к Наташке легко, лишь как к подружке совместных любовных игр, секс-гимнастики. Она потеряла бы право на специальный статус «его девушки», герлфренд, если бы член Кирилла побывал в ее самочьей дыре между ног. И все обещания были бы недействительны. Но этого не случилось, и они ехали по озаренному зимним солнцем морозному Бродвею мимо серых и черных стен, все так же связанные невидимыми нитями. На всякий случай писатель поглядел в пространство между синими стульями, не видны ли вдруг стали нити, стальные или веревочные, привязывающие его к Наташке.
Наташкина рожица выглядывала из-за красного воротника куртки. Русская девушка прилежно изучала ленту бродвейских стен и тротуара, ее монгольская скула и один глаз и заколотые хвостики отрастающих волос были повернуты от писателя. От наблюдения за Наташкой писателю неожиданно вдруг сделалось весело. И празднично. Благодаря удачному соотношению каких-то элементов характера и таланта в нем, бывшем украинском мальчике, за ним всегда следовали женщины – как дети за Крысоловом из Гаммельна, всего-навсего лишь играющем на дудочке особым образом. Заколов волосики, промыв глазки, в туфельках или сапогах, они ехали или даже шли туда, куда шел он, не спрашивая, правильно ли он идет, в том ли направлении они едут, доверяя ему – Крысолову.
– А не купить ли нам пива, Наталья? – предложил он, когда они сошли на Бродвее у 93-й улицы.
Глава четвертая
Во втором часу ночи позвонил Тьерри.
– Хэй, Эдвард! Мэри Кристмас! Я знал, что застану тебя дома. Кто еще будет сидеть на Кристмас-ночь один… На это способен только Эдвард. Ты ведь один, правда? – Было такое впечатление, что он заключил с кем-нибудь пари и теперь проверял, выиграл ли он.
– Да. Один. Читаю «Пинболл» Козинского. Учусь у польского коллеги, как следует изымать деньги у населения.
– Хочешь, я приеду, Эдвард? У меня есть бутылка шампанского, кейк и подарок для тебя.
– Приезжай, конечно. Я буду рад. Ты далеко?
– Близко. Приеду через пятнадцать минут.
В «пятнадцать минут» я не поверил. Тьерри всегда опаздывает. Я продолжил чтение. Он приехал через час. Но все равно, когда он объявился в дверях со спортивной сумкой в руке, улыбаясь во весь необыкновенно широкий (не меньше Наташкиного) рот, я обрадовался. Приятно все-таки почувствовать, что ты нужен и даже существует человек, способный приехать к тебе и привезти Кристмас с собой. Хотя меня и приглашали на Кристмас в два места, я, наученный опытом бессмысленных вечеров, проведенных в толкотне, шуме и табачном дыме, решил остаться дома и провести вечер, изучая работу коллеги-жулика. А у Козинского есть чему поучиться, он ловкий сочинитель.
– Я очень пьян, Эдвард! – сообщил Тьерри.
– Иногда можно позволить себе напиться, – поддержал я его. – Почему нет?
– Я такой на хуй пьяный! – Тьерри прошел в ливинг-рум и упал в большое старое кресло. И тотчас же вскочил. – Посмотри на меня, Эдвард!
Я посмотрел. На нем был галстук. Торс Тьерри облачал черный пиджак, доставшийся ему в наследство от нашего общего друга – русского мальчика Антончика, уехавшего, к нашему общему сожалению, в Нью-Йорк. Брюки, правда, на Тьерри были странноватые, из толстой ткани с узором. Такой тканью обивают обычно диваны, а не шьют из нее брюки. Большие альпинистские ботинки также никак не вязались с галстуком и белой рубашкой, но в общем налицо была попытка выглядеть благопристойно. Празднично.
– Полный пиздец! – одобрил я. – Где ты был в таком виде?
– У сестры и ее мужа… – На лице моего друга возникла гримаса отвращения. – Ух, ебаные буржуа… Как было скучно, ты даже себе представить не можешь! Семейный праздничный обед. Занудство… Давай выпьем шампанского. Все-таки праздник. – Он прошел к своей сумке, которую, войдя, бросил посередине ливинг-рум, и извлек оттуда вначале пол-литровую бутылку шампанского, а затем длинный картонный пенал. Рванул картон пенала, и в брешь я увидел зеленый (!), разукрашенный узорами крема – розами и листьями, – кейк.
– Ни хуя себе! – выразил я свое восхищение.
– А это… – начал он торжественно, еще раз наклонившись над сумкой. – Это мой подарок тебе! – В руке у Тьерри была бутылка бурбона «Олд Дэдли». – Я украл ее специально для тебя, Эдвард. В супермаркете. На Кристмас в супермаркете можно украсть что угодно. В толпах людей это легко. – Мой заботливый друг сиял от удовольствия.
– Я боюсь воровать, – признался я. – Я должен уважать закон. Я иностранец, выставят еще на хуй из Франции! Потому у меня нет для тебя подарка. – Я принес бокалы, Тьерри откупорил бутылку, и мы выпили.
– Хэппи Кристмас! – пожелал он мне.
– Хэппи Кристмас! – пожелал и я ему. Хотя, к сожалению, мы не верим ни в одного из существующих богов.
– Наташа в кабаре? – спросил он.
Я кивнул.
Вначале он пожаловался мне:
– Ты помнишь, Эдвард, что вместе с Пьером-Франсуа и Филиппом мы работаем над пробным «0» номером журнала?
Я помнил. Одно из парижских издательств решило создать молодежный журнал.
– Так вот. Главный редактор – Антуан, страшный мудак, парень моего возраста. Но он уже, этот салоп, главный редактор! – Тьерри вскочил и разгневанно пробежался несколько раз по периметру комнаты, каратируя, может быть, с тенью Антуана. Опять упал в кресло. – Он все время ко мне приебывается, этот салоп! Ему не нравится, видите ли, как я работаю. Не результат работы, заметь, но то, как я работаю. Ты знаешь, что я всегда опаздываю, Эдвард? – Я киваю головой. – Да, я опаздываю! – восклицает он патетически. – Но я все делаю не хуже других, в срок, и ты знаешь, Эдвард, что в своей области, как спортивный журналист, я очень хороший профессионал.
Да, я знаю, Тьерри – талантливый и храбрый журналист. Однажды, делая репортаж о боксе, он вышел на ринг и сумел продержаться целых три раунда против экс-чемпиона Франции. Журнал, для которого он делал репортаж, пустил фотографию схватки на разворот. Две недели мой друг гордо ходил с сине-желтым лицом.
– Эта сука мне постоянно выговаривает, Эдвард. Учит меня жить. Когда тебе выговаривает человек твоего возраста, это противно…
Тьерри двадцать пять, и ему еще противно, когда его поучает ровесник.
– Я говорю ему: «Пошел ты на хуй! Что ты ко мне приебываешься, Антуан?! Я свою работу делаю? Для меня легче остаться позже на час, чем прийти в ебаные девять часов утра, ровно…» Нет, не сработаться мне с Антуаном, придется искать другую работу. Я ненавижу ходить в офис…
Я стал у шкафа, скрестив руки на груди и улыбаясь. Тьерри напоминает мне меня самого. Я, правда, никогда не опаздывал, но моя независимость постоянно ставила меня в конфликтные ситуации.
– Посмотри на меня, Тьерри. Я – печальный отрицательный пример. Таких демонстрируют детям и говорят: «Если не будешь слушаться, станешь таким, как этот дядя». Жертва своей собственной самостоятельности. Если ты не будешь подчиняться их требованиям, станешь таким, как я.
Тьерри расхохотался и поставил бокал с шампанским на пол:
– Хэй, ты не так плох, Эдвард!
– Я не утверждаю, что я плох. Но к моим сорока годам что я имею, а, Тьерри? Ни страны, ни социального положения, ни денег, ни работы, ни детей, ни семьи… – перечислил я от шкафа.
– Перестань, – сказал он. – Ты писатель. У тебя есть книги. Они публикуются. И ты пишешь новые. Это – главное. Я вот никак не могу собраться и начать серьезно писать. Это, наверное, потому, что я еще молодой, много соблазнов, всего хочется… Жить хочется…
Он опять вскочил и забегал по ливинг-рум:
– Куда мне теперь идти, Эдвард, я не знаю. Я не уживаюсь с ними…
Он не уживается, это историческая правда. Он работал и для «Актюэль», и для «Либерасьон», и для издательства «Отрэман», и для литературного агентства, для дюжины молодежных журналов, но даже малую долю конформизма он в себе не смог найти, чтобы стать уживчивым, более удобным для других. Он резок. Тьерри умеет обидеть человека легко и в лоб. Но мы с ним ладим. И Пьер-Франсуа, его неизменный партнер и самый близкий друг, с ним ладит. Вместе они пришли ко мне в январе 1981 года интервьюировать меня для «свободного радио». Это было еще при Жискаре, и «свободное» радио было запрещено…
– А Пьер-Франсуа? В каких он отношениях с Главным Антуаном?
– Ха, Пьер! – Тьерри вскидывает руки к небу, к потолку. – Пьеру легче. Он спокойнее меня, он умеет ладить с людьми, его любят. Ты же знаешь, Пьер у всех вызывает симпатию.
– Однако и он, как и ты, нигде подолгу не удерживается. Может быть, он уходит из чувства солидарности с тобой?
Тьерри опять обращается к небу за ответом и впрыгивает в кресло. Возможно, что я и прав, с Пьером они разделялись лишь иногда. Тьерри поставлял известному фотографу моделей – трансвестаев по 500 франков за штуку. Пьер однажды возвысился до звания главного редактора большого молодежного журнала. Сейчас у них плохой период. Тьерри ночует в шамбр де бонн в девятом аррондисмане, без туалета и телефона. Пьер живет в квартире приятеля Филиппа.
Наступила моя очередь жаловаться. Я рассказал ему о происшествии на рю де Розье:
– Несмотря на незначительность события, Тьерри, я чувствую себя униженным и жалею, что не подрался с типом в зеленом спортивном костюме. Нельзя позволять себя обижать.
– Нельзя, – согласился он. – Пей шампанское! Я много выпил у сестры. Я уже пьяный.
Я последовал его совету, стал пить шампанское и размышлять о том, а почему я всем рассказываю об этом вовсе не выдающемся событии? Большое дело, толкнули Лимонова… Ну толкнули, ну парень оказался наглецом, ну и что? Может, он из Израиля, сабр, они там все наглые. Даже то, что он ответил мне на корявом английском, скорее свидетельство того, что он израильтянин, они все там в той или иной степени говорят по-английски. И даже если это был Наташкин любовник, то и в этом случае ничего необыкновенного в происшествии отыскать невозможно. Недавно по рю Сент-Антуан шел по направлению к Лионскому вокзалу тип с винчестером и спокойненько отстреливал прохожих. А тут всего лишь врезали локтем в ребра… Однако, наблюдая за прикрывшим глаза Тьерри, напрягшись, я преодолел все же свою собственную безопасность, мое внутреннее КГБ, и вытащил из себя истинную причину тревоги по поводу удара локтем и слетевших с носа очков. Сорок лет-то мне исполнилось впервые. Опыта этого возраста у меня нет. Вот я и боюсь, что мне врезали в ребра по причине моих сорока лет. Даже как гипотеза это умозаключение показалось мне неаппетитным.
– Выпьем подарочного бурбона? – предложил я Тьерри.
– Пей, Эдвард. И ешь кейк. Я, правда, очень пьян.
Спортивный журналист пьет мало, и его «очень пьян» выражается в том, что Тьерри улыбается больше обычного и вместо того, чтобы безостановочно прыгать по ливинг-рум, он перемежает прыганье сидением в кресле. Я открыл «Олд Дэдли» и налил в стакан слой желтого напитка толщиной в пару пальцев. Принес из китченетт две тарелки, нож и чайные ложки. Отрезал от толстой багетины кейка два куска и водрузил все это великолепие на журнальный стол. Остов кованого железа несет на себе зеркало, грубо расписанное цветами. Стол, как и вся остальная мебель (пять шкафов в том числе), принадлежит моей квартирной хозяйке мадам Юпп. Я подозреваю, что в свое время мебель служила ее бабушке. В квартире царит уют первых годов двадцатого века.
Тьерри взял тарелку с кейком, но, сжевав содержимое одной лишь ложки, поставил тарелку на стол.
– Который час, Эдвард?
– Без десяти три.
– Я пойду. Скоро уже Наташа вернется из кабаре.
– Сомневаюсь в том, что она явится так рано в Кристмас-ночь… – Я вздохнул.
– Пьет?
– Пьет. Да еще как! Все чаще. Каждые несколько дней. Достаточно любой мелочи, моего неосторожного критического замечания в ее адрес, ее плохого настроения, и девушка является спотыкаясь…
– Ты думаешь, она алкоголик, Эдвард?
– Ох… Раньше я думал, что да, теперь не уверен. Может быть, это тяжелый, запущенный случай психопатии, всякий раз обостряющийся при принятии алкоголя. Не знаю… я не доктор. Почему я выбираю себе таких сложных женщин, Тьерри? Мог бы, к примеру, остаться с немецкой художницей Ренат. Она была ровная, спокойная, дружелюбная…
– Тебе не нужна спокойная, – улыбается Тьерри. – Тебе нужна дикая Наташа.
– Ну и женщины у меня были, Тьерри… Все неудобные. – Я забегал по комнате, подражая ему, моему другу. – Анна была сумасшедшая, получала пенсию с восемнадцатилетнего возраста… Елена (Тьерри видел приезжавшую в Париж Елену несколько раз) была секс-крейзи… Наташка – алкоголичка..
Я не сказал Тьерри, что Наташка также подает надежды в ближайшем будущем превратиться в секс-крейзи, но про себя подумал.
– Бедный Эдвард! – высмеял меня Тьерри. – Насколько я понимаю, ты получал и получаешь от своих женщин и удовольствие, иначе зачем бы ты с ними жил.
– Я не мазохист, – счел нужным заявить я. – Я люблю трудных женщин потому, что они дают мне самое полное ощущение жизни, какое только возможно. Женщина-рабыня, повинующаяся каждому слову мужчины, – не мой тип. Для удовольствия мне нужна борьба.
– Тогда не жалуйся, – резонно заметил Тьерри.
– Наташа могла бы быть полегче. Могла бы и не пить или пить меньше. И без алкоголя у нее достаточно крутой характер. Теперь она еще стала собирать чемоданы при каждой ссоре. Другая новая форма протеста – она ночует у Нинки. Часто даже не предупреждает меня, прямо из кабаре едет к Нинке. Я не знаю, что они там делают…
– А Нина сейчас дома? – Тьерри оживляется, и заметно.
Я познакомил его с тощей блондинкой Ниной – разведенной русской женой честного француза Жака, и Тьерри, кажется, несколько раз переспал с ней.
– Не знаю. 99 шансов из ста, что ее нет дома в Кристмас-ночь. Позвони ей, если хочешь.
Тьерри пошел к телефону. За окнами раздался душераздирающий визг тормозов внезапно остановившегося автомобиля, затем восторженные крики: «О ревуар, Наташа! О ревуар!», вырвавшиеся сразу из нескольких глоток.
Это приехала моя баба. Моя девушка. Мое стихийное бедствие. Мое явление природы. Перекрестись, Лимонов, дай бог, чтоб она была не очень пьяной, не то произойдет скандал.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































