Текст книги "Сентябри"
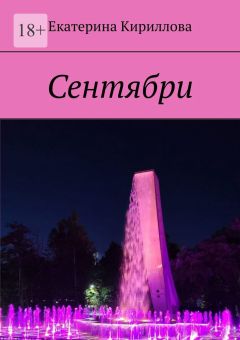
Автор книги: Екатерина Кириллова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сентябри
Екатерина Кириллова
© Екатерина Кириллова, 2024
ISBN 978-5-0062-5674-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Вновь летит на Сахалин, только выключим камин. Пять стаканов и бокал, пролетаешь ты Байкал. Аэрофлот, восемьдесят пятый год, Вы отправляетесь в полёт! Самолёт парит, сердце стучит. Ты таешь вся под мраморным крылом, мой белый шоколад, ты нежишься в туманах и дыму, а я тоскую здесь один, завидуя тебе. Катя, скажи, как удалось тебе сбежать опять, нас обманув? Никто мне не сказал, я сам не знал, но ты ответь: край света нужен лишь, чтоб доказать любовь? Ему твой поцелуй на маяке, твоя взяла: Лаперуз и высота, его глаза морского цвета и некуда бежать.
Ты оставила мне всё и самолётик на столе, а места, искренне томясь, ты не находишь, хоть и брала в проходе, я знаю твои длинные ноги, но всё написано до нас, и Новикова нет давно, но порван воспалённый гобелен крылом – настольный сувенир опасен. Я же не сплю, пока летишь, восемь часов, к нему и от меня, ты справишься? Я здесь с ума схожу. Ты всё надеешься, но Чехов виноват, ответ я знаю, но ты спешишь. Настигнув офицера и обогнав себя, врезаешься в него, любя. Любовный жар не отступает, в крови сорок один. Военврач ждёт, моргая в небеса, считая мили, с каждым рейсом ты всё ближе, а самолёты ниже. Так, Алексей мечтает, я замираю, и камера дрожит сильнее сигареты, но вот мотор: в курилке пусто, коктейль невкусный, ещё земля, а ты паришь в ожидании свидания, избегая прошлого в кафе. Голос сбил тебя с толку, только навязчивое лицо работало официантом пятнадцать лет назад, вдох – выдох. Подвёл ретроградный анализ, говорил же в июле не читать «Ясновидения Набокова». К тому же ты сидишь на том же месте в октябре, обмануты твои зацелованные подушечки плюшевыми подлокотниками, ты в Пулково, а вместе с тем на кухне, укутана в его халат. Душно. Вся дрожишь, отбивая минуты, играющие часы. Вспыхнуло и не потушить. Пять лет. На плече синий маяк. Шея в гирлянде, но всё прошло: у доктора твоего гагаринская улыбка и алые розы на белой футболке. В обед он мчит к тебе, и отступает тьма. Сигареты не спасают, джин не помогает. Ни вам, ни мне. Увертюра, ухожу.
В сладко – пьяных водах марта я тонул в театре, любя и ненавидя, ведь Вы, вы везде: покой и радость, Дафнис и Хлоя. Скалилась радугой Москва, а ты упрямо держишь курсы на восток. Сейчас же красный кружевной октябрь, но в меди Левитана тебя нет, как и в ревущих 20-х, ты вся персиковый дым на его губах, и не напиться нам. За углом поджидает противный персидский ковёр – самолёт Его Величество Время.
Прошлое ушло, стоило тебе закурить с военврачом на площади Искусств.
И, вспомнив, наконец, уже влюбившись, о том, что мучает любовь годами, ты нагло спрашиваешь у меня, хранятся ли бобины разговоров после разлук, стреляет ли ещё лук? На полном скаку ты натянула тетиву, а я освобождай? Я и знать тебя не хочу, но как назвать? Как звали мы его? Кто такой наш Ласт – учитель и кем стал для тебя, тигрица? Лост ждёт тебя и помнит, но ты лети, я задержу.
Прости, я пьян. С третьим звонком третий коньяк, раз ты единственная носишь бархат. Я ждал и ненавидел. Ни улыбки за полжизни. В двадцать цветёшь и куришь, но нам вечно пятнадцать. Глаза цвета атмосферы титана. Плечи твои смущают, не дают покоя, словно я вижу их впервые.
Плыву небрежно по ступеням, тону в ковре, закрыв глаза, я настигаю, и яд переливается во мне. Смотрю, как зло смеётся шёлк её губами, сладко-нервными, чужими. Весь мой удел лететь по маршам, пусть я готов бросать перчатку каждый день, но офицер закрыл Вас так, что мне серьгу не разглядеть. Уже копируешь его, а он знаком с семьёй, гордится! Двадцать лет разницы – ручей, и не боится.
Вокруг всё то же, они уже в двадцатой ложе. Сейчас бы на ложе. Я знаю – диван там точно синий, но блюз бессилен. Кошачьи глаза, не моргая, следят за искрой люстры – трамвая. Его ребро дугой под этой радугой ночной. Неспешно льётся шторы шоколад в такт шуму и шёпоту камина, весь мир вверх дном, следом за ней всё нежно тает, во сне врач за руку хватает. К ногам все розы Эквадора, весь Сахалин, только бы проснулась с ним. Коснувшись сердцем, узнал ритм, а уже утром заспешил с Набоковыми бабочек ловить. В горячую метель, в такси, ему приснится Катя и Белого снега Пальмиры. Золото, кимоно и больше ничего. Ванна готова.
Злыми чайками год в меня летят её дневники, разбиваясь о паркет, я их сдуваю и сдаюсь. Любил, люблю и буду. Низкий голос, алый лак, длину ног, разворот, созвездие на ключице; и злость, и бледность, и строгость, и сентиментальность, надрыв и гордость, только ей можно любить его исступлённо – навсегда. Прошлое – серпантин на ёлке.
Ловлю судьбу, пишу, не нахожу. Где мне начать? В Москве, в отеле? «Посмотри на себя, грешник». Или после спектакля по Куприну? По блату пару посадили в третьем ряду. Сиди и смотри, с ним можно и в первом, и на сцене.
Уже не радует никто. Алексей едва пришёл, но им дышать дано, другие травят, она хладеет ко всему. Пантера пела мне про шип любви, дающий «Хвост лемура», но я в заброшенном саду, душа болит, палец кровит. Пришлось забрать тетради, а вазу я разбил: смертельно боюсь слёз, пусть злится и шипит. Холодная волна у ног, уже у сердца, сам коридор во льдах, и я несу тебя, но ты навзрыд. Татуированный дразнил тебя, а мстишь ты мне.
Но мне до боли знаком её сон: зеркало в бирюзе с горящей подписью-надписью: «Только для грешников». Так впусти меня, мы оба устали биться. «Take the box». Ваша любимая. И опять не угадал. К счастью, сейчас поёшь врачу.
Казалось, мы давно окончили девятый класс «В», наш географ, Валентин Валентинович, решил, что это тоже праздник, а вот кинокритик жизни, чёртов Ласт Листович, не попадается уже года три, и сколько пытался проявиться в лаборатории её души, остался с носом. Отворачиваюсь или зацелую кошачьи следы.
Сильно искушает, я поддаюсь: я полюбил Катерину ещё в школе, но остался в друзьях – дураках, и только спустя годы позволила мне поиграть, заглянуть, выучить историю, наконец. Учебник можно было выбросить в первый день, про них уже всё было ясно. И вот сейчас, перед рассветом листаю фонтан: в моих рука поклонница Набокова выросла и улетела. Мне не хватило смелости открыться ей тогда, теперь же смысла нет. Сложилось так, что учиться вместе мы дальше не смогли, и встретились лишь в двадцать. Катя поверила мне вновь, видел только я, как вся звенела и курила, пластинку заело, иглу сломало, но явился ослепительный, прекрасный, настоящий, неземной доктор, и все ушли. И я закрою тихо дверь, отдаст бокал. Обои уже экран, пещерные тени играют в кино. Бью стену – мне нельзя врываться. Знакомо и далеко.
Читатель, я пишу впервые, смейся и плачь, я на грани сжечь. Не думал, что удержу узор её жизни. Но Вы здесь. Видимо, вспомнить, а может, забыть, или быть. Выясняйте скорее симптомы любви. Мне хочется сбить все карты, но осколки, обрывки, окурки. Забыть бы сны, но на кулисы не хватило метра. Как по нотам скольжу по дневнику её же пухлыми губами. Закрыть от лихорадки не могу: критический персонаж равен сам себе, но пришло время сводить татуировки. Я лишь догадываюсь, откуда именно такая любовь, но на земле нельзя, лишь шёпотом, и так невыносимо. Если в жизни такого не случалось, самое время вкусить, сегодня хаос отрицает хаос. Я люблю, как умею. Ей можно дышать и в пятьдесят, пульсируя и не тая, всё равно отравит.
На работе я устал от эпистолярных водопадов, но её самый дорогой. Она существует! Больше таких не знаю и не хочу. Для меня есть только мир Екатерины, можно я буду просто смотреть? Как живёт и любит, как смеются наглые глаза. Знаю холодные руки и не сплю из-за скул. Унижаюсь, угадывая номер, молю, люблю.
Благодаря Катюше в сорок перерождаешься, и пусть не для меня её ревность и ресницы. Пыльный и скучный так и не укротил строптивого скорпиона, и я ей был чужим, посторонним, тенью и сателлитом, и сейчас я надоедливый наблюдатель, пьяный Пьеро. Только критика я так и не стёр, хоть и покупал сигареты, и кольцо любимое нашёл. Даже не знаю, как объяснить, я носил её на руках, а Катя вилась и стекала, смешил – рыдала. Врубель бы мог влюбиться. За него точно не скажу, но страдаю давно. Только Кэт любит так, что вам станет тяжело, я и сам задыхаюсь, но вы теперь вооружены.
Ласт был везде. В остро – синих глазах все ещё талая тоска, искрится бирюза, манящая кавалеров старше. К сожалению, никого не волновал его диплом, и, конечно, быстро выяснилось, что сделать кинокритика учителем в двадцать три непросто, но всё же сопротивляться так, как умеет рысь, Листович не смог, позволив загнать себя в нарисованную мелом клетку. Сейчас я понимаю обоих чуть лучше, но, чёрт возьми, как можно было так влипнуть? Мне плевать на его мечту поучать, Ласт лишь стирал грязной тряпкой покой и радость. Спасибо, что научил травить. В синем пиджаке на странную футболку, джинсах и зелёных носках, не знаю, что противнее: салатовый термос или большие наушники? Кто угодно, но не историк. А что географ? Не знаю, был ли Валентин лучше. Постаревший вечно-бледный шатен, по-советски благородный, но словно замороженный в 80-е. Синие стекающие глаза, джемпер на рубашку и старые туфли. В бюро снов сообщили, что он всё ещё любит-страдает и грешит-унывает, обжигаясь чернёным серебром.
Мне волнительно заниматься этой историей, прости за каламбур, раз кинолента душила тебя годами, спадая на грудь, струясь по бёдрам. Пошлого в прошлом не нахожу. Им давно не нужны штампы и ярлыки, нет смысла лукавить, все души договорились. Свет пролью только ради неё, я уверен – всё осознаёт. Я был так счастлив, когда Катя наконец-то вышла из «класса» после пяти лет истории дважды в неделю, и сколько нервов мы за неё отдали! Порывалась сжечь тетради и дневники, но вовремя изъял. До сих пор я не верил и ни разу ей не сказал, а теперь знаю, даже жалея, что можно и в тринадцать любить так терпко и упрямо.
Я знаю кадр, где от Ласта одно отражение в окне, но тень тревожно наваливалась. Кто посмеет сказать, что это фантазия? Слишком веские доказательства, которых у любви, как известно… Но ведь равнодушных не обманешь: знали, подглядывали, врали, вспоминали, ревновали. Серьёзная и женственная, властная и ядовитая. Мне ли не знать, кто начал партию, но точку поставить не могу, как и Елена.
Уж десять лет, как Кэт знакома или была знакома с критиком? Эта форма неизвестна даже мне, хоть и пришлось работать с тысячами, но ни одна не тронула меня.
Нагло навожу бинокль на её ложу. Притворно опускает глаза, только док может смутить такую рысь. Ей, артистичной и эмоциональной, после экскурсии подарили ещё одно театрально-полевое двуглазое, хотя у Катюши уже имеется два. Видимо, у Алексея третий глаз, но жизнь они смотрят одну на двоих. С ним дышит глубоко. Я не в силах оторваться.
Не избежать, и сама знает: настал осенний угар – ей не спастись. Тигры нежатся в дыму. В ложе так тесно, знаю, капризно ляжет на него. Невыносимо. Гаснет свет, и под чёрными бретелями вьётся моя жизнь. Я весь она.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1
Миллениал учился в соседней школе № «наша+1». В восемнадцать она покоряла, он обслуживал, но всегда умел критиковать, усердный студент факультета экранных дел. Ему было не суждено пройти на режиссуру, это не удивительно, учитывая его данные и отсутствие потенциала, вечную нехватку жажды денег, жажды и денег. Но и здесь Ласт жалел себя, пролетев мимо кино, в двадцать три отправился в школу, не справляясь с собой и дисциплиной, утраченными иллюзиями и дикими «рукавами». По иронии, я выбрал схожий факультет, только ни одной лиственной статьи не обнаружил. Географ, напротив, не знал какие муссоны или пассаты занесли его после университета и командировок в школы, а критик специально пришёл историть. И вот назрело. Притворяясь или нет, уж этого мне знать не дано, как назло Л. оказался именно в нашей дыре, и Катя даже была благодарна судьбе.
Их разделяет двенадцать лет: не сын и не отец, не брат и не мудрец. И ей было не определиться, как же я могу судить? В нашей школе точно никому не могло прийти в голову любить учителя, только у меня нет права винить их обоих, кажется, Ласт и Катя сами выбрали друг друга, бог весть зачем. Но придёт третья правда, и вам больше не захочется стоять за кулисами детства, наставляя, запрещать. Личный подход от него не требовался, как и выход за рамки школьной программы, всё было так просто: две истории в неделю, так зачем же было говорить с ней тет-а-тет? Он так мечтал о семье, но что если с его дочерью заговорят так же, лет через десять? Критик украл пять лет её времени, путая и волнуя, гордился и дразнил.
Знаю, что не надеялась, но было не сбежать, даже после львица помнила каждый день, а я – все взгляды и движения. Мне двадцать три теперь, но даже не представить, что можно проявлять к ребёнку интерес, дарить цветы. Мы оба думали про этот нумер, но и сейчас с ужасом читаю пергамент о любви, зная, как катится её слеза. Многим Катя заявляла, что иллюзий не имеет, и только один колдун, словно зная всё наперёд и о её муже, ответил, что говорить так позволено сорокалетним.
Рефлексирует с десяти, а я знаю партию наизусть: двадцать и сорок, но не двенадцать и двадцать четыре, только её шахматную доску никто не видит. И незачем было сокращать дистанцию, пусть чужие идут прочь. Её рука и сердце всепонимающему офицеру, мой нежный лебедь теперь с ним.
Финал уже был забит в клетках, но трясло так, что не прикуришь. Меня поражало, как их тянет друг к другу, словно по инерции, и как ломает её от соприкосновения мыслей. Эти двое злили всю учительскую. Я всегда боялся, что может случиться, выводил из класса, но историк возвращал. Всё было против. Не причём здесь разные категории, я же видел, что она не прошла из-за гордости. В борьбе чаще промахивался Ласт, только мне всегда казалось, что Катерину словно приворожили: и шла к нему, и не хотела. Сейчас же, зацепившись шпилькой, порвёт все сети и бросит в наглое лицо, но у него, скорее, лошадиная морда, забыть бы ещё имя, кличку.
Год спустя после знакомства, Катя решила, что он «алмаз в помойке» – самая точная характеристика, только, на удивление, не в его пользу. В девятнадцать стала алмазной львицей. Критик провалился за три взгляда, ей уже было очевидно, что в сумерках Ласт не сумеет согреть.
Катюша ушла бы спустя день, в семнадцать уже могла себе позволить, и это самое мягкое. Но в школе пульс всё же учащался от холодных меланхоличных глаз, и добрых, и нет, я так и не понял, но безумного желания к нему не возникало. Таких слабосильных тысячи, но всё же иногда мне чудилось, что в каком-то другом мире, историк и географ – отец и сын.
Валентин ждал своего часа полтора года за пыльной кулисой судьбы. Катя на ФТИИ, но ради абсурда: кем можно стать, сдав историю и географию? К счастью, она обошлась литературой. С четвёртого этажа на третий, никак иначе.
Переживали все трое, и, конечно, я, троечник, не мог противостоять двум учителям, но и они не могли скрывать свой интерес даже в такой неравной схватке, только ей хватало гордости смеяться в лицо.
Полагаю, Вы учились в школе, спустя годы почти все декорации остались прежними, шутки ради можете представить вместо доски работу Сая Твомбли из «запретного» музея Людвига. Только так сыграть можно было именно в нашей школе, именно нам, но всё это не имеет значения. Только мы с Катей видели как наяву: п-образное здание с советскими столпами так напоминало Кносский дворец, что с каждым годом миф между ними становился реалистичнее. Ей была ближе мысль о маяке во время шторма на четвёртом этаже. Поймите, читатель, мы лишь ищем ответы на школьные вопросы, параллельно развлекаясь. Вам решать, кто из нас прав, я комментатор. Нам чуть больше двадцати, и все ушли, а я передаю ей кровь, перо и уголь, мел, но остаюсь.
17 июня 2022
В белом пиджаке, который уже прозвали адмиральским, я вновь оказываюсь у этой проклятой школы, где не смогли даже сберечь памятник. Помню, нас тогда про него спросила одна пьяная морда, и сейчас уже на камне нет ни фуражки, ни будёновки – всё спилили. В целом мало что изменилось, в школьном парке у пруда мне всё так же перехватывает дыхание, а само здание пустует в перерыве между экзаменами. Душно. На мне чёрная юбка и красные туфли со шнуровкой. Пыльно, но я сажусь на край скамейки, не зная, что сказать. И входит он. Прошло четыре года с нашей последней встречи, а географ всё ещё смеет спрашивать обо мне, остальные выпускники его не интересуют. В этот раз обойдёмся кратким разговором, тогда хватило. Круг замкнулся. Всё сошлось. Я шла сюда как в бреду, заранее жалея.
В этом заброшенном павильоне больше не снимут кино, не будет меня. Я так и не спросила его про Сахалин, наверное, потому что давно за всё заплатила, да и он начал не с той ноты.
– Это я удачно зашёл. Я видел Вас года два назад, Вы вышли из такси и так спешили, что я и не стал останавливать. Это точно были Вы.
– Я такого не припоминаю.
– Вы потрясающая, у меня нет слов, хочется просто смотреть, расскажи о себе.
Я никогда не узнаю, врал мне Валентин или нет. Два года назад меня точно не было в том месте, что он назвал, но моя вторая часть успела срежиссировать несколько вариантов за секунды: я была пьяна, и не помню; со мной был мужчина; географ врёт, пытаясь спровоцировать меня, только вопрос на что; он обознался, в его случае сошёл с ума, судя по левому, словно невидящему глазу. Но моё сердце выбирает самый горький: учитель врёт себе, искренне надеясь, но прекрасно зная, что этого не было, и ему уже всё равно, что придётся врать даже мне. Всё же откуда ему знать, что это была я, учитывая мою спешку, если это вообще было, и тот факт, что он никогда не видел меня в обычной жизни, тем более два года. Выбрав точку в центре, рассчитывал, что я точно оказывалась там. Но самое смешное – эту достопримечательность я обходила стороной.
Знаете ли вы, о чём говорить, спустя четыре года, учитывая мой темпо – ритм? Вот и я нет. Ему лучше не знать всего обо мне, и я переключаюсь на светскую ноту, угадывая все его ответы.
Валентин разглядывает меня, не стесняясь. Всегда забавляло, насколько ему всё равно, и так уверен, что имеет право, словно взял его с полки! Пятьдесят пять тысяч лет против моих двадцати, словно мы на аукционе древностей.
Только четыре года назад, в нашу вторую встречу после моего ухода из школы, он даже взглянуть сразу не мог, но грубо попросил моих друзей, оставить нас, «хотя бы постоять вдвоём». Что же пытается выведать обо мне?
Я совершила ошибку, когда пришла на День учителя в десятом классе. Географ всё так же не мог дышать, я решила облегчить страдания, подарив чеховский поцелуй в шею, он едва коснулся моей лопатки.
– Вы так хороши, что я не могу этого высказать, даже если бы был… филологом, всё равно бы слов не нашёл, я посмотрю на Вас… Вы так сегодня выглядите… Я помню месяц и даже день, когда Вы приходили, думал, буду видеть Вас чаще. Я помню всё, что Вы мне дарили, но до сих пор не понимаю: от себя или от класса. Всегда хотелось посмотреть, какая Вы будете в двадцать, в двадцать пять.
Ему кажется, что люди приходят смотреть на меня, а не слушать, жаль, что судит по себе, а может, старик прав. О современности с ним говорить невозможно. Я оказываюсь в чеховском кошмаре. Время сгущается, и слов не подобрать.
Начинаю выкручиваться, пока Валентин Валентинович изучает каждую клетку моего лица. Я сижу к нему в профиль, чай слишком горячий, но я стужу, а он принципиально не прикасается. Даже не шелохнётся. И вдруг посмел напомнить, так сказать, об уроках истории, я же знала, что так и будет, но всё равно боялась облить пиджак. Даже не подумаю идти на четвёртый. Ласт звонил, взволнованно сказал, что будет ждать ещё три дня, но я лечу на восток. Через семьдесят два часа Л. поймёт, что я обманула и… забудет навсегда? Наконец, истории конец! Ждёт меня, но я лечу! Видел бы нас с доктором! Пусть теперь сам страдает, это не моя забота. Кажется, географу ясно из разговора, что я не одна. Как и прежде, В. вообще ничего не знает, видел он меня! Как и тысячи людей в музее, но я выхожу именно за…
– Удачи Вам и кому-нибудь ещё!
Я пытаюсь не засмеяться – Валентинович убежал, вскинув голову. Помогло? Мне сказали, что я встретила его, чтобы лучше понять реальность. Думаю, жизнь многих носит как раз такое лицо: скучающее, одинокое, граничащее с так и не познанной истинной.
17 июля 2022
Раньше я так грезила о заливе, но как же мне не хочется ехать туда сейчас: в Питере я одна, только что с Сахалина, стараюсь не плакать. Но вот я в пучине страсти утоляю жажду черничным соком, и всё горит в лиловом. Я сплю под картой, и мы с тобой так опасно играем. Весь мир – тебе, люблю тебя всего. Любовь моя, я буду летать, пока ты этого хочешь. Карты моего детства сгорели, но кто бы знал, что я вернусь в этот заброшенный сад, встретив тебя.
Утопая в песке, я представляла, кем ты будешь, и спустя год, уже женой так же затоскую под соснами о тебе. Всё закручивается в спираль, и я курю, глядя, как бабушка пробует корейские трюфели. Свой дневник я вела за этим столом на улице, в лучах солнца страницы казались чистыми. Но всё обветшало, и дневника у меня с собой нет. Из цветов здесь только одна глоксиния, неужели та? Иду к колодцу по тропинке, попадая в вечные сумерки – под елями всегда темно, только качелей там нет давно. Взлетая, слышу пушкинские сказки. Бирюзовая книга с Царевной – Лебедью на обложке, вот я ей и стала, растворившись в тебе. Только мёд уже не вылечит нас, ты моя сказка, мой можжевеловый куст, детский и родной, но я уже не нахожу его.
Так странно мечтать о тебе здесь, но в сентябре я выйду из себя, нас нагоняя. И вот я уже Данте с гобелена в тех туфлях, что ты купил мне. Я всё смотрю на эти нити и не уйти от того, что обуви носы так похожи на капустные пирожки. С работы бегу через парк, но оказываюсь в своей же книге, вижу, как в фонтане играет вся жизнь, и уже не изменить, всё тонет в том пруду. Невыносимо. Спасаясь, спешу к Даше, не смея забыть нашу августовскую традицию: выпить на Васильевском. В самый жаркий день нужно пройти весь остров и остывать на финских водах. Я прохожу аттестацию и вновь сажусь в самолёт. Но меня настегает сентябрьская мысль: с той встречи пролетело десять лет, а я думаю, как он смел? Нелюбимый и пустой, как же надоела мне эта тень истории, зачем мне его свет?! Так легко без него! И ни одной дикой мысли, проиграааал! Я не пришла!
Накануне снился географ, грустивший вечерами, но я вижу, как мы с доктором колем орехи, продолжая «культурный» слой А. Зверева. В интроспекции ощущаю твою мягкость и чёткость, твоё пламя и лёд.
Я мрамор, и вам не оторваться, теряя меня каждый день, но синий вельвет сохнет, оставляя на подкладке мокрые материки, пока меня нет на континенте.
Восьмичасовой разницы недостаточно, чтобы передвигаться ногами вверх, но вот парить горизонтально – вполне, или же лежать в квартире №21, я почти её ровесница, моя в Питере двенадцатая. Всё так предсказуемо, с первого дня очевидно, что я полечу к тебе. Подул восточный ветер, и вот мой отпуск в сентябре, когда весь полёт думаю о тебе, и не напиться, моё персиковое дерево, каждая клетка заряжена тобой. Моя скорость 700 км в час, кажется, корабли в синей смоле стоят, и я появлюсь, но волны за мной не успевают. Мои брюки стекают на тебя, но мы не замечаем струй, словно, всё ещё тот сентябрь, и ты целуешь меня на площади в ливень.
Пятичасовой виски, и замирая, я открываю тебе, рождаясь каждое утро заново. Из детства меня преследует черничный пирог, с тобой я погружаюсь в океан безграничной любви, словно я снова в школе, каждое «случайное» совпадение кричало о тебе, всю мою странную набоковскую историю, уставшую и знакомую. Только сейчас я понимаю, что можно угадать практически всё. Сахалин поджидал везде, но сразу мы, к сожалению, не видим никогда… Я могла лететь ещё раньше, ты сказал в первый день, а я словно не слышала тебя, лишь смотрела и не могла прочесть. Остров я видела во сне, гадая утром на гуще, запнувшись о ковёр жизни в гостиной. Прав Набок: это воля читателя, и у меня она есть, именно поэтому я иду дальше. У нас всё ещё нет вазы для роз, как и мне нет дела до ваших взглядов. Мне не отмотать плёнку вспять, и нет разницы, что было там. Настоящее только с тобой, ты открыл смысл.
Кажется, я умею любить давно, но можно ли выучить ноты заново, когда всё словно чужой сон? Я вхожу в класс, а там, а там, а там… кошмар. Беру молоток и бью по голове. Его тупая башка разлетается на сто осколков, затем вся тушка. Пустая, холодная, дешёвая – гипс и слюни. Бравирую и плюю. Прощай, половина жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































