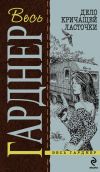Текст книги "Золотые ласточки Картье"

Автор книги: Екатерина Лесина
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Год 1912-й, Петербург
Цепочка, зацепившись за жесткое кружево, опасно натянулась, впилась в шею, и Надежда замерла. Надо же, едва не порвала… Цепочка такая тонюсенькая. Этак и ласточку заветную потерять недолго. При мысли об этом сердце оборвалось.
Глупость какая…
Подумаешь, ласточка…
Что в ней особенного? Ничего. И вовсе золотые украшения существуют единственно для того, чтобы люди состоятельные, навроде папеньки, могли самолюбие потешить. На самом же деле золото – это зло. И не следует набивать мошну, когда бедняки в Петербурге голодают.
Да и не только в Петербурге.
Вся Россия стенает под гнетом самодержавия. И люди разумные, истинные патриоты своей страны просто обязаны думать не о золотых ласточках, а о том, как свергнуть узурпатора да передать власть народу.
Об этом на собраниях говорил Петенька, и так пылко, хорошо говорил, что собственное сердце Надежды обмирало. Впрочем, когда Петенька не говорил, но молчал или этак вольно, вальяжно даже, раскинувшись на старом диванчике, курил цигаретку, сердце тоже обмирало. И Надежда, силясь побороть внезапное смущение, к каковому она отродясь расположена не была, отворачивалась, убеждая себя, что сие – вовсе не любовь. Они с Петенькой, какового иные именовали Петром Алексеевичем, соратники по борьбе, единомышленники и только…
Правда, сии мысли не мешали ей Петеньку разглядывать исподволь, убеждаясь раз за разом, что он, Петр Алексеевич Прохоров, чудо до чего хорош.
Бледнокожий, светловолосый, с лицом весьма благородным, пусть бы происхождения самого простого, что он любил подчеркивать, повторяя, будто бы едино чудом сумел выжить, устроиться в этой жизни и в университете, где он постигал земельные науки. Правда, стезя агронома Петеньку нисколько не привлекала в отличие от борьбы за мировое благо.
Он много читал и о прочитанном любил рассказывать вдохновенно, добавляя изрядно от себя, поелику соратники его, к преогромному Петенькиному огорчению, не стремились повышать свой культурный уровень, находя листовки и иные книги скучными в отличие от Петенькиных пересказов. Следовало бы заметить, что борьбой с империализмом, каковой в целом Петеньке не мешал, занялся он не от скуки, но от пылкого норова, желания совершить некое деяние, несомненно, великое, дабы оное деяние внесло Петенькино имя и фамилию в анналы истории. И если по первости простой провинциальный паренек зело смущался однокурсников да маялся, не ведая, куда приложить распиравшую его энергию, то вскоре нашлись товарищи, которые обратили на перспективного студиозуса взгляд.
И поручили ему дело.
Вместе с заданием, кипою листовок и газет, каковые надлежало распространять средь рабочих, вызывая в среде их нужное бурление, Петеньке достались ключи от неприметной квартирки. Жилье оное, принадлежавшее кому-то из старших товарищей, – в подробности Петенька благоразумно не вдавался, решив, что сие не его ума дело, – располагалось на последнем этаже доходного дома. Дом был старым, дряхлым, и жильцы его, люди малого достатка, отличались просто-таки поразительным отсутствием любопытства.
За три года существования подпольной ячейки Петенька сумел квартиру обжить. В ней, помимо старой, рассыпающейся почти мебели, появился ковер, который повесили на стену не столько красоты ради, сколько из понимания, что стены в доме уж больно тонкие, а при всем нелюбопытстве среди жильцов может отыскаться полицейский осведомитель. Следом за ковром были доставлены почти новый стол и кресло с обивкой из телячьей кожи, печатная машинка для прокламаций, которые, впрочем, не печатались, поскольку с сим агрегатом Петенька управляться не умел. Последним возник роскошный канцелярский набор и стопка белых листов бумаги высочайшего качества.
Мысли записывать.
И кресло, и машинку, и набор принесла дорогая Наденька.
В дар.
От чистого, так сказать, сердца, которое – Петенька чувствовал это – билось тревожно, нервно, выдавая девичьи симпатии.
Петенька, затянувшись цигареткой, покосился.
Наденька сидела в углу.
Некрасивая, но весьма себе состоятельная… Кто ее привел? Машка? Точно, Машка… Присоветовала подружку, с которой в сиротском приюте знакомство свела… Мол, зело чувствительна она к бедам народным…
…Сама Машка бедовая. Ей на империализм и беды народные наплевать с высокой башни, ей в жизни куражу не хватает, вот и подалась в революционерки. Только с Петенькой ей тоже прискучило, листовки-газеты – сие несерьезно. Ей бы иного дела, с бомбами… О том каждый раз заговаривает, Петенька же слушает, кивает, но… Революция революцией, а голова у него одна. И разумеет Петенька, что одно дело – бумажки раскидывать, за бумажки небось охранка не будет жилы рвать, и совсем иное – в бомбисты идти. Тут, конечно, имя в историю впишется, да только посмертно впишется, поелику после первого же взрыва возьмут их всех да на виселицу спровадят.
Или в ссылку.
В ссылку Петеньке совсем даже не хотелось, не то повзрослел, не то надоели ему нынешние игры, но все чаще стал он задумываться не о благе общественном, каковое наступит исключительно после падения кровавого царского режима, но о личной выгоде.
Доучиться бы… и устроиться в тихом теплом местечке. Хорошо бы при усадебке, а еще лучше, ежели сия усадебка будет Петеньке принадлежать… И вот тут-то мысли его вновь поворачивали к некрасивой, но явно влюбленной девице.
Купеческая дочь.
Петенька узнавал, что батюшка ее, Михайло Илларионович, миллионщик. И дом-то у него есть, и заводики по всей России, и усадеб бессчетное количество. Пусть и не царских кровей он, но для своих рабочих – как есть и царь, и даже император. А наследовать империю сию будут дочери, Наденька и Оленька…
Оленька, конечно, краше.
Петюня видел ее, ходил к особняку, любовался и приценивался, чего уж тут. И весьма себе понравилась сестрица Надежды. Красива, легка. И сразу видно – глупа, но… балованная… И пусть Петюня нисколько не сомневался в собственных чарах – даром, что ли, он первый год пробивался по престарелым вдовушкам, весьма до юного тела охочим, – но рисковать не желал.
Да и к чему? Есть же вторая сестрица, ей-то Петюня пока авансов не давал, думал все, и не столько о том, как бы породниться с Михайло Илларионовичем, который навряд ли обрадуется нищему зятю, сколько о друзьях своих… Эти тоже не обрадуются, и их недовольство Петюню пугало сильней, нежели гнев Михайло Илларионовича. Купец что? Притерпится, смирится… Дочери его ни в чем отказа не знают, Петюня узнавал. А вот приятели Петюни – дело иное, они этакой измены революционным принципам не простят, но…
…Ежели с умом подойти…
…И осторожненько, исподволь заготовить себе пути к отступлению…
Петюня вздохнул, переведя взгляд на Надежду, которая читала очередную листовку с таким видом, будто бы только сейчас открылась ей настоящая истина…
Баба.
Глупая.
К своим двадцати четырем годам Петюня пребывал в счастливой уверенности, что все бабы – дуры. И вдовушки, которые были щедры к обходительному, но такому бедному студиозусу, и Машка с ею куражом – как пить дать, сие добром не кончится, и сложит Машка буйну свою голову, вот и Наденька тоже дура, в революционную блажь ударившаяся.
– Надежда, – обратился он, с неохотой подымаясь. Кресло было удобным, и Петюне нравилось думать, что при должном его старании он получит не одно такое кресло. – Мне бы хотелось побеседовать с вами…
Говорил он и в глаза глядел этак, с прищуром, потому как ежели с прищуром, то выходит, что в этом его взгляде особый смысл появляется.
Машка, которая полулежа перебирала листовки, лишь хмыкнула выразительно: дескать, она давно предлагала Пете за купчиху взяться. Та, конечно, приносила в казну деньжата, но сие была капля в море состояния ее батюшки. И будь Петюня помоложе, он бы не стал тянуть, но… Извести состояние, каковое он уже почти полагал своим собственным, на революционные глупости? Нет уж…
Надежда зарделась.
И поднялась.
Вышла, глядя исключительно перед собой.
В коридоре пахло дымом и еще, пожалуй, кошками, которых Петюня с детских лет недолюбливал. Он поморщился, удивляясь тому, как прежде не замечал убогости этого места. Ничего, если все пойдет как надобно – а иначе и быть не может, – в самом скором времени о квартирке этой, как и о своих дружках, что намекали, будто бы Петюня не оправдывает возложенных на него надежд, он позабудет. Небось зятю Михайло Илларионовича по квартиркам дрянным ошиваться не пристало.
В особняке заживет Петюня, устроит там кабинет солидный, чтоб панельки дубовые, на полу ковер пурпурный. Гардины тож пурпурные. А мебель – с резьбою… И будет Петюня в кабинете том сидеть и думать о вещах важных. Выходить станет к обеду… ну, или кофею попить. Кофий Петюня страсть до чего любил и порой баловал себя им из революционной кассы.
Чай, не обеднеют.
– Что-то случилось? – дрогнувшим голосом спросила Надежда, когда они вышли из дома. И страх ее, не за себя, но за Петюню, заставил его усмехнуться.
Девка-то в самом соку.
И что с того, что некрасива? Подумаешь… Главное, что любит Петюню, сама того не осознавая. А красота… Красоту он купит, ежели вдруг захочется.
Опосля.
– Ничего, – Петюня улыбнулся. Он знал, что от улыбки его бабские сердца таяли, будто весенний лед. – Просто захотелось прогуляться… Весна небось… Мне нравится весна в этом городе… Есть в ней что-то особенное…
Тут Петюня несколько слукавил, поелику весны петербуржские отличались сыростью, туманами и вечными дождями. А от туманов и дождей у Петюни начинало в носу свербеть и насморк приключался.
– Когда я впервые оказался в этом городе, был поражен его красотой. – Петюня отставил локоток, и Наденька осторожно, точно не могла поверить, что происходит это с ней, за локоток этот ухватилась. Шли медленно, гуляючи. – И первое время я будто ослеп, не способный видеть ничего, помимо великолепия…
– Да? – Наденька хотела сказать что-нибудь, желательно умное, соответствующее моменту, но в голову лезли всякие глупости и банальности.
А банальности все испортят.
– Увы, мое очарование длилось недолго… Вскоре я увидел, что этот город двулик. И обратной стороной роскоши является нищета… Вы читали Достоевского?
– Да, – недрогнувшим голосом солгала Наденька.
Она пыталась, но Достоевский был столь эмоционален, сколь и многословен, и в этом многословии она запуталась. Однако тут же Наденька дала себе зарок немедля исправиться. Ежели Петюня счел Достоевского личностью важной, достойной прочтения, то и она сумеет себя переломить.
– Правда, у него чудеснейшим образом описаны все те муки, каковые претерпевает обыкновенный человек? Низкого рождения, такой, которому не выпало в жизни удачи появиться на свет в семействе состоятельном…
– Д-да, – пробормотала Наденька, взгляд отводя. Ей вдруг стало стыдно за папеньку, который нажил миллионы, пусть и собственным трудом, но по всему выходило, что труд этот – далеко не его собственный, а очень даже общественный. И наживался он на крови и поте обыкновенных людей.
А она, Наденька, деньги эти тратила на всякие вот глупости.
Петюня поморщился, прокляв себя за глупость. О другом беседовать надо, о высоком и нежном, но с этою замкнутою девицей разговор не клеился.
– Но порой мне кажется, Достоевский несколько преувеличивает. Взять хотя бы образ Сонечки Мармеладовой… Она поступает прекрасно, жертвуя собой ради семьи, но семья ее принимает жертву как должное, что неправильно.
– Конечно, – в очередной раз согласилась Наденька.
– Мы не имеем выбора в том, что касается нашего рождения. И в том мне видится высшая справедливость, поелику любой человек хоть высокого, хоть низкого звания, но главное, чтобы жизненный свой путь он прошел достойно… А вы как думаете?
Наденька думала, что если откроет рот и ляпнет какую-нибудь глупость, то Петюня в ней разочаруется. И без того не ясно, что же он нашел в Наденьке.
– Простите, – вдруг смутился Петюня. – Наверное, я говорю что-то не то…
– Почему?
– Потому что вы, милая Надежда, все молчите…
– Я… – Она почувствовала, как заливается краской, – я просто не знаю, что еще сказать… Вы так хорошо… полно… выражаете мысли, что я…
Окончательно сбившись, она стыдливо замолчала.
– Вы очень стеснительны, – Петюня взял ее за руку. – Но, быть может, тогда мы оставим эти разговоры? И побеседуем о чем-нибудь ином…
– О чем?
– А о чем принято беседовать с девушками на прогулках? – Он улыбнулся широко и радостно, и Наденька окончательно растерялась.
– Вы мне очень давно симпатичны, – сказал Петюня, руку поглаживая. – Но я не был уверен, что имею хоть какое-то право сию симпатию выражать…
И сердце обмерло. Он и Наденька? Ему она симпатична? Она некрасива, собой нехороша, с норовом упрямым, лишенным всякой мягкости, которой полагается быть в девичьем характере. Она только и умеет, что перечить, спорить, а тут вдруг…
– Что ж, – Петюне хотелось встряхнуть эту клушу, которая только и могла, что смотреть на него влюбленными глазами да дышать шумно. – Я понимаю, что это для вас несколько неожиданно… И вы, верно, не думали ни о чем таком…
Взгляд отвела, и значит, думала.
Конечно, думала. Что, Петюня баб не знает? Одинаковы, что в словах, что в мыслях… И эта-то, не старая еще дева, но почти ничем от прочих не отличается.
– И своими откровениями я вас несколько… смутил?
Наденька кивнула и щеки потрогала. Горят. И сама она вот-вот вспыхнет.
– Я прекрасно понимаю, что мы с вами из разных миров вышли… Что вы – дочь уважаемого человека, ваш батюшка дал вам превосходное воспитание… Ваши симпатии к делу революционному ничего-то не меняют, ибо теория – одно, а практика – совсем иное… – Петюня не отказал себе в удовольствии кольнуть строптивую девицу, которая, пусть и влюбленная, не спешила в этой влюбленности покаяться. – И привыкли вы к ухажерам иного звания, которым бедный студиозус – не чета…
– Что вы такое говорите! – сдавленно воскликнула Наденька.
И пальцы дрожат. И кажется, вся она дрожит, того и гляди сомлеет от волнения.
– Правду, Наденька, уж позвольте мне вас именовать именно так… На правах старого товарища, у которого нет ни малейшего шанса стать кем-то большим…
– Вы… вы ошибаетесь, – выдавила она с немалым трудом. – Я… у меня нет ухажеров…
– Помилуйте, почему?
А и вправду, почему? Не так уж Наденька и страшна, чтобы не нашлось иного охотника за приданым.
– Потому что я некрасива, – со спокойным достоинством ответила она.
– Кто вам сказал этакую чушь?!
– Зеркала.
– Не верьте зеркалам. Они врут.
– А кому верить? – наконец-то слабая улыбка. И пунцовый румянец сходит со щек.
– Мне верьте. Разве ж я вас обманывал?
– Никогда, – согласилась Наденька, вновь опираясь на Петюнину руку. Она надеялась, что это прикосновение, дозволенное правилами приличия, не выдаст того волнения, в котором Наденька пребывала. Она ему симпатична?
И он ревнует… Наверное, ревнует, ведь недаром же спрашивал об ухажерах… И злится… Узнав, что не было никого, спешит ее утешить… Быть может, все у Наденьки и сложится?
– А потому поверьте мне снова. Вы прекрасны, как только может быть прекрасна женщина… – Петюня шел медленно, исподволь вглядываясь в лицо той, которую уже почитал собственной невестой. – Вы смотритесь в зеркала, но что они видят? Лицо? И только? Пусть для кого-то и этого будет довольно, но… Я-то знаю вас, Наденька. Льщу себя надеждой, что знаю истинную вас, какая добра и милосердна, сердечна…
– Вы меня перехваливаете.
– Разве ж возможно такое? Нет, Наденька, истинная красота женщины – в ее душе, а прочие, кто смотрят на смазливое лицо, ошибаются. И многие понимают, что совершили ошибку, да только поздно… Красота со временем поблекнет, а вот душа способна стать лишь прекрасней…
Слушает.
С приоткрытым ртом, с горящими глазами, и ныне, влюбленная, она почти красива…
…В квартирку Петюня вернулся один и, застав Машку, которая развалилась на кровати, что характерно, развалилась нагишом, нисколько не удивился.
– Ну что, – поинтересовалась Машка, переворачиваясь на спину, – завалил купчиху?
– Фи, какие нехорошие слова…
Машка лишь заржала. Вот смех у нее точно конский, громкий, с подвизгиваниями, и сколько раз было говорено, что приличные девицы так не гогочут. Но Машке плевать.
– Не завалил, – сделала она собственный вывод. – И правильно. Не надо спешить.
– Не буду, – Петюня присел на кровать и провел рукой по белому Машкиному животу. – А ты чего?
– А я так…
Взгляд хмельной, лядащий… или не хмельной?
– Опять нюхала? – Он отвесил Машке звонкую пощечину, от которой ее голова запрокинулась, а на щеке остался розовый отпечаток Петюниной ладони. Но Машка не обиделась, руки раскинула, глаза закатила… Хороша, стерва… и знает, что хороша.
– Иди сюда, – мурлыкнула она, руки протянув. И тонкие пальчики гладят лицо, шею, манят в Машкины объятья. – Или ты целибат примешь, пока…
Целибат Петюня принимать не собирался, да и крепкие сомнения имел, что кто-либо из монахов, хоть бы и святых, сумеет перед Машкой устоять.
В самом соку девка.
А он, Петюня, нормальный мужик, с потребностями… Вот только потом, после, когда уже лежал, разглядывая потолок – потресканный и посеревший, – Петюня подумал, что с Машкою надобно завязывать. Сболтнет чего ненароком и весь Петюнин план поломает.
– Чтоб это мне в последний раз было, – сказал он, выбираясь из койки. Машка потянулась только, что сытая разомлевшая кошка, да зевнула во всю пасть. А зубы-то желтеть начинают…
– Что именно? – лениво поинтересовалась Машка и, будто догадавшись о Петюниных мыслях, потянулась за сигаретой. Курила, лежа в постели, стряхивая пепел на не особо чистые простыни.
– Вот это, – он ткнул пальцем в Машкин живот. – Найди себе кого-нибудь…
– Найду, – зевнула она. – А ты как будешь?
– Как-нибудь…
Машка выпустила в потолок сизый дым.
– Боишься, что Надьке проболтаюсь, и она тебя пошлет куда подальше? Обломится тогда богатая невеста…
– Ты…
– Я, Петюня, я… Я ж знаю, что ты по богатым бабам спец… Ну да у каждого свои развлечения-с.
Машка весь мир воспринимала как одно большое развлечение.
– Не дрожи, я чужой игре мешать не стану. Охота тебе в белые люди выбиться – дело твое… Да только не думал ты, Петюня, что наши общие друзья этакому кунштюку не обрадуются?
Думал. И думает. Беспрестанно думает, ощущая затылком холодную сталь револьвера. И сейчас Петюня оный затылок пощупал, желая убедиться, что тот еще цел.
– Спокойно, Машка, – он улыбнулся широко, надеясь, что за этой улыбкой Машка не разглядит волнения. – Все будет в шоколаде… Я ж не для себя стараюсь… Я для общества.
Машка фыркнула, а Петюня, поймав неожиданную, но крайне полезную мысль, продолжил:
– Сама подумай… Вот есть у нас деньги?
– Есть.
– Нет, Машка, у нас есть гроши, а деньги есть у Михайло Илларионовича, который Наденькин папа…
…Миллионы… Заводы, фабрики и несколько имений, в которые можно будет удалиться после свадьбы. Ненадолго, на месяц-другой, пока поутихнут волнения в Петербурге. А потом-то Петюня вернется, может, с супругой, а может, и сам по себе, поелику город он любил вполне искренне и чуял, что с деньгами Михайло Илларионовича эта любовь станет взаимной.
И такое на него вдохновение снизошло, что Петюня сел в постели и почесал живот. Следовало сказать, что в квартире, конечно, убирались, но редко, а постель и вовсе не выветривали, оттого и завелись в ней клопы. И Петюня, раздавив особо наглого, продолжил.
– Наденьке, конечно, папаша денег дает… то сотню рублей, то тысячу… Но что такое тысяча по сравнению с миллионом?
– Думаешь, если завалишь ее, она тебе миллион даст? – Машка подняла чулочек, шелковый, с подвязочкой – все ж таки она не была чужда буржуазных пережитков вкупе с излишествами. – Ты себя переоцениваешь, Петюня.
– Не завалю, – он поднял палец. – Женюсь.
– Дурень.
– Нет, Машуль, не дурень, – Петюня вскочил.
…А ведь Машка спит не только с ним, она вхожа и в тот домик, о котором Петюня узнал случайно. И с кем встречается?
С кем-то из старших товарищей, от которых, помимо табака с чулочками, выносит общественное Петюней недовольство, на прошлом-то собрании бросила вскользь, что Петюня не сильно-то себя революционной борьбе отдает. А меж тем ждут от него активных действий.
…Будут им действия. Активные. Главное, чтоб Машка, шалавища куражная, все верно поняла и донесла.
– Вот скажи, Машка, кто будет наследовать Михайло Илларионовичу, ежели с ним вдруг какое несчастье случится? – поинтересовался Петюня.
Машка не ответила. Села голой задницей на стул, ноги раздвинула. Левая в чулочке, правая – голая, белая, с синеватыми ленточками вен, но красивая.
– А я тебе скажу, что унаследуют все Надька с сестрицей своей младшей… и супруги их… И именно они, супруги сиречь, по закону и будут распоряжаться всеми деньгами…
Машка смотрела. Курила. Ждала продолжения.
– Ты меня вот попрекала, что я о деле общем не думаю, – Петюня подобрал подштанники, которые натянул торопливо, все ж таки по провинциальной своей стеснительности, которую искренне пытался искоренить, под Машкиным взглядом он чувствовал себя весьма неловко. – А я очень даже думаю… Ты говорила, что Яшка Ломов кассу взял? И скольких он положил? Пятерых? А в той кассе тысяч пятнадцать? Двадцать? Дело, конечно… Состояние…
– Ты и столько не заработал, – Машка выпустила дым из носа.
– Пока не заработал. Да только меня, как твоего Яшку, охранка не ищет, носом землю роет, потому как Яшка городового в расход пустил…
…И тот, кто подскажет, где оного Яшку искать, получит большое от властей снисхождение за делишки свои, особенно ежели учесть, что делишки эти были пустыми, почти даже законными…
– И еще двоих полицейских положил, когда от погони уходил. Герой!
– Петюня, – нехорошим тоном произнесла Машка. – Тебе Яшкина слава в попе жжет? Так иди и ты кассу возьми…
– Не слава, – Петюня остался спокоен. – А дурость его, из-за которой мы все под удар попали. А кассу я возьму. На миллионы. Вот посмотри, всего-то надо, что на Надьке жениться, а потом папаше ее несчастный случай устроить, но тихо все, аккуратно. Чтоб никакой стрельбы, полиции, охранки… Да она сама с преогромной радостью состояние свое нам пожертвует…
– А если и сестрицу убрать, – задумчиво протянула Машка и новую сигарету в зубы вставила. – Знаешь, Петюня, а ты не такое уж и ничтожество…
– От ничтожества слышу, – Петюня не обиделся. – Но сестрицу трогать нельзя… Излишнее внимание нам ни к чему.
Машка поскребла ногу, но смолчала.
– Сама посуди, дело миллионное, тут надо с пониманием… без лишней крови…
Осень выдалась сухой. Дожди если и случались, то редко, а вот туманы – так почти каждый день, но туманам Наденька радовалась, потому как…
– И вот оказался я один в этом огромном городе, – Петюня вновь рассказывал о своем детстве, столь разительно отличавшемся от собственного Наденькиного, и был столь откровенен и близок, что сердце вновь обмирало, не способное поверить этой близости.
Они были вдвоем. В тумане. И молочный, густой, он прятал от Наденьки других людей, создавая преудивительную иллюзию, что будто бы во всем городе нет никого, кроме них с Петюней.
– По первому времени я не знал, куда себя деть… – Петюня останавливался и выглядел таким… близким, родным.
Наденька розовела, радуясь, что в тумане ее румянец не столь уж заметен. А вот пальцы дрожали. Петюня, отзываясь на эту дрожь, спрашивал:
– Ты не замерзла?
– Нет.
– Замерзла, – с упреком произносил он и, поднеся Наденькину ладонь к губам, дышал, согревая озябшие пальцы. А после вел в кафе, где поил горячим шоколадом, и Наденьке было неудобно, что он, живущий единственно на свою стипендию, тратится на нее.
Она пыталась платить сама, но Петюня оскорблялся.
– Пойми, Надюша, – он называл ее именно так, а она вновь млела, до того нежным в его устах становилось колючее ее имя. – Я ведь мужчина. И как мужчина я желаю заботиться о тебе… Понимаю, что ты привыкла к иному, но…
Она же уверяла, что никто и никогда прежде не был столь же внимателен, столь ласков с нею. И вовсе ей не хочется ходить в ресторации, ей куда милей набережные города, его туманы, люди, в этих туманах скрытые… У них с Петюней появлялись свои особые места…
…Первый поцелуй, от которого Наденькино сердце едва не остановилось. И второй…
И третий, куда как более жадный, а она, бесстыдная, отвечала, да еще и руками его шею обвила, желая отринуть вековые предрассудки.
Лавочка, на которой они засиделись допоздна, беседуя о всяких пустяках, которые в ту ночь вовсе не казались пустяками… Потом Аглая Никифоровна отчитывала… Кажется, она заподозрила, что частые Наденькины отлучки вовсе не с благотворительностью связаны. Выспрашивать пыталась, но осторожно и исподволь. Добре бы папеньке не стала доносить.
Папенька, как подозревала Надежда, вовсе этакому кавалеру не обрадуется, кричать станет, ногами топать, как в тот раз, когда Оленька заявила, что выйдет замуж за троюродного братца, которому случилось погостить в имении. И ведь ясно же было, что дурит сестрица, ей всего-то шестнадцать исполнилось, а кузен, уже, между прочим, помолвленный, вовсе повода не давал думать, будто бы Оленька ему интересна. Но разве ж батюшка стал слушать?
Кузена выставил, Оленьку запер, а на Аглаю Никифоровну долго ругался, дескать, потакала она девичьей дури и мало не довела до беды…
– О чем ты думаешь, Надюша? – Петюня остро чувствовал ее состояние, и сомнения, которые явно одолевали Надежду, заставляли его хмуриться.
Переживает? Все-то ему кажется, что недостоин он ее любви. Все-то стесняется простого крестьянского происхождения, семейства своего преогромного, которому вынужден помогать, и бедности, и того, что он, Петр Босянечкин, человек в Петербурге ничтожный.
Это он сам так говорил.
А Наденька пыталась переубедить его, отвечала, что для нее-то не имеют значения ни статус, ни состояние, а лишь сам человек…
– Думаю о нас с тобой, – Надежда произнесла это тихо, стыдясь и того, что заговорила на этакую тему, и того, что стыдится. Разве ж не имеет она права сама собственную судьбу решить? Небось не темные века на дворе, когда девиц замуж выдавали по родительской воле. Наденька, чай, полное право имеет собою сама распорядиться, по собственному разумению. А что отец недоволен… Так ведь она не собирается в его доме жить.
Она к Петюне уйдет.
Снимут квартирку, аль и вовсе комнату меблированную. Надежда на работу устроится. Она не белоручка в отличие от Оленьки, сумеет или в гувернантки пойти, или учительницей. И пусть жить будут с Петюней небогато, но честно. Достойно.
– Мой отец… – Надюша заставила себя смотреть Петюне в глаза, – к сожалению, придерживается иных принципов… и он…
– Не обрадуется, узнав обо мне?
Петюня все ж таки не был столь наивен, чтобы надеяться на одобрение Михайло Илларионовича.
– Да, – выдохнула Надежда. – Не обрадуется. Если он узнает, то… Он хороший, я его люблю, и очень, но… Я знаю его. Он в горячке способен наворотить многого… У него друзья… знакомые…
И средь этих знакомых наверняка сыщется пара-тройка полицейских чинов, которые к просьбе старого приятеля отнесутся с большим пониманием.
– Меня он попросту сошлет в деревню… или за границу… или еще куда-нибудь, но… Я решила уйти из дому.
Вот дура.
Впрочем, вслух Петюня этого не сказал, лишь ручку вялую, премного его раздражавшую этой самой безжизненностью, стиснул, прижал к груди.
– Мы вместе найдем выход.
– Конечно.
А быть может, и к лучшему… Уйдет она из дому… Обвенчаются тайком, а там уж, чтоб брак, церковью освященный, расторгнуть, надобно много больше, нежели только желание Михайло Илларионовича. И с супругом дочери поневоле ему смириться придется.
Особенно если эта дочь падет в ноги, умоляя о прощении…
Правда, Надежда, как и прочие состоятельные дамочки, пребывала в святой уверенности, будто бы ей по плечу все трудности, ежели любимый рядом. Но Петюня знал, как эту уверенность перебороть… Пара месяцев, и сама к папеньке запросится…
Главное, чтоб Машка эти пару месяцев подождать согласилась…
– Не затягивай там, – буркнула Машка, когда Петюня в очередной раз изложил ей собственный план, казавшийся донельзя хитроумным.
– Не затяну, – пообещал Петюня, которому вовсе не улыбалось долго обретаться на петербургском дне.
– И правильно… Ты же не хочешь, чтобы наши общие друзья решили, будто ты задумал…
Она сделала паузу.
– Что? – нервно дернулся Петюня, которому эта пауза пришлась совершенно не по душе.
– Не знаю… Что-нибудь такое… Нехорошее… Ты же понимаешь, дорогой, что ты с ними повязан.
И с ними, и с Машкой, которая, стерва гулящая, вовсе не столь проста, как ему казалось. Но опиоманка… Куражу ей хочется? Будет кураж. На всех хватит, главное, чтобы все получилось, как Петюня задумал. А в своей удаче, ровно как и в уме, он нисколько не сомневался.
Лежа в чужой кровати, человек вспоминал сегодняшний день. И вечер.
Странно было встретиться с людьми, которые некогда казались ему близкими. За окном надрывался соловей. Неспокойно. Свежее белье пахнет химией. И жесткое оно, неудобное. Человек ворочается с боку на бок. Его раздражает и неудобный матрац, и небольшая подушка, набитая гречневой лузгой, и слишком легкое, слишком пышное одеяло… И люди.
До чего изменились все, и ему страшно, что он сам тоже стал другим. Вдруг да вылезла та его, запретная сторона, которую он скрывал ото всех? Вдруг они, человеческая стая, почуют его… Не чуют.
Он хорошо прячется, научился за столько-то лет… Только сегодня маска едва не треснула. Удержал.
Это все незнакомое место. Завтра он пообвыкнется, а послезавтра… Человек улыбнулся, предвкушая грядущую охоту. Он мысленно перебирал лица…
Маргоша? Не годится. Стерва. И тварь. За ней самой тянется хвост гнилых деяний. Ника не лучше, даже хуже. Она старается выглядеть красивой, но нутро не скрыть… Машка? Тупа и ленива. Из нее не получится той жертвы, чья смерть подарит успокоение.
Он точно знает, что жертв следует выбирать очень тщательно.
Открыв глаза, человек уставился на белый потолок с лепниной. Он не видел ни этой лепнины, ни простой, пожалуй, слишком уж простой для столь вычурного места люстры. Он вспоминал.
Третий номер. Василиса…
Смерть Галины подарила ему почти год жизни, но весной начались дожди. Они случались каждый год, однако человек прежде не замечал, до чего выматывает его вечная сырость, вечная серость. И даже когда в прорехах туч показывалось солнце – оно появлялось ненадолго, дразня зыбким разбавленным водою светом, – легче не становилось. Хуже. Сны и те поблекли. Он заставлял себя вспоминать. И купил капроновый шнур, точь-в-точь такой, каким душил Галину. Он завязал на шнуре узелки и, перебирая их пальцами, восстанавливал тот заветный день по минутам.
Не помогало.
Воспоминания блекли, их словно смывало этими дождями… Он нашел фотографии. Анны и Галины.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?