Читать книгу "Звезда на содержании"
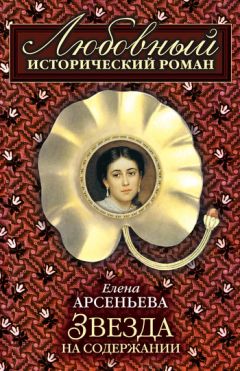
Автор книги: Елена Арсеньева
Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Елена Арсеньева
Звезда на содержании
Кто может знать, какая блажь
Со взрослой девушкой случится?!
Старинный водевиль
– Приехала.
– Приехала, барин...
Господин и слуга, стоявшие у окна в бель-этаже и осторожно, из-за портьер, глядевшие на улицу, разом вздохнули. Барин – потому, что ему предстояло совершить трудную и неприятную обязанность и разрушить огромный мир мечтаний и надежд, который только мог поселиться в голове и сердце несмышленой, наивной восемнадцатилетней девицы. Слуга – потому, что хоть и был верным Лепорелло при этом несколько постаревшем Дон-Жуане, а все же не всегда одобрял своего хозяина. А впрочем, и подлинный Лепорелло порою решался противоречить Дон-Жуану... да что проку-то из того вышло?!
– Поди-ка отвори ей, Данила, – сказал барин, которого, к слову сказать, звали Константином Константиновичем Хвощинским.
– Нешто, – буркнул Данила, коему положение Лепорелло дозволяло некоторую короткость с барином. – Небось внизу Петрушка, он и отворит.
В самом деле – из окна было видно, как по высокому крыльцу чуть не кубарем скатился взъерошенный малый и помчался по дорожке к калитке, у которой стояла наемная карета. Кучер, нетерпеливо колотивший рукоятью кнута в воротину, соскочил с козел и открыл дверцу кареты. Подал руку.
Слуга и господин подались вперед, чтобы ничего не упустить. Показалась рука в черной перчатке, которая оперлась на руку кучера, потом ножка в черном башмачке, край черной юбки, затем явилась взору наклонившаяся вперед фигура в черном платье, шали и черном же капоре.
– В трауре, – пробормотал Хвощинский.
– В жалях-с, – уточнил Лепорелло, предпочитавший изъясняться на старинный русский манер.
– Прескучное зрелище, – констатировал Хвощинский, сделав кислую мину.
– Что и говорить! – кивнул верный слуга.
Черная фигура поднялась по ступенькам. Позади Петрушка и кучер поволокли два саквояжа и сундук.
– О-хо-хо, – вздохнул Хвощинский. – Поди расплатись там. На чай непременно дай, не позабудь, а то знаю я тебя... Потом небось так ославят, что в другой раз кареты из почтовой конторы не дозовешься. Хотя... ты вот что, Данила. Ты расплатись и попроси кучера погодить с полчасика. Возможно, я быстренько управлюсь. Даст Бог, тем же экипажем и... – Он сделал решительный жест.
Данила прищурил один глаз.
– Как велите, барин! – И побежал прочь осторожною меленькою рысцою, причем шлепанье кожаных подошв его старых чувяков некоторое время доносилось еще до барина, пока не утихло в дальних покоях анфилады.
Хвощинский сунул пальцы меж пальцев и несколько раз хрустнул ими, однако сей же миг спохватился и спрятал руки за спину. Привычка хрустеть пальцами была в обществе осуждаема и презираема...
Прошло несколько минут, и вдали раздались приближающиеся шаги. Хвощинский насторожился и вслушался. Сквозь шлепанье Даниловых чувяков доносился теперь некий свистящий и шуршащий звук. Опытное ухо Хвощинского знало его – это был шелест дамского платья по навощенному паркету. По дощатым полам платья шуршали иначе. Однако у Хвощинского было настрого заведено: и мебель, и паркет непременно вощить, чтобы до зеркального блеска! На расправу он был скор, а потому чуть не всякий день танцевали по комнатам полотеры с привязанными к ногам щетками-вощанками. Ходить в обыкновенной обуви по такому скользейшему паркету было весьма затруднительно, оттого и сам хозяин, и слуги его, и частые гости передвигаться были принуждены меленькими шажочками, не то рисковали упасть. Хвощинский приучился по шагам распознавать людей, живших в достатке. Такие были к вощеному скользкому полу привычны, ну и продвигались спокойно и мерно. А которые норовили поспешить, те начинали махать ногами по сторонам, на потеху лакеям. «Чисто цапли пляшут на болотине!» – подхохатывал Данила, и лакеи затаив дыхание следили за новичками в доме. Особенную веселость доставляли им дамы... Сейчас Хвощинский вслушивался в легкую поступь и шелест, перемежавшиеся со шлепаньем Даниловых чувяков. Никаких взвизгиваний, никаких скачков-прыжков... ну да, конечно, онадолжна быть привычна к такому малому признаку роскошества, как вощеные полы.
Вот повернулась бронзовая ручка двери. Вот створка открылась... всунулось сморщенное, словно печеная картофелина, лицо верного Лепорелло.
– Эвона! – изумленно сказал Лепорелло и вновь исчез, а вместо него вступила в комнату давешняя фигура в черном платье, шали и капоре. Ступив два шажочка, присела, не поднимая головы.
«Ух ты, верста коломенская, – подумал Хвощинский. – Неудивительно, что бука. К тому ж запоздалые наряды, запоздалый склад речей... – Хвощинский, надобно заметить, был человек светский, а значит, держался в курсе модных новинок, да и вообще, Пушкина считал сочинителем порядочным, хотя, честно сказать, предпочитал ему Ленского... нет, отнюдь не Владимира, героя романического, а Димитрия Тимофеича, автора модных водевильчиков. – Однако же что имел в виду Данила, когда эвакнул?»
– Анна Викторовна, – сдержанно проговорил Хвощинский, – чрезвычайно рад вашему прибытию. Да полно глаза тупить, взгляните ж на меня!
Гостья подняла голову, и Хвощинский растерянно заморгал.
Она была в самом деле высокого роста, вовсе даже не хрупкая, что былина, но и не толстуха крупитчатая, а просто в хорошем теле, да и приличной бледностью отнюдь не отличалась – цвет лица ее вызывал в памяти не томность лилий, а сочетание их с жизнерадостными розами. У нее был вздернутый нос, яркие свежие губы – чтобы сделать их по-модному маленькими, девушке пришлось бы непрестанно держать их сложенными куриной гузкою, да и то едва ль помогло бы, – и большие серые глаза в окружении длинных ресниц. Не то чтобы она ослепляла взор, подобно признанным красавицам – нет, черты ее не были классически верны, – однако при взгляде на это лицо невольно думалось: «Ого какая!», или «Ну и ну!», или «Вот те раз!», а может быть, даже и «Эвона!».
Хвощинский рассеянно провел рукой по лбу, вдыхая дивный аромат юности и очарования, столь сладостный для каждого немолодого человека, и даже ощутил некое головокружение, но тотчас овладел собой. Он славился тем, что соображал быстро. И сейчас, глядя на это лицо, он подумал, что кучера, ждущего у ворот, можно бы и отослать. Он мгновенно перерешил все свои действия, доселе тщательно выстроенные, и даже изготовился изменить собственную судьбу. Ему показалось, что неприятную обязанность можно сделать весьма приятной... а сочетать приятное с полезным – что может быть лучше?!
– Ну что ж, – пробормотал он, – да вы ведь совсем взрослая девица, оказывается.
Она присела, как бы благодаря за комплимент, но не сказала ни слова, а Хвощинскому страстно захотелось услышать ее голос.
– Итак, вижу, тетушка Марья Ивановна заботливо лелеяла вас и вырастила истинно прелестный цветок, – продолжил он с ноткой приветливости.
– Век за нее Господа буду молить, – прошептала девушка. – В день ее смерти я думала, что сама от горя умру.
От нежности, прозвучавшей в этом голосе, у Хвощинского пробежал сладостный холодок по спине.
«Какой же я был глупец, что не хотел видеться с ней прежде, – покаянно подумал он. – А ведь покойница настаивала... Глупец, одно слово – глупец! Ну да ничего, теперь мы свое возьмем, теперь упущенное наверстаем!»
– Бедное дитя, – сказал он ласково. – Я сделаю все, все, что в моих силах, чтобы вы поняли: жизнь для вас отнюдь не кончается, а только начинается.
– То же самое говорила мне и тетушка перед кончиною, – кивнула девушка. – Я привыкла верить ей, пришлось поверить и на сей раз, хотя... хотя, по правде сказать, мне это чрезвычайно трудно. Может быть, теперь, когда я оказалась в доме родительском... в моем доме... я оживу несколько, но пока что я чувствую себя, как растение, выдернутое из родной почвы и еще не пересаженное в новую клумбу.
Хвощинский насторожился. Хотя приезжая изрекала приличные банальности, голос ее звучал живо и свободно, и он подумал, что это растение может оказаться весьма живуче. Корешки его, такое впечатление, впитывают живительную влагу даже из воздуха... Для достижения же его плана нужно было эти корешки изрядно обкорнать, что он и начал делать исподволь.
– Понимаю, что вы устали с дороги, Анна Викторовна, и я как хозяин дома должен бы прежде предложить вам пройти в умывальную комнату и сесть за завтрак, однако есть дела весьма важного свойства, которые следует решить незамедлительно.
Он нарочно сделал упор на словах «хозяин дома» и заметил, что брови девушки – две ровных дуги, правда, несколько более широкие и густые, чем того требовала мода, – дрогнули и между ними появилась легкая складочка. Итак, она это заметила... и насторожилась. Пожалуй, все сложится не так просто, как ему хотелось бы. Ну что ж, кучер по-прежнему ждет...
– Дела эти настолько безотлагательны, что мне даже нельзя пыль дорожную отряхнуть? – удивилась девушка. – Ну что ж, извольте, говорите все, что полагаете нужным. Однако же, надеюсь, сесть мне будет дозволительно?
В последних словах прозвучало дуновение насмешки, которое, впрочем, Хвощинский мгновенно уловил – и вспомнил одно из писем Марьи Ивановны, где та писала о свободолюбивой и весьма своеобычной натуре своей воспитанницы, к которой совершенно неприменимы привычные методы принуждения. Тогда он отписался небрежным советом «сечь девку чаще, ибо это во все времена давало наилучшие результаты: и меня секли, и это чудилось ужасным, а между тем пошло лишь на пользу!» Теперь понятно, что Марья Ивановна совету сему не последовала. Воспитанницу явно не секли... и вот какая якобинка выросла! Ну что ж, ей же хуже придется, коли не привыкла смирять свой норов... потому что смирить его придется, это Хвощинский знал доподлинно, как если бы он был знаменитой гадалкой мадам Ленорман.
– Прошу меня извинить, Анна Викторовна, – промолвил он сухо, – что не пригласил вас сесть. Конечно, прошу на кресла, располагайтесь как дома.
Он снова выделил голосом два последних слова и увидел, что недоуменная складочка вновь появилась на гладком, высоком лбу.
Девушка опустилась в кресло, выпрямила спину – Хвощинский снова отметил внешнюю безукоризненность ее манер, – сложила руки. Юбка натянулась на колене, из-под тяжелого муарового подола высунулся краешек башмачка.
Хвощинский тяжело сглотнул.
Черт знает, что такое с ним сегодня творится! Весна действует, не иначе. К девкам съездить, что ли... А может быть, завести другую содержанку, сменить эту вертихвостку Наденьку Самсонову, которая, ей-же-ей, на сторону смотрит, не ценит своего счастья! «Жениться надобно, батюшка!» – ворчал порою Данила, а Хвощинский все посмеивался: на мой-де век блядей хватит! Ну что ж, не жену, так содержанку, а по крайности и блядь он нынче заведет, и ни у какой мадам Ленорман об этом спрашивать не придется!
– Анна Викторовна, вы перенесли тяжелый удар утраты своей воспитательницы и опекунши, – начал Хвощинский. – Сожалею, что я, ваш второй опекун, назначенный таковым согласно завещанию вашего отца... вернее, друга моего Виктора Львовича Осмоловского, должен сейчас не утешать вас и лелеять, а нанести вам еще один удар.
– О чем вы все говорите? – спросила девица с волнением, которое тщетно пыталась скрыть под слабой улыбкой. – На что намекаете? Какой удар вы мне должны нанести? Уж извольте сказать прямо, а не ходить вокруг да около!
Итак, она сама его вынуждает!
– Коли так, коли вы желаете все прямо...
Хвощинский глубоко вздохнул, набираясь последней решимости.
– Анна Викторовна, вы восемнадцать лет своей жизни прожили в блаженном сознании, что принадлежите к благородной фамилии, что родители ваши скончались во младенчестве вашем – мать умерла родами, отец спустя год последовал за ней, не снеся утраты и подкошенный к тому же скоротечной чахоткою, – однако вам оставлено было богатое, весьма богатое наследство, во владение которым вы должны вступить по достижении вами восемнадцатилетнего возраста или по выходе замуж, буде сие случится раньше. Однако Бог испытывает человека в вере и смирении его. Такое же испытание послал он вам. Знайте же, Анна Викторовна... я по старой привычке назову вас еще этим именем, но уж в последний раз... знайте же, что вы не дочь Виктора Львовича Осмоловского и его жены Елизаветы Петровны, а значит, вы не имеете права ни на имя и фамилию моего покойного друга, ни на его состояние. Вы просто никто!
* * *
– Ревет? – спросила мадам Жужу.
– Нет, мадамочка, – хмыкнула Мюзетка. – Не ревет-с. Как легла, так и лежит. Не двинется, не шевельнется. Может, спит?
– Всякое может быть, – кивнула мадам Жужу. – Ну, так и быть, пускай до вечера отдохнет, а уж вечером я ее как пить дать к публике выгоню. Каждый должен сам зарабатывать хлеб свой, а не рассчитывать на милостыню.
Мюзетка невинно моргнула:
– Так ведь этот господин, что ее к нам прислал, он вроде бы дал денег на ее содержание?
– А твое какое дело? – окрысилась мадам Жужу. – Что это за моду девки взяли – деньги в чужом кармане считать?!
Как розы были хороши
В моем садочке,
Когда у папеньки жила
Я милой дочкой... —
пропела Мюзетка, приняв самый невинный вид, и выражение лица мадам Жужу несколько смягчилось. Она баловалась стихосложением, а кроме того, обожала (по ее собственному выражению), ну просто обожала музицировать. Ее страстью были маленькие романсы, в основном посвященные собственной судьбе. Это она некогда жила у папеньки милой дочкой, ну а потом папенька спился, маменька умерла от чахотки, а умирающую от голода Наташу (таково было подлинное имя мадам Жужу) купил за еду какой-то купчик. Потом она ему надоела, он и сдал ее в бордель, где разумная и трудолюбивая девушка быстро прославилась и достигла высот положения – сама стала мадам. Наташа, принявшая имя мадам Жужу, сделалась довольно известна в старой столице, однако в последнее время повздорила с обер-полицмейстером, который обложил желтобилетчиц ну просто-таки непомерной данью, а потом просто закрыл заведение, придравшись к какой-то мелочи. Мадам Жужу не намерена была уступить: она просто снялась с места, да и отбыла со своими пятью первейшими красотками из Москвы в провинцию. На гастроли, так сказать. Вот уже с полгода она жила в городе N, где происходит действие нашей истории, и до того успешно конкурировала с городским публичным домом, что к ней постепенно перебежали лучшие девицы, так что число их достигло уже десяти, и они были в горячие дни не то что нарасхват, а просто в драку.
Разбили сердце мне, бедняжке,
Злые люди,
Ах, кабы раньше знала я,
Как оно будет!
Ах, кабы раньше знала я,
Ах, кабы знала,
Я не гуляла б ночкой той
Вокруг базара.
Там повстречала я его —
Он был красавец.
Да на поверку вышло, что
Большой мерзавец.
Сорвав невинности цветок,
Он удалился,
И новой шлюхой белый свет
Обогатился! —
продолжала петь Мюзетка. Песня была длинная-предлинная, со множеством куплетов, однако мадам Жужу ее уже не слушала. Ну, первое дело, она ее и так наизусть знала, все же свое собственное творение, а во-вторых, заботили даму сейчас совершенно другие дела, весьма далекие и от стихосложения, и от злоключений, как любят выражаться поэты, ее лирической героини.
Заботы принадлежали дню сегодняшнему, когда давний друг и почитатель талантов мадам Жужу (нет, не пиитических, отнюдь!), а также постоянный посетитель ее заведений как в Москве, так и в городе N, привел нынче к ней новую девушку. Правильней будет сказать, что девушку не привели, а на руках принесли сам господин Хвощинский (так звали сего друга и почитателя) и его камердинер. Она была почти в бесчувствии и едва ли понимала, что творится вокруг и с нею. Видимо, испытала некое потрясение, которое и вышибло совершенно почву из-под ее ног.
Сначала, увидав девицу (тип этот, знала по опыту мадам Жужу, лишь на любителя, строго на любителя!), хозяйка скосоротилась, однако потом приняла во внимание немалую сумму, с порога уплаченную Хвощинским и долженствующую окупить вполне все те издержки, которые неминуемо понесет заведение, покуда барышня не войдет в силу и не овладеет тонкостями ремесла. Хвощинский также упирал на девственность своей протеже: девушка воспитывалась в глуши, под присмотром строгой тетки, соблазнов городской жизни еще не изведала, сердце ее было нетронуто, тело – само собой разумеется. Мадам Жужу прикинула, кто из ее посетителей способен раскошелиться на такое лакомство. Выходило, что немногие: стыдливых девственниц кругом хоть пруд пруди, посетители же «Магнолии» искали не скромности, а изощренности. И все же так совпало, что именно сегодня заведение должен был навестить некий молодой господин, для которого нетронутый розанчик имел бы высокую цену.
Итак, мадам Жужу дала согласие принять «пансионерку», но до вечера оставила ее в покое. Пусть девушка придет в себя, никуда она уже не денется! Сейчас для мадам Жужу гораздо интересней было поразмыслить над тем, что ей рассказал Хвощинский... рассказал весьма сбивчиво и взволнованно, однако мадам Жужу была из тех, кто схватывает на лету и, по пословице, иглу в яйце видит.
Вот что было поведано Хвощинским.
Анюта Осмоловская («Аннетой у меня зваться будет, какая еще Анюта, фи!» – немедленно решила мадам Жужу) была дочерью его старинного друга и дальнего родственника. Родители ее рано умерли, девочка была поручена заботам кузины Осмоловского, старой девы, жившей в уездном городке, а состояние ее, весьма даже немалое, – попечению Хвощинского, известного эконома. Деньги были им помещены в ценные бумаги, куплены хорошие земли, сделаны вложения в уральские месторождения, дававшие немалую прибыль, во время поездки в Париж Хвощинский прикупил также акции бразильских изумрудных приисков, а часть денег шла в рост. Словом, Анюта Осмоловская вполне могла бы зваться богатою невестою, когда б не случилось некоего казуса, принадлежащего к разряду роковых случайностей. Однажды, возвращаясь из театра (а Хвощинский принадлежал к числу тех господ, которых Пушкин называл «театра злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почетный гражданин кулис»), он увидел, что за ним потихоньку плетется какая-то старуха. Нищенка, решил Хвощинский и остановился, чтобы подать ей монету. Однако старуха денег не взяла, а бросилась в ноги Хвощинского и стала молить его снять с ее души грех и выслушать ее. Недоумевающий барин отверз, выражаясь фигурально, свой слух, и вскоре у него встали волосы дыбом – встали вполне буквально. Эта старуха оказалась повитухою, которая принимала роды у Елизаветы Осмоловской, и она свидетельствовала о том, что девочка, дочь ее, родилась мертвой. Случилось это, увы, по вине и недосмотру и доктора, и повитухи, и оба страшно перепугались. Очень кстати повитуха – звали ее, к слову сказать, Каролина, и она была наполовину немкою, ну а доктор был немцем чистокровным, а значит, оба они уже вообразили себя уничтоженными возмущенными русскими... и та же участь должна была непременно постигнуть всех немцев в городе N, в городе, сохранившем во многом нравы патриархальные, а значит, преисполненные неприязни к иноземцам! – вспомнила, что одна ее знакомая благополучно разрешилась от беремени два дня тому назад, однако случившемуся вовсе не радовалась, ибо родила дочку незаконную и совершенно не ведала, что с ней делать и на что жить. В проворных немецких умах доктора и повитухи, обостренных опасностью, родился ужасный умысел...
Пока молодая Осмоловская лежала без памяти, Каролина тайно убежала из дома, унося мертворожденного младенца, выкинула его в Волгу без сердца и без жалости и снеслась со своей приятельницей, которая была, видимо, тоже хороша, ибо без малейших сомнений согласилась сделаться соучастницей. Она надеялась на сем деле хорошо поживиться и охотно продала родное дитя Каролине. Та вернулась в дом Осмоловского с ребенком и предъявила его отцу. Он легко сделался жертвой обмана – совсем не потому, что был прост умом, а прежде всего потому, что жена его умерла на его глазах от внезапно открывшегося кровотечения... И только тут доктор и Каролина поняли, что и смерть ребенка была бы Осмоловским принята со смирением, ведь кончина жены имела для него гораздо большее значение: он был из тех немногих мужчин, которые живут только любовью к женщине...
Но что сделано, то сделано, обратного пути не было: известие о том, что Елизавета Осмоловская умерла, родив прекрасную, здоровую девочку, уже пронеслось между родственниками и знакомыми. Дитя сразу приняла под свое крыло немолодая кузина убитого горем отца. Звали сию незамужнюю даму Марьей Ивановной. Лишенному матери ребенку, конечно, нужна была кормилица. Каролина немедля порекомендовала свою приятельницу – соучастницу в подмене. Сначала та согласилась, радуясь, что постоянно будет с дочкой, однако через некоторое время она поняла, что навсегда останется при родной дочери только служанкою, а со временем окажется с нею разлучена навеки, да и денег, обещанных Каролиною, было не видно. Материнские чувства ее вкупе с алчностью взыграли и возмутились. Она возмечтала заполучить дочь назад.
Между тем Марье Ивановне сразу не понравились простонародные, грубые манеры кормилицы, ее неряшливость, она стала подыскивать другую молодую мать, пусть даже и со своим ребенком, а не лишенную его. Обиженная кормилица рассорилась с хозяйкою, кинулась к Каролине и стала требовать воротить ей ребенка. Напрасно Каролина и доктор пытались вразумить ее, напрасно убеждали, что пути назад нет и быть не может. Баба безрассудно принялась угрожать: мол, ежели добром не вернут ей дитя, да еще с приплатою за пользование им, она расскажет обо всем Марье Ивановне, а вдобавок сообщит в полицию.
Злоумышленники так перепугались, что порешили покончить дело одним ударом: топором по голове непокладистой соучастнице. Попросту сказать, задумано было смертоубийство, задумано и осуществлено... да вот беда, осуществили его не слишком ловко, убийц мигом обнаружили. Им удалось свалить всю вину на злосчастную бабу, которая-де явилась к ним, чтобы убить самих за то, что они якобы против нее барыню настраивают. То ли судьи оказались простодушны, то ли решили дело, как это частенько бывает на Руси, барашки в бумажке, однако смертной казни доктор и Каролина избежали. Преступники упорно молчали о подмене ребенка. Они прекрасно понимали, что участь их была бы весьма отягощена, откройся такое дело. Так все и пребывало шито-крыто много, много лет...
О судьбе доктора, соучастника сего преступления, Каролина знала туманно: якобы умер он по пути в каторгу или вскоре после прибытия туда. Сама же она срок своей кары отбыла и воротилась в город N ровно через семнадцать лет после случившегося. Жила мирским подаянием и очень бедствовала, нанимаясь на самую черную работу, медленно гния от чахотки. Как-то раз очутилась подле знакомого ей дома Осмоловского. Вспомнила дела давно минувшие и спросила у сторожа, каково живут хозяева. Тот оказался словоохотлив и поведал, что Виктор Осмоловский давно умер, а сейчас в доме проживает его дальний родственник господин Хвощинский, который и распоряжается всеми делами и опекает молодую наследницу барышню Анну Осмоловскую. Она вскоре, по достижении восемнадцатилетия, должна явиться в город из глухомани, где воспитывается, и начать выезжать, чтобы найти себе достойного супруга и сделаться полноправной наследницей...
При мысли об этом все прошлое ожило в груди Каролины. Анна Осмоловская... барышня, наследница! Да какая она барышня, с ненавистью думала Каролина, она незаконная дочь жалкой побродяжки! В этом ребенке видела теперь бывшая повитуха причины всех своих бедствий. И мысль о мести овладела ее извращенной душой. Она стала искать способы поговорить с Хвощинским и открыть ему всю правду о происхождении Анюты. Удобного случая никак не выдавалось, а между тем здоровье Каролины делалось все хуже и хуже. Она боялась умереть, не найдя удовлетворения своей мстительности. И вот представилась такая возможность...
– Ну конечно, я не тотчас поверил, – рассказывал Хвощинский мадам Жужу. – Это было похоже на какой-то водевиль дурного толка, только вывернутый наизнанку: там ведь сплошь да рядом бедная сиротка оказывается дочерью знатных родителей и богатой невестою, а здесь выяснилось, что богатая невеста и наследница знатной фамилии – просто незаконный выблядок! Я не поверил, да, я прогнал Каролину прочь, однако она валялась в ногах моих и клялась, что не лжет, ведь смерть уже смотрит ей в глаза. Она предложила хоть к судье пойти и рассказать все прилюдно. Она даже готова была понести наказание за то старое преступление... конечно, надеясь, что неминучая и скорая смерть принесет ей помилование! Я пришел в ужас от этой мысли, – продолжал Хвощинский. – Сделать позор имени Осмоловских явным! Заставить моих дорогих родственников ворочаться в гробах своих! Нет, я решил молчать. Стиснуть зубы и молчать. Я даже не решился поведать о случившемся Марье Ивановне, опасаясь убить известием добрую старушку, вся жизнь которой была в жизни ее воспитанницы. Но тут до меня дошло известие о том, что она скоропостижно умерла, а Анна Викторовна(язык не поворачивается называть ее этим именем!) едет ко мне. Сознаюсь, я ждал ее с ожесточением. Но при виде этого прелестного, юного создания сердце мое растопилось. В конце концов, подумал я, она ведь ни в чем не виновна. Все случившееся произошло с ней без ее воли, согласия ее сделаться подменышем никто не спрашивал (да и мыслимо ли сие, коли она в ту пору была бессмысленным младенцем?!), да и позднее она пребывала в полном неведении относительно своего происхождения... Сердце мое рвалось на части, и разум мой изнемогал от напряжения. С одной стороны, я не мог и помыслить о том, чтобы древним и славным именем Осмоловских бесправно наслаждалась и пользовалась дочка какой-то гулящей нищенки, понесшей плод во время блудилища неизвестно с кем. С другой стороны, меня преследовала мысль о невиновности и невинности этой девицы. Вы знаете, как никто другой, что я грешный человек, мадам Жужу! – сказал Хвощинский далее и покаянно понурил голову. – Я грешен прелюбодеянием и гордынею. Я мнил себя существом честнейшим и совершеннейшим: ведь все эти годы я тщательно и рачительно распоряжался состоянием Осмоловских, приумножая его и не трогая в нем ни копейки. Я возгордился... А теперь я подумал: а что, если в лице этой девицы Господь посылает мне испытание для смирения моего?! И я решил принять это испытание. Я решил замолчать исповедь Каролины... и прикрыть не только ее грех, но и грех рождения этого ребенка. Я решил жениться на Анне Викторовне и немедленно сделал ей предложение. Конечно, я это совершил только из жалости к несчастной...
При этих словах мадам Жужу восторженно вскинула глаза на Хвощинского. Она тоже любила водевили и была завзятой театралкою, а значит, усвоила некие общепринятые сценические ужимки. Знала, когда и какую реплику подать, какою гримаской вовремя выразить свои мысли и чувства, истинные и предназначенные для публичного выражения... истинные-то она скрывала, а вот выражать наигранные была великая мастерица. Истинные мысли ее в данный миг были таковы: «Не ее ты жалел, а состояние, которое из рук твоих выходит, коли она не Осмоловская, а ты не опекун больше! Вот уж ни за что не поверю, что такой хитрец, как ты, не нагрел руки на вверенных тебе капиталах!» Разумеется, об сих мыслях никто не догадывался и догадаться не мог. Любой и каждый мог увидеть только выражение восхищения добродетельным человеколюбием рассказчика.
Именно это увидел и господин Хвощинский – и продолжал, весьма воодушевленный:
– Однако же вообразите мое... – Он замялся и поискал подходящее слово, – вообразите замешательство мое, когда в ответ получил я не просто вежливый отказ – сие было бы хоть как-то объяснимо, учитывая разницу нашу в летах и мечтания молодых девиц о сказочных принцах, – по лицу Хвощинского, впрочем, видно было, что никакую причину для отказа он объяснимой и извинительной не считает, – а выслушал грубую и вульгарную отповедь о том, что мне пора на свалку или уж прямиком на кладбище, а я вместо этого протягиваю руки к прелестям и деньгам несравненной Анны Викторовны. В ее замыслах сыскать себе, с таким-то приданым и красотою, не просто мужа, но и очень богатого, родовитого, красивого мужа – наилучшего из всех возможных, – а для сего она вот уже год как составляет список возможных своих женихов. И я, с моими летами и наружностью, никоим образом даже приближаться к сему списку не смею... подобно той свинье, которая не смеет соваться со своим-то рылом в калашный ряд.
Подвижная физиономия мадам Жужу выразила неприкрытое осуждение и даже ужас.
– И тогда я понял, что был слишком самонадеян, решив взять на себя роль ангела милосердного, – сказал Хвощинский. – Это юное создание, зачатое и рожденное во грехе, уже несло на себе неискоренимую наследственную печать. Женившись на ней, я бы навесил на себя такой камень, с которым непременно потонул бы в мутной пучине жизни. И тогда я утратил жалость и решил предоставить ее той участи, для которой она была рождена. Я привез ее к вам.
– Однако же странно, что вы не предложили сей девице замолить грехи ее матери в монастыре, – усмехнулась мадам Жужу.
– У меня было такое намерение, а как же, – кивнул Хвощинский. – Однако девушка сама сказала, что для нее лучше в веселый дом или на панель, нежели в монастырский затвор. Ну что ж, я решил воспользоваться последними правами опекуна и удовлетворить ее самое заветное желание.
– Скажу по правде, – осторожно начала мадам Жужу, – Анюта ваша...
– Ради всего святого, не называйте ее моей! – с отвращением воскликнул Хвощинский и даже весьма выразительно передернулся, чтобы подчеркнуть это свое чувство.
– Пардон, пардон, – кивнула мадам Жужу. – Извольте-с, не стану. Пусть так: Аннета, – она выделила имя голосом, и Хвощинский, поняв, одобрительно хмыкнул, – не слишком похожа на человека, чье самое заветное желание исполнилось. С тех пор, как ее сюда привезли, она лежит, не вставая с места, не двигаясь, не шелохнувшись, как убитая.
– Она и впрямь была истинно убита тем, что ее происхождение открылось, – пояснил Хвощинский. – Я подробно обрисовал обстоятельства ее рождения, ну а когда она весьма грубо усомнилась, призвал в свидетельницы Каролину, которую предусмотрительно задержал в своем доме до приезда моей бывшей воспитанницы.
– В самом деле, вы были весьма предусмотрительны, – сказала мадам Жужу и сделала восхищенную улыбку. – Точно так же, как и щедры, – она ласково улыбнулась солидной пачке ассигнаций, которая лежала на краю стола и символизировала собою ту сумму, которую Хвощинский пожертвовал на содержание в публичном доме бывшей наследницы многочисленных осмоловских тысяч. – Однако как мне поступить, если девушка спохватится – и окажется, что она ни в коей мере не желает пойти по нашей весьма веселой, но и весьма скользкой дороге? Такое мне приходилось наблюдать... Должна ли я отпустить ее восвояси?









































