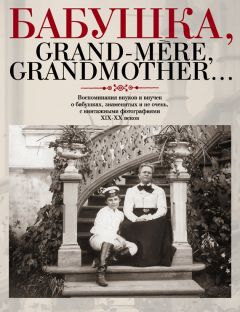
Автор книги: Елена Лаврентьева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Осенним днем 1927 года молодая женщина в густой вуалетке, полностью закрывавшей лицо, зашла в тамбур поезда Москва – Владивосток. Алексей Алексеевич, попрощавшись в купе с женой и проводив ее на перрон, завел незнакомку к себе. Конечно, это была Таточка! Так и не решившись поговорить с женой, Богданов предложил Тате бегство. Развод в то время был делом простым: отправлялось по почте заявление одного из супругов, да и вся недолга. На огромный корабль «Президент Кливленд», отплывавший из Владивостока в Америку, Наталья Петровна поднялась законной женой.
Ах, что это было за путешествие! Плыли первым классом. В великолепном большом холле играл джазовый оркестр, в кадках стояли зеленые деревья, ноги тонули в мягких коврах, на теннисных кортах азартно размахивали ракетками спортивные американцы, парикмахеры и массажисты в накрахмаленных халатах поджидали клиентов в салонах красоты.
Первые три дня Таточка страдала от качки, но потом, проглотив три таблетки всесильного американского аспирина, абсолютно поправилась и в сочельник уже лихо отплясывала на балу фокстроты с мужем и помощником капитана, с которым они сидели за одним столиком.
Каждый день, закутавшись в длинное пальто с меховым воротником, гуляла она по верхней палубе. Поеживаясь от порывов холодного ветра, боязливо любовалась на гигантские, с трехэтажный дом, волны. Не оставляло ощущение нереальности происходящего. Она – замужняя дама, плывет в Америку, так бесконечно далеко от Москвы, от родителей, от брата?!
Америка встретила Тату небоскребами, смогом, суетой и выхлопными газами. Америка жила сверхскоростной жизнью, зарабатывая деньги, отплясывая фокстроты, выдумывая Микки-Мауса и планируя первую церемонию вручения «Оскаров». Уже были казнены Сакко и Ванцетти, готовился к президентской предвыборной кампании Герберт Гувер, восьмой год процветал сухой закон. Врачи еженедельно регистрировали сотни случаев паралича после употребления недоброкачественного подпольного спиртного. Неподкупный Эллит Несс охотился со своими агентами за Аль-Капоне. Могущественный гангстер обдумывал, как отделаться от навязчивого стража порядка и враждебных группировок. Близилась пулеметная перестрелка в Чикаго, когда он разом перестреляет семерых мешающих «коллег». Неотвратимо надвигался черный четверг. Эрнест Хемингуэй сел за роман «Прощай оружие!».
Тате предстояло провести в Штатах больше трех лет. Все эти годы она подробно, два раза в неделю, рассказывала про свое американское житье в письмах Ольге Васильевне. Начала с описания небольшой квартирки, арендованной Алексеем Алексеевичем в Сиэтле, на 135-й, Hardward North: «Сиэтл – громадный чудный город. Сейчас мы в отеле “Олимпик”, но вчера сняли квартиру очень дешево. Она состоит из одной большой комнаты – гостиной и спальни одновременно, маленькой чистой кухни, ванной с уборной вместе, комнаткой для туалета и комнаткой для белья и гардероба.

Таточка, 1926
Одна стена в гостиной вертящаяся. На ночь берешь за ручку, как будто отворяешь дверь и переворачиваешь целую стенку, и выезжает складная чудная громадная постель, которая сложена кверху к потолку. Ты нажимаешь на кнопку, и она опускается и становится на четыре ножки. На день кровать убирается, стенка поворачивается, и кровать, сложенная кверху, находится в туалетной комнате. А гостиная делается общей комнатой, где стоит большой диван, два кресла, большая лампа на ножке, столик для чтения, столик для курения, на полу ковер на всю комнату, два окна, “рояль”!!!! т. е. хорошее пианино, и большое зеркало. Рядом кухня, электрическая плита с духовкой. У окна черный круглый лакированный стол и шесть черных таких же стульев. Затем чудная-чудная белая ванна, тоже электрическая, нажмешь кнопку – и вода в кранах нагревается. Чистота необычайная. Под коврами пол, как зеркало, из светлого дерева. Стоит эта квартира шестьдесят долларов в месяц…»
Тата с детства была приучена к домашней работе. Это ее очень выручило в Америке, потому что прислуга оказалась не по карману. Жалованье мужа было советским, мизерным, меньше, чем у американского каменщика, а чистоту в квартире требовалось поддерживать идеальную: хозяйка, жившая на первом этаже, регулярно устраивала инспекцию. И Тата отдраивала полы, мыла кафель в ванной и на кухне, готовила обед, гладила рубашки. Умудрялась угодить и хозяйке, и придирчивому Богданову (за педантичность Петр Петрович прозвал зятя «немцем»). Домашняя работа не мешала совершенствованию английского – два вечера в неделю Тата проводила на бесплатных курсах английского языка для иностранцев. Вскоре она полностью втянулась в американскую жизнь. Свободно говорила по-английски с молодыми американками, знала, в какой лавке, у какого зеленщика-итальянца недорого купить самые свежие овощи, щадя семейный бюджет, научилась шить себе платья по модным журнальным выкройкам. Только с пылесосом вышла накладка: не зная первые недели о его существовании, Таточка яростно выбивала ковры и подушки на балконе. Под окнами останавливались удивленные прохожие: «Poor girl, she hasn’t vacuum cleaner». Многое в Штатах Таточке нравилось, что-то раздражало. Фокстроты, к примеру. На фокстротах была помешана вся Америка, фокстроты слушали по радио с 8 утра и до полуночи, изо всех окон раздавались только фокстроты, ни одной классической мелодии. Соседка, даже уходя из дому, оставляла радио включенным: «I like it! It’s a fabulouse popular music!»
«Дорогой папочка, – писала она П. П. Кончаловскому, – если бы ты только мог себе представить, до какой степени тупы американцы в музыке и до чего у них музыка бездарна. Вкусы стоят на самом низком уровне. Чудная японская музыка, китайская, древнееврейские мелодии (я как-то слышала здесь) оставили неизгладимое впечатление. Но американцы ничего не понимают. “Absolutly”. Они смеются над китайской музыкой до истерики. Когда какая-то актриса стала петь арию Тоски, то они принялись кричать: “Неу, ho”. Пришлось скорей ей заканчивать. А после этого пошли фокстроты и свистопляска, и они бесновались от радости…»
На выставке русских художников в Нью-Йорке Таточка констатировала, что большинство американцев и в живописи смыслят немного. Сверкая глазами и радостно галдя, они, как дети, толпились возле лотков с кустарными изделиями, восхищаясь лукошками, цветастыми платками и деревянными коробками и едва замечая серьезных художников.
Она сообщала в письме О.В. Кончаловской: «Американцы сейчас увлекаются “modern art”, а произносят “мадерн арт” (Алеша ужасается). Это как раз Штренберг <…>, по-видимому, у него здесь много друзей. Покупают только тех, кого хвалят в газетах. Вот о Штренберге писали, и у него много куплено, и перед его работами масса ньюйоркцев. На папочкины вещи смотрят, потому что церкви. А уж на Осьмеркина и Фалька совсем не смотрят. Толпы стояли перед революционными картинами и перед чьим-то портретом Ленина. Живопись их абсолютно не интересует, а только сюжет. Вообще Америка так бедна в отношении искусств, так бездарна, что здесь тяжело жить. Здесь ничего не ценят, кроме долларов».
Иногда Богданова приглашали на балы и обеды в «Golf Club», в компании американских болтунов и сибаритов. Таточка, если удавалось найти молоденькую умненькую американку, веселилась. Но чаще всего ее окружали поджарые старухи с веснушчатыми руками, заинтересованно спрашивали: «Есть ли у вас в России картофель?», «Носят ли русские женщины серьги?» Приходилось вежливо растолковывать правду про российскую жизнь, втайне сожалея о погубленном вечере и пропущенном в соседнем кинематографе фильме с ковбоями, дикими лошадьми и красоткой в рейтузах и револьвером за поясом: очень Таточке такие фильмы в молодости нравились. А еще ей нравилась рыбная ловля. В выходные они с Алексеем Алексеевичем уплывали часов в пять утра на большом катере в океан смотреть на восходящее солнце, наслаждаться тишиной и соленым морским воздухом, радоваться улову.
У Таты с юности была жажда узнавать. Она окрестила это желание все увидеть и понять «жадностью» и просила не путать со скупостью. В Америке в поисках новых интересных мест и уголков каждый день часа по два бродила по городу.
Из письма к П. П. Кончаловскому: «Дорогой, миленький мой папинька!
Сейчас получила твое и мамочкино письмо. Радости сколько у меня!.. Сегодня я провела чудесный день. Пошла искать чего-нибудь интересного посмотреть и напала на естественный музей. Просидела там четыре часа и не могла уйти. Там собраны коллекции всех деревьев, всех цветов, всяких водяных растений, громадные чучела животных всего мира, даже голова мамонта. Но что замечательно, это зал индейцев. Индейцы у них представлены идеально, перенесены большие вигвамы. Их изделия, ковры, одеяла, корзинки плетеные – это верх искусства и верх вкуса. Такое благородство во всем. Какие у них цвета, папочка! Я никогда не видала такой красоты, дикой какой-то. Масса их фигур стоит – каманчи, навайи. Все они коричневые, строгие, мудрые и страшно гордые и благородные, прямо аристократы. Я наслаждалась и переживала детство и Майн Рида. Ты бы с громадным интересом бродил тут. И как жалко, что сейчас оставшихся индейцев стараются окультурить, насильно гонят в школы и обращают в христианство. Но их еще много в горах, и они живут по своим извечным законам. Я сейчас полна этих впечатлений и уж, конечно, буду во сне сегодня гоняться по прериям в мокасинах и в перьях с лассо за дикими лошадями и толочь кукурузу в деревянной ступке. Правда, это куда лучше, чем вся американская свистопляска и 40-этажные дома. Сейчас сижу у открытого окна. Подул свежий ветер, сейчас вечер и на улице темно, окна у всех раскрыты и отовсюду несутся вихрем фокстроты всех сортов и размеров. Но я очень хорошо себя чувствую, потому что живу с тобой и мамочкой и будто с вами говорю. Все вы в моем сердце сидите глубоко и крепко, и я горжусь тем, что я ваша дочь».
Тата часто навещала своего крестного – скульптора Коненкова. Вместе встречали Пасху, обсуждали новости российской эмиграции. Коненков показывал маленькие скульптурки, сделанные для «души» – изящные, талантливые, несравненно сильнее того, что ему приходилось делать на заказ. Маргарита, его молодая жена, горделиво принимала гостей в обтягивающем платье, с зелеными, по последнему слову моды, ногтями.
«Маргарита ужасна, – пишет Тата своей матери. – Мне прямо стыдно с ней ходить. Она так вертит боками, так кривляется и задирает юбку, когда садится. Страшно делается, и Крестного жаль… Боровский где-то в Германии, Рахманинов совсем переехал в Париж и продал свой дом в Нью-Йорке. Не вынес Америки. Шаляпин уехал на лето. Крестный рассказывал про проделки Бурлюка, который сейчас здесь. Он, оказывается, был в Японии до Америки. Устраивал там свою выставку. Но она не пользовалась большим успехом, и он выручил мало. В разговоре с японцами они его спросили, не может ли он устроить выставку хороших художников, таких как Коровин, Архипов, Малявин и другие. Бурлюк подумал и сказал, что, конечно, можно и как раз на днях сюда прибудут вещи этих художников, которые он собирал еще в Москве. Сам пошел домой и в три дня накатал всех художников и за всех подписался. (Вот мерзавец!!) Затем устроил выставку, собрал кучу денег и уехал в Америку. Сюда он приехал как турист, и ему разрешили пробыть полгода. Он катался по Америке с женой, совсем устроился, стал работать. Но, на свое несчастье, пошел регистрироваться (а о нем уж все забыли), и когда узнали, что ему было разрешено оставаться только полгода, то вызвали на “остров слез” (место, куда ссылают иностранцев, преступивших закон). Оттуда уже трудно выбраться: их там засаживают. Когда ему сказали, что он не имел права оставаться больше полугода как турист, то он ответил: “Что вы, я разве сказал, что турист? Я ведь сказал, что я футурист! Так что это mistake”. Американцам это так понравилось, что они ему разрешили жить в Америке, и через пять лет он получит гражданство. Вот каков Бурлюк».
Сиэтл Тата любила: он напоминал ей Владивосток. Нью-Йорк, где приходилось бывать из-за работы Богданова, не выносила, называя худшим местом на земле. Днем ей не хватало солнца, спрятанного небоскребами, по ночам пугали автоматные, а то и пулеметные очереди: полиция охотилась за мафиози, убегавшие и догонявшие были вооружены до зубов. Сражаясь с коза ностра, власти пошли на крайние меры – дали полицейским право открывать огонь по любой не остановившейся по их указанию машине. Тату поразила история с только севшей за руль дамой. Бедняжка не заметила стража порядка, сделавшего ей знак затормозить, и тот ее застрелил. Тате, выросшей среди людей творческих, чиновничья жизнь мужа абсолютно не нравилась. Она не только с детства сочиняла стихи, разбиралась в живописи, но и любила музыку. Петр Петрович пел ей, годовалой, русские народные песни (голос у него был чудесный, сильный). Она замирала, зачарованно слушала. Пел веселое – улыбалась, стоило заслышать печальное: «Зеленая роща всю ночь прошумела..» – как из глаз безудержно текли слезы. Она не стала пианисткой, но играла замечательно и в музыке разбиралась как профессиональный музыкант. Идея пришла сама собой: «Лешенька отлично окончил консерваторию, почему бы ему всерьез не заняться музыкой? Это несравнимо интереснее, чем пароходы и консервные банки, о которых он печется все дни напролет!» Каждый вечер двадцатипятилетняя Тата внушала Алексею Алексеевичу, что его место на сцене. Богданов мало верил в себя, но очень верил жене, а главное – бесконечно ее любил. Он надеялся стать полноправным членом семьи Кончаловских, просил, чтобы в письмах тесть и теща обращались к нему на «ты», мечтал, как они пригласят его присесть на огромный диван, стоявший в мастерской Петра Петровича (об этом излюбленном месте отдыха всей семьи Таточка часто ему с ностальгией рассказывала). Алексей Алексеевич любил все, что любила она. Чтобы доставить ей удовольствие, шел на любые жертвы. Каждый день, придя с работы, немолодой, уставший человек облачался в сшитый Татой шелковый халат и старательно вспоминал забытые за пятнадцать лет произведения Листа, Бетховена и Шопена. Соседи снизу злобно стучали шваброй в потолок. Ни он, ни зачарованно слушавшая его Таточка не обращали на это никакого внимания.
«Я тебе сейчас пишу, а Алешечка играет этюды Шопена, – сообщает она О. В. Кончаловской. – Разучивает медленно, как ученик. Звук у него просто удивительный, полный и мягкий. Алеша только и мечтает, как будет папочке и тебе играть. И сейчас страшно старается. Я должна тебе сказать, что техника у него сохранилась и ему ничего не стоит ее восстановить. Он у меня стал страшно требовательный с тех пор, как начал заниматься. Требует, чтобы я ему руки холила и мазала. Требует, чтобы я ему голову мыла, капризничает, как ребенок. Я с радостью вожусь с ним, ведь никто никогда с ним не возился, как с пианистами возятся, и мне кажется, что он счастлив. Он такой чудный человечек, так преданно и нежно любит меня и, в свою очередь, так заботится обо мне. Он, мамочка, еще покажет себя и в музыке. Я в это верю. А главное, что он сам стал верить. А это самое, самое важное в жизни: вера в себя. Мне удалось ему ее внушить. Я торжествую, я сама не играю (как раньше думала: буду играть), но зато я – пульс Алешиной жизни, как он сам говорит (это я только для вас пишу, и ты никому не повторяй), и причина его возврата к музыке – это я. Ты представляешь, как мой курносый нос теперь радостно задирается кверху?!!!»
Таточка во всем, всегда подражала Ольге Васильевне. Восхищалась ее твердым характером, силой воли, самопожертвованием. Называла своим «дружочком», «карапузиком», «идеалом». Позднее посвятила сонет:
Я голос твой узнаю без ошибки
Из тысячи знакомых голосов.
Он надо мной звучал от первых снов,
Когда меня ты усыпляла в зыбке.
Он таял в нежности твоей улыбки,
Струился в запахе твоих духов.
Он отвечал на мой горячий зов,
Твой голос нежный —
женственный и гибкий.
Твоей походки скованные звенья
Я различу, где только видит глаз,
В ней отражен твой жизненный запас.
Ольга Васильевна отдала жизнь мужу-художнику. Тата была готова отдать ее будущему пианисту. Чем покорнее и увлеченнее занимался дед музыкой, тем реальнее становилась Таточкина мечта сделать из него знаменитость. Ей уже виделась Москва, Большой концертный зал консерватории, афиши с именем Богданова. Близилась, близилась чудесная творческая жизнь, и от предвкушения этого, казалось, почти осязаемого будущего Тата ликовала: «Мамочка, самое лучшее призвание, по-моему (кроме детей), это быть нужной своему мужу как вода и воздух. Алеша без меня не может жить совсем теперь, после того как я его уговорила начать заниматься музыкой и внушила ему эту веру в себя. Если бы ты знала, как я его люблю ужасно, как он мне дорог, как жизнь прямо. Да ты, конечно, знаешь! Тебе ведь папочка так же дорог, как жизнь!
Я ведь во всем стараюсь подражать тебе и сама создаю себе твои характер и привычки (это для меня идеал). Очень смешно бывает, когда Алеша сидит, играет, а я куда-нибудь уйду в другую комнату, а он поиграет и пойдет меня искать: “Где ты? Что ты делаешь?” Он любит, когда я сижу и работаю рядом с ним около рояля…Мы живем друг другом, твоими письмами и нашей музыкой. Мы оба всегда удивляемся, за что судьба нам послала друг друга и такое счастье. Мы с Алешей третий год переживаем медовый год и ходим, как новобрачные, которым, кроме друг друга, ничто не интересно и не нужно. Надо увидеть нас идущих по улице под руку: никогда и не скажешь, что люди третий год женаты. Мы до сих пор выглядим так, будто только что встретились украдкой на углу улицы и спешим в какой-то кинематограф или ресторанчик, чтобы скрыться от людей. Это прямо удивительно. Утром мы так долго прощаемся, целуемся и крестим друг друга, как будто расстаемся на неделю, а в пять часов вечера кидаемся друг другу в объятия, будто неделю не виделись. Это редко бывает на свете. Но у нас это есть, и мы это бережем».
Они уже собирались вернуться в Москву, как пришло известие, что надо задержаться еще на год. Скрепя сердце остались. Дед продолжал играть по вечерам дома и в гостях у Коненкова. Раз, исполняя органный концерт Баха, сбился посредине, долго импровизировал, с божьей помощью «вырулил» на заключительные торжественные аккорды. Жена Коненкова с уважением заметила: «Ну и память у Вас, Алексей Алексеевич, такую большую вещь без нот сыграли!» Таточка смешливо написала об этом Ольге Васильевне, но в душе появились первые, едва заметные сомнения: «А что, если такое произойдет на концерте?!»

С Батенькой, 1933
Постепенно они переросли в уверенность. Играл дед прекрасно, мог преподавать, но концертная деятельность ему была заказана. «Мамочка… Вот насчет сонаты. Первую и вторую часть сонаты Алеша играет хорошо. Особенно марш траурный. Первая часть немного суховата, но он просто ее еще не прочувствовал, но марш и этот ветер после марша, который дует над могилой, – просто удивительно. Это ветер, пустота и небытие, ничего нету, кроме ветра и мрака. Это само по себе очень страшно, слишком реально. Алеша играет это очень хорошо: воет ветер, и так пусто-пусто на душе делается.
И никакой сладости и в помине не должно быть, и стихийности нету, и тревоги нету, никаких переживаний, потому что человек умер, и человека нету, а есть пустота, ночь и ветер на могиле. И это не должно шелестеть, потому что в шелесте есть романтизм, а это должно выть и должно пусто звучать. Алеша, как тончайший музыкант, это очень хорошо передает. Вообще, я не думаю, что он будет выступать. У него нету блеска в музыке, как это должно быть у эстрадного пианиста. Но у него есть глубина, чувства, большой дух, и дома его слушать просто блаженство».
Петр Петрович и Ольга Васильевна все чаще просили в письмах внука. Тата объясняла, что в Америке «наследник» будет не по карману: врачи и клиники стоят колоссальных денег. Обещала завести ребенка по возвращении в Россию. Читая письма, где она так убедительно объясняла чисто финансовые помехи, я поразилась ее выдержке. Обожавшая родителей, рассказывавшая им о своей жизни в мельчайших деталях, Тата, чтобы их не волновать, скрыла главное.
Она поняла, что находится в положении еще по дороге в Америку, в декабре 1927 года. Несчастье произошло через несколько недель после приезда в Сиэтл. С утра дед ушел на работу, Тата принялась за уборку. Перебирая бумаги на бюро, случайно нашла письмо его бывшей жены, которой Богданов, к слову сказать, аккуратно высылал часть своей зарплаты. Эмансипированная дама с папироской, всегда холодноватая, равнодушная к мужу и его интересам, «упустив» его, повела себя как средневековая ведьма. Уже собираясь замуж за нового поклонника, прокляла в письме Алексея Алекесеевича, Тату и их будущих детей и внуков. Тем же вечером случился выкидыш. Тата оправилась, о страшном письме постаралась забыть. Выбирала имена почему-то только для девочек. Марфонька… Варенька… В течение трех последующих лет шесть раз обрывались нормально развивающиеся беременности. Старый врач озадаченно протирал очки после очередного осмотра. «Вы абсолютно здоровы, миссис Богданофф. Не понимаю, почему Вам не удается доносить. Такого в моей врачебной практике не случалось!» Перед возвращением в Москву, во Владивостоке уже, родился мертвый ребенок. Плод к моменту родов начал разлагаться, боялись сепсиса. Спасла Тату умелая акушерка по имени Сара, которую она всегда с благодарностью вспоминала. Приехав в Москву, поняла, что надеяться можно только на чудо. Пошла в маленькую церковь в Брюсовом переулке, встала на колени перед чудотворной иконой Богородицы «Взыскания всех погибших» и обратилась с горячей молитвой к кроткому, всепрощающему лику. Через десять месяцев, 7 ноября 1931 года, на колокольню церкви, находившейся недалеко от роддома, забрались озорные мальчишки и встретили «красный день календаря» веселым перезвоном. Под него и родилась у Натальи Петровны и Алексея Алексеевича дочь Катенька, моя будущая мама, большая, весом в пять килограммов, прозванная веселыми медсестрами Царь-бабой. Два года родители не могли нарадоваться на долгожданного ребенка. Лето проводили в усадьбе Петра Петровича – в Буграх, под Обнинском. Просторный деревянный дом с большими окнами, выходящими в чудесный яблоневый сад, был построен еще в конце девятнадцатого века. Долгое время им владел профессор Трояновский. Потом купил Кончаловский. Приезжали в гости Лентулов и Машков с женами. Друзья уходили на этюды, супруги оставались беседовать дома. Жена Машкова, манерная дама, нарочито не выговаривавшая букву «р», заводила разговор о нападках критиков. Глубокомысленно делилась с Ольгой Васильевной: «Петг Петгович такая гуина! Такая гуина! Ему все гавно, а вот Игье Ивановичу не все гавно!» Пряча смешливые искорки в глазах, Ольга Васильевна сочувственно кивала. Дом гостеприимно принимал удивительных людей: композитора Прокофьева, пианиста Сафроницкого, писателя Алексея Толстого. У прежней хозяйки, дочери профессора, сохранившей за собой небольшой флигелек в саду, часто отдыхал молодой Рихтер. Закатав брюки до колен, бродил ранним утром по густой росистой траве, потом играл. Петр Петрович целыми днями работал в мастерской. Внучка стала любимой моделью: писал ее спящей, играющей, на руках у няни, испуганно стоящей на слабых еще ножках у стула. Наталья Петровна, если дочка «не позировала», играла с ней, радостно хохочущей, перед домом. Алексей Алексеевич уходил с грустноглазым сеттером по кличке Альма в соседний лес охотиться. Он так и не стал профессиональным пианистом, да и в семью Кончаловских по-настояще-му не вошел: к «немцу» относились доброжелательно иронично. Семейная жизнь Таты начинала незаметно давать трещины. Внешне все было замечательно. Дед аккуратно ходил на службу и писал длинные доклады. Вовремя возвращался домой, обстоятельно рассказывал о работе. Был вежлив, спокоен, ласков. Тата рассеянно слушала, не слыша, грустно улыбалась. Ей уже отчетливо виделась бесконечная чреда ничем не отличающихся друг от друга дней. Сами собой складывались первые рифмы:
Мысли сонной недосуг
Понимать восторгов шумных,
Все спокойно, все разумно,
Все замкнуто в тесный круг.
Ты вперед глядишь с тоскою —
Все прожито, нету цели,
Только сумрак и покой.
Нет, с тобой я не пойду.
Бывший друг мой,
Друг мой милый,
Я момент не упустила.
Я другую жизнь найду.
Ты ж найдешь себе других.
Тех попутчиков спокойных,
Что, боясь путей окольных,
Ищут скучных, но прямых.
Я пути найду не сразу,
Но свобода – мой маяк…
Незаметно возникшее прохладное отчуждение оказалось разрушительнее открытых конфликтов. Долгие месяцы Тата думала, переживала, сомневалась, затем приняла решение. «Посвятить всю жизнь человеку, не занимающемуся творчеством, я не способна. Мы будем несчастны. Мы уже несчастны, и оба это понимаем». В день рождения деда, после обеда, твердо сказала:
– Алешенька, я от тебя ухожу.
Он, внутренне к этому готовый, спокойно ответил:
– Знаю, Наташенька. Кофейку приготовишь?
Попив кофе, они расстались. Вскоре вслед за его старшим братом посадили и деда. Из тюрьмы он не вышел: покончил жизнь самоубийством… Тате было тридцать два года. Почти каждый день она отправлялась с маленькой мамой в Московский университет слушать лекции по искусству, истории, философии.
– А что же делала мама во время лекций? – удивлялась я.
– С увлечением бегала в университетском гардеробе между студенческими шубками и пальто, – улыбаясь, отвечала Тата. – Старушка-гардеробщица за ней приглядывала, пока я «залатывала» пробелы в образовании!

Таточка, 1939
За Татой тогда ухаживали многие. Она нравилась, хотя не была красива классической красотой, знала это и даже написала о своей внешности стихи:
О красоте
Что с того, что я не так красива,
Как меня поэт зарифмовал.
Неужели только в этом сила:
Цвет лица, и форма, и овал?
Неужели только римский носик,
Пышный локон, крашеная бровь
На высоты женщину возносят,
Возбуждая зависть и любовь?
Свежесть чувств заменит свежесть кожи,
Свежесть мысли – юных щек пожар,
И пускай мне сердце не тревожит
Мысль о том, что я не хороша.
При широких бедрах – легче роды;
Сердце крепче – при крутой груди;
И у мудрой матери-природы
Есть закон для всех людей один:
Если ты красив, то неудачлив;
Если неказист, то тароват;
Кто бедней лицом – умом богаче.
Кто бедней умом – лицом богат.
Потому-то я своей дочурке
Не просила расписных красот,
Пусть судьбой своей играет в жмурки.
Таровата будет – так найдет.
В тот момент пресловутая судьба готовила ей самой замечательный сюрприз. В ее жизни появился и, как оказалось, на полвека, молодой (всего двадцать один год), талантливый поэт Сергей Михалков. Спустя десятилетия после их знакомства Тата продолжала вспоминать, какие Сергей Владимирович тогда устраивал розыгрыши. Вот самый знаменитый: набрав в большую бутыль яблочного сока, он зашел с Таточкой в лабораторию и серьезно протянул бутыль в окошечко. «В-озьмите, п-пожалуйста, анализ м-м-очи». «Почему же так много, товарищ?!» – растерянно пролепетала медсестричка. «А это от в-в-сех жильцов н-нашего дома!» – невозмутимо ответил будущий автор гимна.
Отличительной чертой Сергея Владимировича была редкая доброта. Мама, четырехлетняя тогда, это сразу почувствовала и к нему потянулась. Сергей Владимирович водил ее по ресторанам, заказывая любимое блюдо «дамы» – котлеты. Если не допивала кисель, деловито говорил прыскающим в кулак официанткам: «3-заверните нам его, и-пожалуйста, в б-бумажку!» Таскал с собой по редакциям. Сотрудники их издалека узнавали: «Вот идут писатель и читатель!» Таточка любила мне рассказывать, как, «защищая интересы» будущего отчима, пятилетняя мама прогнала одного из ее поклонников, известного писателя. Тот – серьезный, в очках, в галошах, в очередной раз пришел на чаепитие. Мама «сердечно» встретила его на пороге словами: «Ты к нам больше не ходи. А то отправишься домой без калош!» Вскоре поставила родительнице ультиматум: «Или выйдешь замуж за Сережу, или за никого!» Через пару месяцев Сергей Владимирович и Наталья Петровна уехали в свадебное путешествие по Средней Азии. У Таты был удивительный дар рассказывать о самых «деликатных» моментах своей жизни просто и весело. О чем-то она писала в книгах, что-то оставляла для «личного пользования», для близких, но в обоих случаях говорила о самом смешном, печальном или трагикомичном, ничего не приукрашивая и не скрывая. Однажды она поведала мне историю той поездки.
Добравшись до места назначения, Сергей Владимирович отправился под палящим южным солнцем обследовать достопримечательности, а Тата решила отдохнуть в номере. Через час вернулся сияющий со свертком под мышкой.
– П-посмотри, что я к-купил! Ручная работа! – Сергей Владимирович гордо развернул перед женой «шедевр» местного коврового искусства и вопросительно к ней обернулся, ожидая похвал. Тата возмущенно всплеснула руками:
– Сереженька, что ты притащил!? Это не ковер ручной работы, а сшитая из санаторных ковровых дорожек подделка. Нельзя же быть таким доверчивым. Тебя надули! Верни эту гадость продавшему ее аферисту! Немедленно!
Взамен Тата купила чудесный маленький коврик (он хранится у моей мамы до сих пор, прикрывая, кстати, гигантский потертый сундук Богданова, привезенный им из Америки).
– А Сереженька после взбучки загрустил, посадил меня в поезд и помахал рукой, – продолжила Тата рассказ.
– Как?! – не поняла я.
– Вот так, – рассмеялась она, изображая заикание мужа.: «Ты, Н-наташенька, езжай д-дальше, а я, п-пожалуй, чуть п-подзадержусь!»
– И что же ты сделала? – ужаснулась я.
– Обливаясь слезами, поехала из моего свадебного путешествия домой одна и… уже в положении! – улыбаясь, продолжила Таточка. – Но самое сложное началось потом. Я ведь, Ольгушка, была очень вспыльчива, и из-за этого то и дело возникали размолвки. Мы решили с Сереженькой сходить к знаменитому в то время в Москве психологу Квитко. Худой, подтянутый, он встретил нас на пороге со скрипкой в руке – свободное время посвящал музыке. Рассказали о наших неурядицах. Квитко внимательно выслушал и дал мне два бесценных совета. «Наталья Петровна, – сказал он, оставшись со мной с глазу на глаз в кабинете. – В вашей жизни на первом месте стоит муж, на втором – дети, а на третьем – Вы и ваша работа. С сегодняшнего дня установленный порядок должен измениться.

С Катей и Андроном. 1939
На первое место ставьте себя, на второе – детей, а уж третье оставьте благоверному. А чтобы не гневаться по пустякам, заведите тетрадочку и ставьте себе оценки за поведение. Да-да, как в гимназии. Рассердились на кого-то из домашних или посторонних, вышли из себя – получайте двойку. Сумели сохранить спокойствие – заслужили пятерку». Тата с мстительным удовольствием выводила себе в течение нескольких дней колы и единицы и вскоре заметила разительные изменения. Эмоции уже не захлестывали ее – она научилась не замечать ленивого хамства продавщиц в магазинах, недостаток внимания домашних, пропускать мимо ушей неприятные слова. Думаю, что совет знаменитого врача был лишь полделом. Только с Татиной силой воли можно было добиться таких поразительных результатов. За пару месяцев из вспыльчивой, гневливой особы она превратилась, вернее, превратила себя в выдержанную, в совершенстве владеющую собой леди со стальными нервами…









































