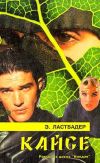Текст книги "Белый ниндзя"

Автор книги: Эрик Ластбадер
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Эрик ван Ластбадер
Белый Ниндзя
Как ветер дует!
Спроси его, какому листику
Пришел черед упасть!
(Сосеки)
Кто убежит от ужаса – тот свалится в яму; а кто выберется из ямы – угодит в силки.
(Иеремия, 48:44)
Токио, осень
Он проснулся, и его глазам открылась кромешная тьма. За окном был полдень, но здесь, в отеле «Кан» на грязной окраине Токио, издавна облюбованном заезжими бизнесменами, было темно, как в могиле: остальные ставни своими цепкими, как у ворона, когтями задраили окно.
Эти кладбищенские метафоры не случайны. Сама комната была немногим просторнее гроба. И пол, и потолок обиты ковровым материалом серого, покойницкого цвета. Поскольку их разделяло, кажется, не больше четырех футов, любое освещение в комнате оказывало бы неприятно-тошнотворный эффект на постояльцев, особенно в момент, когда они просыпаются.
Но это было не главное, из-за чего Сендзин не включил свет, проснувшись на своем жестком ложе. У него были более важные причины оставаться в темноте.
Сендзин думал о матери, а это всегда было так, когда он напивался или замышлял убийство. Вообще-то у него было две матери: одна – та, которая родила его, а другая – та, что вырастила. Второй матерью была его тетя – сестра матери – но он ее всегда называл Аха-сан, то есть мамой. Это она вскормила его, когда родная мать имела наглость умереть через неделю после его рождения от инфекции, вызванной трудными и долгими родовыми муками. Это Аха-сан остужала его пылающий лоб, когда он болел в детстве, и это она согревала его своими руками, когда его знобило. Она пожертвовала всем ради Сендзина, но он в конце концов просто ушел от нее, даже не попрощавшись, – о благодарности уж и речи не могло идти.
Но это, конечно, не значит, что Сендзин никогда не думал о ней. Вот и сейчас, уставившись в темную пустоту, он вспоминал, как вымещал свою злобу на ее мягкой и белой, как сладкий зефир, груди, как она отдавала ему всю себя, как он постоянно преступал все границы, но встречал в ответ лишь ее любящий взгляд. Он наносил удары, желая только одного: чтобы и его ударили в ответ. Но она вместо этого опять привлекала его к своей мягкой груди, веря, что он отринет свои обиды на весь мир, окунувшись в море ее бесконечной доброты.
И только сон остался с ним, как шлак на почерневшем склоне давно потухшего вулкана: Сендзин наблюдает за тем, как Аха-сан зверски насилуют в очередь. Омерзительное чувство удовлетворения, граничащее с восторгом, охватило его. И оно без всяких дополнительных физических средств вызвало у него самый настоящий оргазм, причем необычайной силы.
Долго Сендзин смотрел на молочно-белые капли его собственного семени, медленно стекающие по стене. Наверное, опять задремал. Потом он перевернулся на спину и встал с кровати. Двигаясь бесшумно, как призрак, он мгновенно оделся и покинул комнату, не потрудившись даже запереть за собой дверь.
Было далеко за полдень. Свинцовое небо повисло над городом. Оно казалось плотным, как металл, и мягким, как замазка для окон. Копоть промышленных предприятий повисла в воздухе, тягучем, как сироп. На лицах многих – белые марлевые фильтры, причем не только у проносящихся мимо мотоциклистов, но и у пешеходов, беспокоящихся за состояние своих легких.
День поборол ночь, его свет заменил неоновое свечение ламп. А что он еще заменил? Густую тьму бесцветной мутью, жидкой и едкой. Чувствуешь себя как на дне морском, куда никогда не достает луч солнца.
Ему предстояло убить еще энное количество часов, но это не беда. Все шло по плану: вынырнул из безвестного пристанища, где провел ночь, теперь идет пешком по безвестным закоулкам, пробивая, через городской лабиринт тропу, извивы которой знает только он. И только он один сможет повторить этот путь.
Несмотря на это тусклое и безрадостное окружение, Сендзин чувствовал необычайный душевный подъем, ощущая себя гигантом десяти футов ростом, чудовищно сильным. Он узнавал понятные ему одному знаки, вселяющие в него внутренний комфорт, как заношенная, но привычная рубашка, – и улыбался про себя. Он ощущал скрытые под одеждой тонкие и изящные металлические штучки. Согретые теплом его крови, они, кажется, жили собственной жизнью, будто его собственная, бьющая через край энергия наделила и их способностью ощущать и чувствовать. Сендзин казался себе богом, карающим мечом, занесенным над Токио, готовым поразить заразу, подтачивающую его изнутри.
Все дальше и дальше шел он по узким улочкам, – человек-тайна, воплощение смерти и ужаса. Он перешагивал через сточные канавы и лужи, над которыми поднимались миазмы вони гниющих рыбьих потрохов. Масляные разводы на лужах сверкали радужными переливами.
Был уже вечер, когда он добрался до кабаре «Шелковый путь». Вход в него можно было заметить издали, благодаря многоцветной неоновой вывеске и аляповатым пластиковым цветам, в которых утопал вход, напоминая одним людям внутренние лепестки огромной орхидеи, а другим – женский половой орган. Все зависит от того, какой тип образности предпочитает ваше воображение.
Сендзин прошел сквозь стеклянную дверь и оказался в помещении, заполненном отраженным светом. Ощущение было такое, что попал внутрь призмы. Вращающиеся огни диско плясали по стенам и потолку, покрытым вертикальными панелями. Мгновенно создавался какой-то дезориентирующий эффект, от которого начинала немного кружиться голова, как в напоминающей гроб комнатушке отеля, где ночевал Сендзин. Здесь он себя чувствовал как дома.
Американская рок-музыка звучала на таком уровне мощности, что, казалось, диафрагмы микрофонов не выдержат и лопнут. Все сотрясалось от глухих, тяжелых ритмов гремящего басами ударника.
Сендзин прошел по черному пластиковому полу, который обычно бывает в детских спортивных залах, мимо стойки бара, сделанного из плексигласа. В пластиковых трубках пузырилась цветная вода. Встретился глазами с директором этого заведения, который, очевидно, торопился к себе в кабинет, расположенный в задней части здания. Нашел свободный столик неподалеку от сцены и сел за него, жестом отказавшись от услуг официантки, направившейся было к нему.
Устроившись наконец, Сендзин посмотрел вокруг. Клуб был набит в основном бизнесменами, которые пришли сюда расслабиться на деньги своих фирм. Воздух насыщен сигаретным дымом, парами дешевого виски и запахом пота предвкушающих зрелище зрителей. Сендзин попробовал воздух на кончик языка, высунутого между зубов, как ящерка, изучающая смешанные запахи леса.
Крохотная плексигласовая сцена, напротив которой сидел Сендзин, была вырезана в форме слезинки. Над ней были еще два куска плексигласа такой же формы – и вращающиеся огни, отражаясь от них, рассылали во все стороны радужные блики.
В конце концов появились и девушки. На них были скромные одеяния, закрывающие тело от горла до лодыжек, делающие их похожими на вещуний-сивилл, из чьих уст сидящие в зале люди сейчас узнают свою судьбу.
Видны были только лица. Об остальном можно было лишь догадываться. Присутствующим приходилось слепо доверять этим мягко улыбающимся лицам, принадлежащим, очевидно, не ангелам, но и не дьяволицам. Они были проникнуты таким чисто материнским теплом, что было невозможно усмотреть в них какую-либо опасность или угрозу. В этом и был, в сущности, весь фокус. Доверься мне, говорили эти лица, и каждый непроизвольно попадался на удочку. Даже Сендзин, который обычно не доверял никому. Но он, в конце концов, тоже был японцем и, хотел он этого или не хотел, во многом был плоть от плоти этой единообразной толпы.
Сендзин сосредоточил внимание на одной из девушек, той, что была ближе всего к нему. Она была поразительно молода и поразительно красива. Он не ожидал увидеть среди здешних девиц такую молодую особу, но ее возраст, естественно, не привел его в расстройство, а, наоборот, неким образом обострил его собственное нетерпеливое ожидание. Он облизнулся, будто ему сейчас предстояло усесться за долгожданную роскошную трапезу.
Характер музыки изменился. В ней добавилось лязга и звона, ритмы и аранжировка партий медных инструментов стали более откровенно эротичными. Девицы одновременно развязали шнурки, стягивающие их хламиды, и те упали с их плеч на плексигласовый пол. Под ними оказалась обычная верхняя одежда, в большинстве случаев более или менее откровенного покроя. Вспыхнули вращающиеся огни. В унисон девицы начали раздеваться, но не в судорожной западной манере, а плавно и неторопливо, замирая время от времени в живописных позах, как в живых картинах. Позы, по мере того, как девицы освобождались от одежды, становились все более и более эротическими, пока, наконец, все они не оказались совершенно голыми.
Звуки музыки замерли, и почти все прожектора погасли. Публика нетерпеливо заерзала. Запах пота перешибал все остальные.
У ближайшей к Сендзину девушки была безукоризненная фигура и изумительная кожа. Мышцы плотные, и в них какая-то милая округлость, свойственная юности. Маленькие груди стоят торчком, а узкий треугольник волосков на лоне выставил бы напоказ больше, чем он скрывал, если бы это место осветить хорошенько.
Сейчас девушка сидела на корточках. В руках она сжимала множество крохотных фонариков, на которых было написано «Шелковый путь» – название заведения. Она предложила один Сендзину, но он отрицательно покачал головой. Мгновенно за спиной послышалась суета, и целая свора бизнесменов так и ринулась к ней, вырывая из ее рук фонарики.
Когда они были розданы, девушка изогнулась так, что ее груди торчали прямо вверх, повторяясь во множестве зеркал, укрепленных на потолке. Это зрелище напомнило Сендзину однажды виденную им скульптуру, на которой волчица с отвислыми сиськами кормит Ромула и Рема.
Балансируя на пятках с легкостью акробата, девушка начала раздвигать ноги. Это был кульминационный момент номера, называемый по-японски токудаши и обычно именуемый в среде любителей порношоу «раскрытием».
Со всех сторон Сендзина послышались легкие щелчки крохотных выключателей, и повсюду зажглись фонарики, как светлячки в густой пшенице. Кто-то за спиной громко сопел. Сендзин был уверен, что глаза всех в клубе были прикованы к одной точке – между ног девушки. Лучи фонариков пытались проникнуть в эту святая святых, когда девушки двигались по сцене, широко расставляя ноги. Очень непросто ходить подобным образом. Освоить это искусство не менее сложно, чем научиться прыгать в воду с вышки или играть в гольф, и искусство это не в меньшей мере достойно восхищения.
Сендзин наблюдал, как играют мышцы на ногах девушки, когда она медленно скользит по периметру сцены с легкостью «человека-змеи» в цирке. И все это время ее лицо сохраняло самое безмятежное выражение, как будто она была царицей или богиней, воздействующей своими чарами на всех этих смертных вокруг нее. И покуда ее ноги разведены таким образом, эта девушка – как и другие из группы – сохраняла магическую власть, которую так же трудно объяснить, как и описать. Сендзин, абсолютно не чувствительный к этой эрогенной зоне женского тела, всегда поражался ее власти над другими мужчинами.
Внезапно и ослепительно зажглись огни, разрушив трепетную, благоговейную тишину. Тяжелый рок грянул с прежней силой, девушки вновь облачились в свои хламиды, обретая прежнюю таинственность. На лицах их царил покой и полная отрешенность от всего происходящего.
Но Сендзину было недосуг размышлять над ловкостью, с которой танцовщицы управляются со своими эмоциями. Он уже пробирался по залитому красным светом лабиринту коридоров, расположенных за сценой.
Найдя нужную дверь, он проскользнул сквозь нее в крохотную комнатушку и растворился в ее тьме. Теперь можно спокойно заняться приготовлениями. На задней стене он обнаружил окно, покрытое слоем грязи и забрызганное краской, очевидно, во время ремонта, которую никто не удосужился стереть, поскольку окно это никого не интересовало. Проверил, не заперто ли оно. Нет, не заперто, да и размеры его вполне подходящие.
Удовлетворенный осмотром, Сендзин вывернул лампочки вокруг большого зеркала на стене. Теперь в комнате не было никаких источников света. Подумав, он ввернул одну из лампочек на старое место.
Когда Марико, та танцовщица, что была предметом внимания Сендзина, вошла в свою уборную, она увидела его сразу, но не поняла, что это такое, приняв за рисунок на одной из афиш и плакатов, развешанных по стенам: косой свет единственной лампочки бросал острые тени, и лицо его казалось плоским и нереальным, как вырезанный из бумаги силуэт.
Она думала о власти – той самой, которой обладала здесь и более нигде в ее скромной жизни. В этой загадочной власти скрывалась некая парадоксальность, но она терялась в догадках о том, что это такое и, еще важнее, как можно воспользоваться этой властью, чтобы подняться на более высокий уровень, нежели тот, которым ей приходилось довольствоваться ныне.
Однако надо бы овладеть искусством терпения. Надо бы, но, видно, теперь уж не суждено.
Сендзин отделился от тени, отбрасываемой дверью, которую Марико открыла, войдя в комнату. И вот он двинулся на нее, закрывая свет, угрожая поглотить ее всю, как будто он был злой стихией, хлынувшей на нее из теней этой комнаты.
Марико, все еще пораженная до глубины души тем, что человек с плаката ожил, открыла рот, чтобы закричать, но Сендзин захлопнул его ударом кулака. Девушка обмякла в его руках.
Сендзин утащил ее в угол и распахнул полы ее широкого одеяния. В руке его оказалось лезвие, нагретое теплом его тела. С помощью этого лезвия он начал аккуратно вырезать из ее одежды квадраты ткани по определенной системе. Затем сложил обрезки нужным ему образом.
Какое-то мгновение хмурый взгляд Сендзина изучал это роскошное тело, как бы для того, чтобы запечатлеть его в памяти. Потом он опустился перед ней на колени, завел ей руки за голову и связал кисти рук полоской белой ткани. Другой ее конец он обмотал вокруг стояка водяного отопления и крепко натянул, так что тело Марико оказалось как бы распятым.
После этого Сендзин достал такой же кусок ткани, один его конец обмотал вокруг собственного горла, а второй зацепил за стояк и крепко привязал, предварительно смерив глазами расстояние и найдя место, к которому привязать. Затем он расстегнул брюки и залез на нее, впрочем, без особого пыла и неистовства. Не так-то просто оказалось внедриться в нее, но боль, которую он при этом чувствовал, странным образом подстегивала его.
Наконец Сендзин задышал часто и порывисто, как дышали мужики в клубе во время номера Марико. Но он не чувствовал ни в своем теле, ни в теле Марико ничего похожего на чувственное волнение. Напротив, он ощущал себя, как обычно, пленником собственного сознания, и его мысли все вертелись и вертелись вокруг проклятого вопроса, как крысы в лабиринте.
Вспышки света и тьмы, жизни и смерти сплетались в его сознании и превращались в тошнотворно мелькающий фильм, который он знал назубок. В этом фильме – его вторая жизнь, как вторая кожа. Она дышит и существует сама по себе, поверх его обычной кожи, состоящей из плоти и крови.
Не в силах выносить образы и то, что они символизировали, Сендзин спустил ниже свое туловище и голову. Теперь с каждым движением его ритмично движущегося тела повязка на шее затягивалась все туже и туже.
Он уже приближался к завершению полового акта, и петля на шее, вызывая все больше и больше кислородное голодание, посылала по всему телу волны чувственного наслаждения, от которого низ живота и бедра налились свинцовой тяжестью.
Только находясь на волосок от смерти, Сендзин чувствовал, что живет полной жизнью. Только в такие моменты пространственно-временной континуум казался ему чем-то реальным, а не иллюзорным. Покой и уверенность можно обрести лишь балансируя на лезвии меча – вот на этой простой, но могучей идее строится Кшира – учение, которое исповедовал Сендзин. Когда ты на волоске от смерти, гласит это учение, нет ничего невозможного.
Человек взглянул в лицо смерти, – и реальность, в которой он жил прежде, разлетается на кусочки, и он автоматически начинает строить новую, причем часто на совершенно других основах. Эпифания – максимальное приближение восточного человека к христианскому понятию откровения – случилась в жизни Сендзина довольно рано и радикально изменила ее течение.
Уже почти умирая, Сендзин кончил. Мир растворился вокруг него, и он, припав к открытому рту Марико, вдыхал в себя ее аромат, уникальный у всякого человеческого существа. С жадностью, как зверь на водопое, он упивался ее дыханием.
Потом поднялся, распуская одной рукой кусок ткани, обмотанный вокруг горла, а другой механически застегивая ширинку. На лице его было какое-то пустое выражение, странным образом напоминающее выражение лица Марико, когда она, закончив номер, стояла лицом к зрителям.
Теперь, когда все кончилось, Сендзин чувствовал какую-то потерянность, острую депрессию, отдающуюся во всем теле, как физическая боль. Он понимал, что, возвращаясь с небес на землю, наверно, и невозможно чувствовать себя иначе.
В его руках опять появились острые лезвия, которые были его всегдашними спутниками, согреваясь током его теплой крови. То, что он прежде сделал с одеждой Марико, он теперь делал с ее кожей, разрезая ее на аккуратные квадраты, точными движениями художника проводя острой сталью вдоль и поперек этого тела, некогда роскошного, а теперь безвозвратно испоганенного. Занимаясь этим делом, он нараспев декламировал священные тексты. Его глаза превратились в узенькие щелочки, он раскачивался, как священнослужитель во время религиозного таинства.
Когда все было завершено, ни единая капля крови не попала ни на его руки, ни на одежду. Сендзин достал из внутреннего кармана листок бумаги и, окунув кончик лезвия в лужицу крови, собравшейся на полу, написал на нем: «ЭТО МОГЛА БЫ БЫТЬ ТВОЯ ЖЕНА». Хотя он двигал рукой довольно проворно, ему все-таки пришлось несколько раз обмакивать лезвие в кровь, прежде чем он закончил писать. Когда он дул на алые буквы, чтобы они скорее подсохли, его пальцы дрожали: вероятно, это была запоздалая реакция на пережитое волнение. Скатав бумагу в шарик, он засунул его в рот Марико.
Прежде чем уйти, Сендзин вымыл лезвия над маленькой раковиной, задумчиво смотря, как кровавые струйки растекаются по белым стенкам замысловатыми узорами, как на полотне художника-абстракциониста.
Он отрезал от трубы кусок материи, конец которого прежде стягивал его шею. Подошел к засаленному, грязному окну, открыл его, поднялся на подоконник. Через мгновение его и след уж простыл.
Пересаживаясь с автобуса на автобус, а с автобуса на метро, Сендзин добрался до центра Токио. В тени императорского дворца его поглотила толпа, освещенная сверкающим неоном со всех сторон. Он растворился в ней, став анонимным членом этого безликого сообщества, о чем всегда втайне мечтает каждый японец.
Сендзин шел пружинистой, исполненной скрытой силы плавной походкой танцора, но танцором он не был. Проходя мимо Национального театра на Хиабуса-чо, он остановился у афиши узнать, не идет ли там чего-нибудь интересного. В театр он ходил очень часто, имея особый интерес к эмоциям и способам, которые их можно вызывать искусственно. Он и актером мог бы быть, но не был.
Обогнув императорский дворец с юго-западной стороны и перейдя через окружающий его ров, Сендзин вышел на широкую авеню, Учибори-дори, в том месте, которое европейцы назвали бы площадью, но которому не было названия на японском языке. Пройдя мимо министерства транспорта, Сендзин оказался перед большим зданием, в котором размешалась полиция города Токио. Сейчас, как и обычно по ночам, в нем царили тишина и покой.
Десять минут спустя он уже углубился в бумаги, разложенные на его рабочем столе. Табличка на двери его крохотного кабинета гласила: «КАПИТАН СЕНДЗИН ОМУКЭ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ УБИЙСТВ».
* * *
Под ножом хирурга Николас Линкер уплыл в море памяти. Оторвав его от реальности, анестезия разрушила временные и пространственные барьеры, и Николас, как бог, был одновременно в разных точках этого безбрежного континуума.
События трехлетней давности обрели черты дня сегодняшнего, превратившись в каплю квинтэссенции жизни, очистившись от мелькания дней и времен года.
Вот стоит он там, протянув вперед руки, повернутые ладонями вверх.
– СМОТРЮ Я НА НИХ, ЖЮСТИНА, НА ЧТО ОНИ ЕЩЕ СПОСОБНЫ, КРОМЕ КАК НЕСТИ ЛЮДЯМ СМЕРТЬ И БОЛЬ?
Жюстина берет его руки в свои.
– ОНИ ЕЩЕ И ОЧЕНЬ НЕЖНЫЕ, НИК. КОГДА ОНИ ЛАСКАЮТ МЕНЯ, Я ТАК И ТАЮ ИЗНУТРИ.
Он качает головой.
– ЭТО СЛАБОЕ УТЕШЕНИЕ. Я НЕ МОГУ НЕ ДУМАТЬ О ТОМ, ЧТО ОНИ СОВЕРШИЛИ. Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ УБИВАТЬ. – Его голос дрожит. – НЕ ПОНИМАЮ, КАК Я МОГ!
– ТЫ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ УБИВАТЬ, НИК. ЭТО НЕ УБИЙСТВО, А САМОЗАЩИТА. ТАК БЫЛО И ТОГДА, КОГДА ТВОЙ ПОЛОУМНЫЙ КУЗЕН САЙГО ПРИШЕЛ ЗА НАШИМИ С ТОБОЙ ЖИЗНЯМИ. ТАК БЫЛО И ТОГДА, КОГДА ЕГО ЛЮБОВНИЦА АКИКО ПЫТАЛАСЬ СОБЛАЗНИТЬ И ПОГУБИТЬ ТЕБЯ.
– НУ, А ДО ТОГО, КОГДА Я СТАЛ ИЗУЧАТЬ БУДЗЮТСУ, САМУРАЙСКОЕ ИСКУССТВО БЫСТРОГО И ВЕРНОГО УБИЙСТВА, А ПОТОМ И НИНДЗЮТСУ, – РАЗВЕ Я НЕ ЗНАЛ, НА ЧТО ИДУ?
– КАК ТЫ САМ ДУМАЕШЬ: КАКОЙ ОТВЕТ МОГ БЫ УДОВЛЕТВОРИТЬ ТЕБЯ? – мягко спрашивает Жюстина.
– ВОТ ТО-ТО И ОНО! – кричит Николас в тоске. – ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ ЭТО!
– Я ДУМАЮ, ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ОТВЕТА НА ЭТОТ ВОПРОС НЕТ.
Заплывая все дальше в море памяти, он мучительно пытается найти ответ. Ведь должен же он быть! Почему я стал таким, каким стал?
Как вспышка света, внезапно раздается голос из далекого прошлого: ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ В БОЮ, НИКОЛАС, ТЫ ДОЛЖЕН ИЗВЕДАТЬ И ТЬМУ. Но сознание не желает мириться с таким объяснением, отвергая его сразу же.
Очами своей памяти он видит древний каменный сосуд для воды, что стоит во дворе его дома. Вот он берет бамбуковый ковш, чтобы набрать для Жюстины воды: ей хочется пить. Ковш чиркает о дно, потому что емкость почти пуста. Заглянув туда внутрь, Николас видит, что на дне сосуда вырезан японский иероглиф «мичи», что означает «путь», а также «странствие».
Его странствие из мира детства в школу, где изучается ниндзютсу. Как опрометчиво он поступил, бросившись очертя голову в эту тьму! Как глупо было подвергать свою душу такому моральному испытанию! Неужели он рассчитывал, что овладеет этим черным, этим страшным искусством без последствий для души? Бездумное, легкомысленное дитя бросает камень в кристально чистые, неподвижные воды лесного пруда и до глубины души поражается тому, как страшно изменяется поверхность воды. Вот только что она была чистая и незамутненная, отражала ясное небо и зелень леса, – и вот уже небо раскололось в ряби, идущей от места, куда упал камень. Отражение деревьев и неба колеблется, искажается и распадается, превращаясь в хаос. И там, в глубине пруда, потревожена и уходит в прибрежную тень таинственная и зловещая рыба.
Разве не так было, когда Николас решил изучать ниндзютсу?
Он плывет во времени, совершенно не ощущая его, и, вспомнив о «мичи», он вспомнил и о каменном сосуде, что стоял у его дома на северо-западной окраине Токио. Прежде этот сосуд принадлежал Итами, его тетке и матери Сайго. Когда ему угрожала смерть от рук Акико, она помогла ему, и именно тогда он стал звать ее Аха-сан, то есть матерью.
Итами любила Николаса, даже несмотря на то, что тот убил ее сына. А может, отчасти именно за это. Страшное это было дело, когда Сайго появился в Нью-Йорке, убил многих друзей Николаса и был очень близок к тому, чтобы добраться и до него самого.
– САЙГО – ВОПЛОЩЕННОЕ ЗЛО ЭТОГО МИРА, – говорила Итами. – ОН БЫЛ КРИСТАЛЬНО ЧИСТ В СВОЕМ ЗЛЕ, И ЧИСТОТА ЭТА, БУДЬ ОНА ОБРАЩЕНА НА ЧТО-ТО БОЛЕЕ ДОСТОЙНОЕ, БЫЛА БЫ ДОСТОЙНА ВОСХИЩЕНИЯ. Я ХОТЕЛА ЕГО СМЕРТИ. КАК ЖЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ? ВСЕ, К ЧЕМУ ОН ПРИБЛИЖАЛСЯ, БЫЛО ОБРЕЧЕНО НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ УВЯДАНИЕ И СМЕРТЬ. В НЕМ ЖИЛ ДУХ РАЗРУШЕНИЯ.
Если бы у его любовницы Акико была такая же натура, Николас бы неминуемо погиб. Но ее разрушительное пламя стало чадить и гаснуть, натолкнувшись на стойкий дух Николаса.
Верная заповеди Сайго, эта девушка, внешне похожая на Йокио – первую любовь Николаса – еще более усилила это сходство пластической операцией и пыталась погубить его, но помимо своей воли влюбилась, и Николас в конце концов встал перед мучительной дилеммой. С одной стороны, он понимал, что должен убить ее, чтобы спасти свою жизнь, а с другой – чувствовал, что это будет очень трудно сделать: она разбудила в нем сильное, опасное чувство.
Даже теперь, плывя в безбрежном пространстве-времени, он не мог точно сказать, чем бы все это кончилось, не вмешайся всемогущие боги. Землетрясение, уничтожившее весь северный район Токио, унесло и ее жизнь. Прямо на глазах Николаса разверзшаяся земля поглотила ее. Николас даже попытался броситься на помощь, но она исчезла во тьме, и земная кора сомкнулась над ее головой.
– УБИЙСТВОМ САЙГО, ТВОЕГО СЫНА, Я НЕ МОГУ ГОРДИТЬСЯ, – говорит он Итами, своей тетке.
– КОНЕЧНО, ОСОБО ГОРДИТЬСЯ ЗДЕСЬ НЕЧЕМ, – отвечает она. – НО ТЫ ВЫШЕЛ ИЗ ЭТОГО ИСПЫТАНИЯ С ЧЕСТЬЮ. ТЫ ИСТИННЫЙ СЫН СВОЕЙ МАТЕРИ.
Итами в момент этого разговора было уже восемьдесят лет. Пройдет всего час, и боги заберут Акико в свою обитель в центре земли. А через полгода умрет и сама Итами, и, рыдая на ее похоронах, Николас увидит, как летят по ветру лепестки отцветающей сакуры и как они падают на землю под ноги беззаботной детворе.
Тоска, в отличие от других эмоций, никогда не исчезает полностью, однажды поселившись в душе человека. И вот она гнетет Николаса, заставляет его вновь с ужасом прислушиваться ко все медленнее и медленнее бьющемуся сердечку его крошечной дочки, прозрачной и хрупкой, как драгоценная ваза эпохи Мин. Три страшные недели она тщетно пытается ухватиться за ускользающую жизнь, опутанная трубками с питательными жидкостями и кислородом, – и наконец тихо угасает.
Как на экране в кинотеатре, Николас с немой скорбью видит, как страдает Жюстина. Просто непостижимо, что человек может пролить столько слез. Месяц за месяцем проходит, но нет конца ее страданию, которое в конце концов разрастается до невероятных размеров, закрывая для нее весь мир.
А как мучается Николас? Нет, он не исходит слезами, как мать, выносившая дочь в своем теле и уже установившая с ней таинственные, незримые связи. Материнское горе может выйти со слезами, и мать может избавиться от него, как змея избавляется от старой кожи. Николасу тяжелее. Он не может плакать. Он видит сны.
Вот ему снится клубящийся туман, и он, потерянный в пространстве и времени, падает сквозь него. Чувствуя всеми клеточками своего тела притяжение земли, Николас знает, что он только что начал свое падение. И он знает, что падать ему предстоит еще долго и что он отдал бы все на свете, только бы закончилось это падение. Но оно не кончается. Он все падает, падает... И страшно кричит...
И просыпается, чувствуя прилипшую к телу рубашку, и уже не может снова уснуть. Так и лежит много ночей подряд без сна, облизывая потрескавшиеся, соленые губы, уставившись не то в потолок, не то в клубящийся туман.
Николас прибыл в Японию с отцом Жюстины, чтобы добиться слияния их фирм по производству процессоров для компьютеров с «Сато Интернэшнл». Теперь, чтобы хоть как-то отвлечься от горя, Николас с головой погружается в работу и ради нее остается в Японии после смерти Акико. Дьявольски трудное слияние фирм было успешно завершено, и теперь производство процессоров надо было согласовывать с «Сато Интернэшнл». Николас и Тандзан Нанги, директор образовавшегося конгломерата, становятся друзьями.
Вместе они разрабатывают процессор нового поколения под названием «Сфинкс Т-ПРАМ» – полностью программируемое запоминающее устройство с произвольным доступом к данным. Развитие компьютерной техники в этом направлении сулило захватывающие перспективы – и, соответственно, барыши. Открытием заинтересовалась фирма «Ай-Би-Эм», предлагая в обмен на секрет изготовления процессоров организовать лабораторию для изучения и развития идеи. И «Моторола» тоже предлагала выгодное партнерство. Но запатентованное ими устройство оказалось настолько уникальным, что никто из гигантов вычислительной техники не смог приблизиться к его производству.
И тогда Николас и Нанги решили действовать самостоятельно.
Жюстина отдалилась от него, замкнулась в своем горе, и Николас проводил все больше и больше времени в обществе Нанги, и работа так бы и шла, если бы не постоянные головные боли. Вернее, даже не сами боли, а скорее их причина – опухоль.
Хотя опухоль и оказалась доброкачественной, но она постоянно увеличивалась, и ее следовало удалить. И вот этот новый повод для беспокойства вывел Жюстину из собственного безысходного горя, в которое она погрузилась после смерти дочери. Обнаружив, что муж нуждается в ее помощи, Жюстина возвращается к жизни. Ожидая результатов анализов и самой операции, они вновь сближаются. Но Жюстина бережется: она все еще психологически не готова к беременности.
Под действием наркоза у Николаса возникает странное ощущение, будто он идет в мягких тапочках по бесконечному ковру в никуда. В этом смысле анестезия похожа на саму жизнь, о которой древние говорили, что она есть не что иное, как путь-дорога. «Мичи».
Николас вновь видит ангельское личико своей дочери, которая вновь оживает в театре его памяти. И ему страшно хочется свернуть с дороги. Впервые в жизни он хочет изменить свою карму. Раньше она гнула его судьбу, как ольховый посох. Теперь он хотел бы переломить этот посох пополам, приспособить его к своим собственным желаниям.
Вот чего желает его сердце, и он пытается схватить и удержать дух своей умершей дочери и изучить короткие дни ее жизни с таким же вниманием и самозабвением, с которым он наблюдал за сокращениями ее медленно бьющегося сердца. Собрать эти дни, как нежные лепестки опавшей сакуры, и узнать, что вселяло в нее силу, что заставляло плакать и смеяться.
Но ведь это невозможно. Даже сейчас, когда он, как бог, плыл в пространстве-времени, ее дни прошли сквозь его дрожащие пальцы, как песок, и отлетели в сердце пустыни. И вот наконец, имея свидетелем только себя самого, он смог сделать то, что был не в состоянии делать все эти долгие три года.
Он заплакал, и горькие слезы по увядшей дочери все лились и лились...
Он очнулся, ощущая вокруг себя такую ослепительную белизну, будто вокруг были клубы белого тумана, сквозь который он сейчас начнет опять падать, как камень в бездонный колодец. И кровь его застыла в жилах, и закричал он так страшно, что медсестры со всех ног бросились к нему, поскрипывая по натертому линолеуму пола своими туфельками с резиновой подошвой. От этого крика проснулась Жюстина, которая уснула у его кровати, держа мужа за руку. Подсознательно она держала руку Николаса так, чтобы ее большой палец касался его пульса: так она держала руку обреченной дочери, прислушиваясь к слабым сокращениям тоненькой голубой вены, по которой все медленнее и медленнее текла кровь.