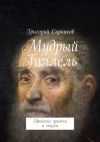Читать книгу "Эстер. Повесть о раскрытии еврейской души"

Автор книги: Эстер Кей
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
6. Я, папа и мировая политика
У нас с папой было очень много общих интересов. Зимой мы вместе катались на коньках, летом ловили рыбу, осенью жгли садовую листву и распиливали дрова старенькой пилой, из-под которой разлеталась пахучая стружка… И восприятие мира у нас было схожее: мы так любили и умели (ведь не все умеют!) дышать свежим воздухом, так различали небесные оттенки вечерней и утренней зари, так трепетно прислушивались на берегу лимана в палатке к разным чудесным звукам ночи… то сова ухнет, то рыбка плеснет, то лягушка квакнет, то электричка на железной дороге громыхнет… а потом слышны лишь сверчки да соловушки… тишь, благодать кругом!
А в декабре, пока снег еще не успеет припорошить ледяную гладь, каково скользить на рассекающих лезвиях по озеру! Мы с папой катаемся, а Чомбик, щенок-овчарка, гоняется за нами с громким лаем, умоляет нас не подвергать себя опасности. Чомбик, не волнуйся, лед же толстый! Да какой гладкий, зеленоватый, волшебный! Просто взмываешь на крыльях, расстояния улетучиваются, и все огромное озеро пересекается нами из конца в конец за пару минут… На одном берегу озера стоят здания с большими неоновыми буквами Народ и партия едины, которые ярко вырисовываются на фоне вечернего неба, а на противоположном берегу золотится монастырский купол, вот и гоняешь туда-сюда, от монастыря – к партии и народу, которые едины, а потом от партии и народа – обратно к (разумеется, заколоченному) монастырю… Из года в год повторялось в нашей семье таинство изготовления виноградного вина, это тоже было нашим с папой общим делом. Давили осенью на даче мелкий виноград сорта изабелла, смешивали со всякой всячиной и погружали в огромные стеклянные сосуды, в которые вставлялись резиновые трубочки. Там жидкость точно вскипала – булькала, бродила… В декабре холодные бидоны с готовым вином ставились на чердак, и после дегустации слезть с чердака по приставной деревянной лестнице надо было уметь. Потому что голова кружилась от вкуснейшего вина, а зубы и губы, прикасавшиеся к краям обледенелого алюминиевого бидона, ломило от холода.
Еще у нас было увлекательное занятие, заполнявшее ненастные вечера: проявка фотоснимков. Что за магические слова – штатив, проявитель, закрепитель, не говоря уж о специальной красной лампе, о выключенном свете, о трепетном счете вслух, когда держишь фотобумагу на штативе! Один (не раз, это слишком коротко, а именно один) …два, три… двадцать… готово! Что за специфические запахи химикатов, сопутствующие чудесному выявлению черно-серых контуров, силуэтов и, наконец, лиц на абсолютно белом до того листе фотобумаги! Вот, глядишь, появились очертания двора, а вот и наш щенок, и уже видно не только голову, туловище и хвост, а даже умильное выражение довольной чомбиковской мордочки. А вот дедушка в валенках и тулупе, занятый растопкой печи, и тут же, под боком – я, подаю ему чурбаки-дровишки, любуюсь пляской огня за заслонкой.
Готовые фотоснимки мы налепляли на стекла окон, чтобы, во-первых, они не скручивались, а во-вторых, чтоб высыхали – ведь из закрепителя вынимаешь их мокрыми и липкими. Высохнув, фотокарточки сами слетали со стекла на письменный стол.
…А еще иногда по вечерам мы с папой включали старенькое радио и ловили заглушаемые помехами свободные заокеанские радиостанции.
Делали мы это не из злостного антисоветизма, а просто потому, что на шкале громоздкого радиоприемника было написано много названий столиц и городов мира и звучали они так маняще – Париж, Мельбурн, Калькутта, но в то же время нам нельзя было даже мечтать о том, чтобы когда-либо все эти места увидеть. Разве что по телевизору, в 40-минутной передаче Клуб кинопутешествий, которая бывала раз в неделю и в основном показывала тяжкую жизнь каких-нибудь никарагуанских крестьян, занятых обработкой сахарного тростника.
Но вот пришел день, когда, подсоединив какие-то особые проволочки к внутренней стенке приемника, папа научился среди треска, шума, непонятных какофоний ловить русскоязычные передачи – в частности, одну, именовавшую себя Радиостанцией Свобода.
Что за свобода имелась в виду и как вообще можно было быть свободнее нас, советских граждан, мы с папой не очень понимали. Однако все-таки приникли к мембране пыльного радиоприемника и отведали запретного плода.
Запретный плод, впрочем, оказался совсем невкусным.
Голоса дикторов были какие-то неприятные, недобрые, да и стиль передач казался чуждым. Информативная сторона была весьма однообразна, малоинтересна. Зато как глушили их советские глушители! Это яростное глушение весьма способствовало тому, чтобы пробудить мое любопытство к подобным передачам… Странно было слышать критику в адрес вроде бы незыблемого советского строя, иронию и осуждение тоталитаризма. Этого осуждения ведь не могло прозвучать внутри страны! Да мы и не знали, что в глазах Запада мы – тоталитарная страна. Когда мне было лет десять, я разметила все страны на большой настенной карте мира – какая страна за нас, за коммунизм и светлое будущее, а какая – оплот реакции. Я была очень рада, когда к нашим, прогрессивным силам прибавилась Эфиопия. А потом Кампучия. А потом Афганистан. Это было мирное завоевание планеты, которая, казалось, скоро уже вся покроется алыми флагами, белыми голубями и транспарантами Да здравствует коммунизм! Только вот толстопузая Америка и некоторые близорукие правительства Европы еще пока противятся этому историческому процессу. А есть страны – ни то, ни се, как, например, Швейцария. И Антарктика, к моему разочарованию, пока еще не была нашей. Следовало бы, по моему мнению, приобщить к процессу мирного коммунистического завоевания также и пингвинов, и белых медведей.
Став постарше, я услышала от взрослых всякие анекдоты о тупых престарелых вождях советской державы. На каком-то этапе эти анектоды, проникнутые инакомыслием (сталинский термин), перестали быть подпольными, и люди уже не боялись их рассказывать.
Но когда критика в адрес общественного строя звучит по радио, с международной трибуны, – это гораздо серьезнее, чем какие-то анекдоты.
– Пап, – спрашивала я с удивлением, – это они все врут? Мы же самые прогрессивные! Это они от зависти на нас клевещут, да?
Отец отвечал мне, что не все следует воспринимать всерьез. И наше радио, и антисоветское – предвзяты. Выводы делать надо самостоятельно и при этом, конечно же, не плевать в колодец, из которого пьешь, то есть не высмеивать собственную страну.
Вскоре после того, как Циклоп раскрыл мне происхождение моей мамы, я поймала по радио передачу Коль Исраэль и с бьющимся сердцем услышала язык иврит и еврейскую музыку. Где он на карте-то, этот крошечный Израиль, прозванный советской прессой ближневосточным агрессором? Его и найти-то, что иголку в стоге сена. Когда же я его отыскала, то решила его до поры до времени никак не помечать – ни нашим, ни оплотом реакции. Ведь говорит же папа, что выводы надо делать самостоятельно. Вот я и разберусь с ним как-нибудь, с этим Израилем. Потому что название ближневосточный агрессор ни в коей мере не исчерпывает внутреннего содержания этой таинственной страны, от одного имени которого – И 3 Р А И Л Ь – я почему-то впадаю в задумчивую тоску.
…Однажды осенью, водворяя на чердак тяжелые бидоны с вином, я не сразу слезла по лестнице вниз, а решила покопаться в чердачной пыли и извлечь из нее стопку старых-престарых газет – кажется, хрущевского времени. И, к своему удивлению, наткнулась в этих газетах на очень даже положительные статьи о социалистическом Израиле и на портреты Голды (опять Голда) Меир и других общественных деятелей! О небо, даже колхозы там упоминались, только именовались они кибуцами!
А в свежих газетах, которые мы регулярно получаем, Израиль иначе как агрессором и хищником не называется. Интересно, почему?
Еврейская страна… Кто они такие, эти загадочные евреи? Рога у них, что ли, растут – почему отношение к ним столь подозрительное, недоверчивое? Но у мамы нет никаких рогов! И у ее матери, бабы Муси, тоже не помнится мне, чтобы были рога. И у тети Милы, маминой сестры, которая живет в Москве, тоже нет: я с мамой и папой не раз гостила у тети, и она водила нас на ВДНХ, и вообще она очень хорошая.
Может, расспросить об этом саму маму?
Нет, нет, только не это!
Странными были устои нашего демократического и вроде бы покончившего с национализмом общества, если спросить человека насчет его еврейства мне казалось столь же неприличным и бестактным, как поинтересоваться наличием у него рогов…
7. Упавшая звезда Давида
Жизнь вернулась так же беспричинно,
как когда-то странно прервалась…
Б. Л. Пастернак
Прошло несколько лет, пока я решила последовать совету Циклопа и спросить все, что меня интересовало, у евреев, которые, по его насмешливому выражению, самые умные.
Был хмурый декабрьский вечер 1986 года, когда я прошла мимо Центрального ростовского рынка, разыскивая синагогу. Прохожие, к моему удивлению, добросовестно и подробно объяснили мне дорогу. Может быть, это были не прохожие, а переодетые ангелы… Я дошла до Газетного переулка, 17, и моему взору вдруг предстало угловое старинное здание с узором шестиугольных звезд на оконных решетках. Чувство узнавания – дэжа вю – пронзило меня и прохватило до слез. Я схватилась за дверную ручку, как будто за мной кто-то гнался.
За дверью был проход в зал. Однако нижний зал был закрыт, и мне оставалось лишь проследовать по лестнице наверх.
В холодном верхнем зале сидело шестеро старичков в пальто и шляпах, с глазами покорными и грустными, которые несли в себе вечность.
– Вы молитесь? – спросила я одного из них.
– Миньяна нету, – отвечал он, покашляв. – А что делает здесь барышня?
– Миньян – это что? – спросила я.
– Десять евреев надо, а где их взять, – ворчливо объяснил он.
– А что вы пишете? – не отставала я.
– Уборщица выбросила поминальный список, так я его восстанавливаю.
Он писал имена по-еврейски, а рядом – по-русски. Я взглянула на его записи, что-то очень знакомое показалось мне в одном из имен.
Эстер бас Голда, – прочла я вслух, – а знаете, моя мама тоже Голда. А что это – бас?
– Дочка, дочка, а тохтэр, – сказал подошедший к нам старичок. В руках у него была старинная, ветхая книга.
– Я бы хотела выучить еврейские буквы, – обратилась я к нему при виде книги. – А еще… у меня есть вопрос. Какой сейчас год? То есть я, конечно, и сама знаю, какой, но я спрашиваю – какой сейчас год ПО-НАСТОЯЩЕМУ?
– Какие странные пошли барышни, – удивился старичок, – вместо того, чтобы ходить на танцы с кавалерами, они ходят в синагогу и спрашивают, какой год. А какой год идет вам, девушка?
– Мне? Шестнадцатый.
– Ну, так надо вам найти жениха. Гершл, сколько лет твоему племяннику? – обратился он к писавшему.
– Не надо мне никого искать! – запротестовала я. – Я сначала в университет поступлю.
– В университет? А, ну тогда, конечно, не стоит. А для чего вам надо знать, какой у нас год? Это в университете требуют?
Я запуталась и замялась.
– Пять тысяч семьсот сорок седьмой, – решил пожалеть меня дедуля.
– А почему, – робко спросила я, – все считают, что 1986-й?
Старички переглянулись.
– Это от рождения одного бедного еврейчика, от которого пошло христианство. Нейбох!
…Слишком много новых впечатлений для меня за один раз. Я ищу повод откланяться, опасаясь, что разговор о сватовстве возобновится. Обвожу взглядом пыльный зал с тусклой люстрой, узорчатым высоким потолком и бархатными покрывалами на шкафах и столах. Шестиугольные звезды, вышитые на покрывалах, говорят мне многое. В ушах у меня стоит: Эстер бас Голда, 5747 год, миньян – это десять евреев. А что такое ней-бох? Это, наверное, означает, что основатель христианства – не бог… Я выхожу на улицу, обычную советскую улицу. Пьяницы бродят возле рынка, машины хлещут грязь, автобусы набиты битком. Я еду в автобусе, а внутри меня – синагога.
Возвращаясь мыслями к теме еврейства, я еще некоторое время после того колебалась, заговорить ли об этом с мамой. И решила, что не буду травмировать ее и свою психику. Надо быть выше национального вопроса! В нашей стране все – советские люди. И родители – они просто родители, абсолютно не важно, какой они нации!
Ну, а кто же в таком случае я?
А я, скажем, интересующаяся еврейством. Читающая Шолом-Алейхема и очень не равнодушная к имени Эстер. Ничуть не похожая на еврейку, кудрявая светлокожая девушка, которая пока что в духовном плане точно пластилин: какой ее жизнь вылепит, такой она и будет.
…Я снова и снова пыталась убедить себя: какая разница, что у мамы еврейские корни?! Это никого не волнует! Это меня ни к чему не обязывает! В паспорте мне напишут русская – а значит, я вполне нормальная гражданка.
Брат и сестра были настолько старше меня и настолько уже заняты своими, взрослыми, проблемами, что к ним я с подобными вопросами не могла обратиться. Кроме того, у Вали в жизни все было так разумно, взвешенно, сухо-правильно, а у Вовы – буйно и пьяно, что мне и по более простым проблемам не удавалось найти общего языка ни с братом, ни с сестрой… Я для них как была, так и оставалась малышкой.
А папе вообще лучше не знать, что мама на самом деле не Галина, а Голда. Ведь мама (так я решила) наверняка тщательно скрывает от него (и от всех) свою неудачную национальность, иначе зачем бы Циклоп поведал мне о ней с такой злорадной ухмылкой… В альбоме с семейными фотографиями я отыскала снимок дедушки с маминой стороны, о котором я знала совсем немного: что он был ленинградец и что скончался в 26 лет от туберкулеза. На фотографии был изображен человек с чистым, кристально-прозрачным взглядом больших глаз, с прямым и тонким, как клинок, носом, с тонкими и правильными губами, с общим выражением интеллигентности и хрупкости во всем облике. Эта фотография и послужила толчком к разговору, который все же состоялся у меня с мамой.
– Мам, я совсем не знаю, какой он был, твой отец. Он был еврей, да? И бабушка Муся тоже? Мам, я давно хотела тебя спросить: ты что, действительно еврейка? Только не обижайся! Я просто твой паспорт однажды раскрыла, и…А что это за имя такое – Голда?
Мама как стояла со сковородкой (первый блин комом), так и осталась держать ее, шипящую маслом, в руке, покамест я плавно и тихо обосновывала свою просьбу. Нет, меня не дразнят никакие антисемиты. Нет, никто меня не обижал. Я просто спрашиваю. Понимаешь, просто? Я уже и в синагоге побывала. Что ты так вздрогнула? Я видела еврейские буквы! Они очень красивые. Мам, ну пожалуйста, перестань от меня скрывать!
Мама неловко перевернула скомканный блин. Потом послушно поведала мне про всех моих дедушек и бабушек и прочих родственников, только ни словом не упомянула ни про репрессированных Сталиным, ни про закопанных живьем в землю немцами. Все они, по ее словам, просто как-то так сами по себе тихо и мирно скончались от самых разных человеческих недугов. (Это, я поняла годы спустя, мама оберегала таким образом мою подростковую эмоциональную сферу, чтобы не заставлять меня вступать в конфликт с окружающей средой). А по поводу еврейских имен своих родителей мама просто пояснила, что, конечно, есть у евреев свои особые имена, но в наше время лучше пользоваться именами общепринятыми, обыкновенными, не выпячивать своей национальности. К тому же, осторожно добавила она, евреев обычно считают богатыми и хитрыми, поэтому лучше всего вообще не открывать никому своей, пусть даже частичной, принадлежности к данной нации… А то, понимаешь, в университет могут не принять… Ну, не то чтобы совсем не принять, а… как бы это выразиться… не совсем охотно зачислить!
К концу этого разговора мама заметно устала от прикладываемых ею дипломатических усилий, и я решила больше ее не расспрашивать.
8. Подготовка к университету
Наступил долгожданный (казавшийся издали волшебным, как голубой зигзаг светозарной горы) рубеж – шестнадцать лет. В прошлое уходят увлечения детства: каток, велосипед, божки в храме. Через год – выпускные экзамены. Я усердно конспектирую учебники по истории СССР и компартии, штудирую грамматику русского, английского и немецкого языков, упражняюсь в написании сочинений на темы Горький – буревестник революции, Как закалялась сталь и тому подобное. Сосредоточение дается не легко, особенно если принять во внимание, что у моей сестры – пора волнений и любви, она уже шьет себе свадебное платье, а жених приносит ей то кассеты с ее любимой эстрадной музыкой, то распечатки по йоге, самосовершенствованию и отношениям полов… Я быстренько тайком приобщаюсь к этим сокровищам мировой культуры, после чтения у меня на многое раскрываются глаза, и я начинаю ощущать, что быть шестнадцатилетней девушкой в каком-то смысле… опасно.
Свадьба сестры совершается в ЗАГСе под благосклонными взглядами государственных служащих. Солидно ставятся росписи под брачным обязательством, и немноголюдная процессия движется к выходу из зала по ковровой дорожке. Я глупо ухмыляюсь – неужто это и вся процедура? Мне скучно от загсовой атмосферы и обидно за сестру, что она всего лишь выходит замуж, а не… скажем, увезена в дальние страны на корабле с алыми парусами.
Но оставим алые паруса. Надвигающиеся выпускные экзамены – немалая нагрузка на нервную систему. Все мысли переключаются на то, как бы успеть переписать, дополнить, выучиться, разобраться… Однако сдать выпускные экзамены – это еще не все, что требуется. Оказывается, чтобы поступить в университет на желанный факультет журналистики, надо после школы целый год проработать в газете в качестве внештатного корреспондента!
Обветшалый фасад советского строя к тому времени трижды сотрясен смертями престарелых вождей, и в нашей семье уже можно услышать анекдоты, которые бы раньше не прозвучали.
Особенно смел и инакомыслящ новый член нашей семьи – супруг моей сестры Вали. Он то и дело откалывает шуточки, окончательно подкашивающие мои социалистические воззрения. Однако программа школы и вузов по-прежнему застойная, и посему мои сочинения и конспекты носят весьма лицемерный характер.
Оценки выпускных экзаменов, в результате, прекрасные, и мама предлагает на семейное обсуждение идею, не отправить ли меня на учебу в Москву. У нее ведь там родная сестра, моя тетя Мила, что существенно облегчит мне пребывание одной в столь огромном городе. А поступить можно будет попытаться в университет имени Ломоносова, МГУ, и я сама приеду в Москву, подобно молодому талантливому провинциалу – Ломоносову!
…Но все это, конечно, лишь после того, как мною будет отработан целый год в редакции местной газеты Вечерний Ростов. Папе этот план нравится, а я и вовсе в восторге. Я получаю аттестат зрелости и немедленно отыскиваю редакцию, чтобы начать выполнять журналистские задания. Меня там принимают с удивлением (молодая, зеленая), но вскоре облекают доверием и посылают на пробу пера.
Там, в редакции, в прокуренных ее кабинетах и коридорах, я впервые вращаюсь в так называемой интеллектуальной среде, в атмосфере идей, пусть и не самых гениальных, но все же поднимающих человека на уровень творческого мышления.
Подражая окружающим, я начинаю покуривать сигареты в компании остроумных молодых журналистов, усваиваю себе легкость их суждений и свойственную представителям этой профессии нагловатость… От моего внимания не ускользнул тот факт, что те же люди, которые в кулуарах позволяли себе смелые и острые антисоветские высказывания, тщательно вытравляли все живое и талантливое из собственных газетных материалов. Газете полагалось выходить в свет безжизненной, штампованной, убогой и однообразной.
Поручения мне давали нехитрые – то спортсменку местную проинтервьюировать, то об ударных рабочих завода написать, то зарисовку о спектакле драмтеатра измыслить.
Лирику, какую я в эти сухие материалы привносила, обычно при редактировании вычеркивали, и под такой безликой заметкой даже не хотелось видеть свое имя. Только пару раз, когда я писала о своем любимом фигурном катании, у корректора не поднялась рука обрабатывать материал, и он прошел как был – полный сверкания льда, пышности театрального действа и драматизма чемпионских страстей.
Работавший в газете 30-летний фотограф, еврей, почему-то (почему-то?) принимал и меня за еврейку и очень хорошо ко мне относился. До такой степени хорошо, что чуть ли не при каждой деловой встрече вручал мне профессиональные снимки, на которых я была изображена в самом лучшем для моей внешности свете. А, кроме того, со всей душой оформлял к моим публикациям необходимые фотоматериалы. Однажды он сказал:
– Слушай, зачем ты балуешься сигаретами? Тебе это не идет! Неужели ты хочешь стать такой же, как все эти высохшие репортерши и корректорши, от которых несет табаком? Мне просто жалко смотреть, как милое, молодое существо себя губит!
Когда год закончился, фотограф решил со мной поговорить более откровенно о своих чувствах. Ты, – сказал он, – человек очень нравственный. Поэтому я и весь этот год не смел, и теперь тоже не смею предложить тебе выйти за меня замуж. Я – старый прожженный фоторепортер, – констатировал он, – Мы не подходим. Он действительно казался мне очень старым, ведь тридцать лет – это страшно много… Вы так здорово мне помогли, – говорю я смущенно, – вы совершенно избавили меня от комплекса неполноценности. Когда я училась в школе, то все время чувствовала себя непривлекательной, заумной, никому не нужной вундеркиндихой. А теперь, благодаря вам, я знаю, что во мне что-то есть….
Да, несомненно, в тебе что-то есть, – уходя, говорит он с присущей нашему народу печалью. Нашему народу? Какому это нашему народу? Еврейскому, что ли?
…Да, к тому времени я уже так начиталась Шолом-Алейхема, что воспринимала описываемый им еврейский народ почти как свой. Однако не имела никакого представления о реальных, современных евреях, кроме тех, которые были в моей жизни. К ним относились моя мама, умненький Кантор, старички в синагоге, и теперь еще этот влюбленный фотограф.
Тайна еврейских глаз не была мной разгадана, зато шаблонный образ жида-ростовщика из классической литературы окончательно померк, и старая, обывательская позиция по отношению к евреям уже казалась мне смешной. К тому же муж моей сестры однажды совершенно серьезно заявил, что огромный процент мировых гениев – это именно евреи! Теперь мне даже нравилось, что происхождение моей мамы столь таинственно, и я могла в какой-то мере вжиться в образ иудейки, все больше увлекаясь романтикой магических слов: Звезда Давида, Гнет изгнанья, Дщерь Сиона… Завершается год журналистской практики, и я иду к главному редактору с тем, чтобы показать ему все свои публикации и получить желанную Характеристику-рекомендацию, необходимую для поступления в университет. В этом документе мне написали, что у меня изумительное чувство стиля, и с такой характеристикой было не стыдно ехать в Москву.
Я попрощалась с бабушкой и дедушкой, неловко увернулась от Вовкиного поцелуя, слегка алкогольного, но искреннего, получила мудрые наставления сестры Вали и насмешливые советы ее мужа, после чего обвела взглядом пианино, гостиную с балконом, на котором теперь будет меня ждать мой велосипед, вздохнула и вместе с папой и мамой вышла из дому, ощущая запах жасмина, наполнявший наш двор в эту июньскую пору.
…В поезде устраиваюсь было на верхней полке, но заснуть не дают разговоры в смежном купе. Аморальная проводница плацкартного вагона и горячие грузины спорят о чем-то насущно-важном для них. Наконец проводница соглашается. Они веселятся всю ночь, пьют, гуляют. Я обиженно слоняюсь по коридору в джинсах и рубахе. Обида двойная: во-первых, почему не дают спать, а во-вторых, если уж пристают, то почему, скажем, не ко мне?
Если бы я в то время знала Песнь песней Соломонову, то подумала бы такой строчкой: Не будите любовь, девы иерусалимские, не будите любовь, доколе она не придет сама…. А впрочем, я-таки знала эту строчку. Но не из оригинала, не из еврейской святой книги, а из повести Куприна Суламифь…