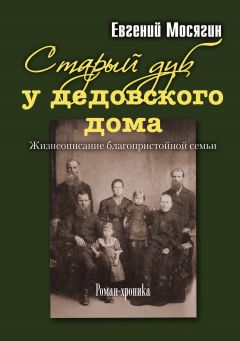
Автор книги: Евгений Мосягин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
За Пригородным догорает закат, на улице начинаются сумерки, кое-где в домах загорается свет, на лавочках собираются женщины. Наш сосед Митька подоил корову и понес крынку молока Титу Григорьевичу. Пробежала через дорогу к Маше Юрченихе Анна Савельевна, попутно переругнувшись с попавшейся ей навстречу Фросей Масаровой, ее постоянной оппоненткой по разным общественным и социально-бытовым вопросам.
Из городского сада доносится приглушенная расстоянием музыка духового оркестра.
На дороге показался извозчик. Это Федор Волков на своем красивом фаэтоне везет Епископа. Этого человека, имеющего явно высокий духовный сан, все называют Епископом, хотя у него могло быть совсем другое духовное звание. В Новозыбкове одно время он бывал часто и снимал квартиру на нашей улице ближе к ее окраине, кажется, у Кублицких. Высокий, стройный пожилой мужчина в длинной черной одежде, он часто ходил мимо нашего дома. А иногда ездил на извозчике. В таких случаях мы с Федей бежали ему навстречу. Епископ просил Волкова остановиться, помогал нам забраться в фаэтон, и мы ехали с ним до его квартиры. Доехав до дома, где квартировал Епископ, мы благодарили его и бежали домой довольные, что удалось прокатиться на фаэтоне, да еще с такой важной особой. Мама всегда нас удерживала от нашей настырности, но не так, чтобы уж очень категорично, ей все-таки нравилось, что ее детям оказывает внимание такой непростой человек. Мы с Федей тоже чувствуем, что поступаем не совсем правильно, но Епископ так доброжелателен и так приветлив, что чувство неловкости само собой как-то сглаживается.
За Пригородным гаснет закат, и верхушки деревьев сливаются с потемневшим небом. Пустеет улица, на город опускается ночь. На Шеломовской улице тихо и темно, не светится даже маленькое окошко Моргуновой хаты.
Утренний свет
Семья наша окончательно сформировалась к 1928 году. Четверо детей было у моих родителей к этому времени: Леня, Федя, я и сестра Вера. Эта, долгожданная отцом, девочка была последним ребенком в нашей семье. Отец работал один. Мама вела хозяйство, занималась детьми и кое-что шила из одежды на заказ для соседей, зарабатывая тем самым далеко не лишнюю копейку в наш семейный бюджет. Это было сравнительно благополучное время. НЭП заканчивался, но еще не грянул «великий перелом», ввергнувший российский народ в пучину бедствий, горя и нищеты.
Я очень бережно храню не столько в памяти ума, сколько в памяти сердца те недолгие благополучные годы жизни нашей семьи, которые так страшно и так бесчеловечно оборвались ужасом голода 1932-33-го годов. Великой милостью судьбы и Божьего благословения я считаю то, что первые мои впечатления в этом мире все-таки были наполнены ощущением добра, тепла и благополучия родительского крова. Мое раннее детство пришлось на такие годы, когда усилиями порядочных людей еще держались последние признаки благопристойной жизни, хотя бы в семейных условиях, вопреки бесчеловечному государственному устройству России.
С какого времени от роду человек может помнить свою жизнь? Где-то я читал, что, в основном большинстве, с четырех-пяти лет. Лев Николаевич приводит удивительный пример воспоминаний о своем очень раннем младенчестве. У меня с этим вопросом полный ералаш и сумятица. Странное дело, но у меня есть убеждение, что я сохранил память о таком событии, которое происходило так давно, что по малости своих лет я никоим образом не должен о нем помнить. Я понимаю, что рассказы старших братьев и родителей могли наложиться на неосознанные лично мои впечатления и превратиться с течением времени в подобие моих собственных воспоминаний. Это вполне вероятно. Но вот странно, что в памяти живут такие подробности происходящего, какие могли быть замечены только мной и о которых никто не стал бы упоминать в своих поздних рассказах.
Вот как все было.
Федю и меня не пускали в спальню, где лежала, как нам сказали, заболевшая мама, и мы толклись то в кухне, то во дворе. День был теплый, было утро и солнце светило в дворовые окна нашего дома. Таня посидела в спальне вместе с мамой, потом быстро куда-то ушла. Через какое-то время к нашему дому подъехал на извозчике наш отец с Таней и незнакомой женщиной в белом халате. Я очень хорошо видел в открытую калитку гнедую лошадь, запряженную в фаэтон, видел озабоченного отца и женщину-врача с маленьким чемоданчиком в руке.
Они ушли в спальню к маме. Мы с Федей пристроились к окошку и пытались что-нибудь подсмотреть, но окно изнутри было завешено занавеской. Помню состояние какой-то особой занятости, проявляющейся в поведении взрослых, и необычность того, что на нас с Федей никто не обращал внимания. У Феди в руках был «монах» – простая палка с привязанным к ней шпагатом свернутым углом куском бумаги. В иных случаях эта штука занимала, и мы бегали с ней, стараясь, чтобы надуваясь воздухом «монах» повыше взлетал. Но в то памятное утро наш «монах» не вызывал у нас интереса и спокойно болтался на палке. Я помню, что солнце светило в кухонные окна, что означало утреннее время. Так оно и было.
Ничего особенного во всем этом не было, но дело в том, что в этот день родилась наша младшая сестра Вера, а мне в то время не было еще и трех лет.
Конечно же, все эти мои «воспоминания» образовались из поздних рассказов участников знаменательного события.
Вообще, писать о раннем детстве, воссоздавая мир таким, как он воспринимался ребенком – дело непростое. Здесь все из области ощущений, почти недоступных для пересказа, без невольного их искажения. Слово имеет определенное значение, а неточно поставленное в строку, оно или само по себе, или вместе с другими словами может выразить или воссоздать совершенно иные впечатления, чем те, которые испытывал ребенок в определенных случаях.
* * *
Жизнь нашей семьи складывалась самым примерным образом. Мы жили в собственном доме, имели небольшой, но хорошо обустроенный участок земли. В нашем хозяйстве имелось все, необходимое для нормальной жизни. Отец работал, мама растила детей и вела хозяйство в семье и доме. Таня к этому времени окончательно отделилась от нас и жила с дедом на положении молодой хозяйки. Если случались какие затруднения в Танином обиходе, мама приходила ей на помощь. Иногда маме приходилось выговаривать Тане за нерадивость, но, учитывая ее молодые годы, она не проявляла особой строгости. Дед, хотя к старости и становился строптивым, с внучкой как-то уживался и ладил с ней. Таня как-то рассказывала – не мне, разумеется, но я слышал:
– Когда у меня первый раз пошли месячные, я испугалась, прибежала из уборной в хату, ищу деда, а он в саду был. Нашла его и кричу: «Деда, из меня кишки вылезают! Кровь уже идет!». Дед испугался, побежал вместе со мной к дому, а потом уже во дворе спрашивает: «Откуда у тебя кровь идет и кишки лезут?». Я ему говорю, что пошла в уборную, а из меня кровь как польет. Дед хмыкнул, дал мне чистую тряпочку и говорит: «Подложи и сиди тихо, не бегай никуда, а лучше полежи». А сам помолился на иконы и пошел за мамой. Идет и ворчит: «Вот дура, прости, Господи, и помилуй».
Лет двадцати или около того Таня вышла замуж. С этого времени началось непонятное отчуждение между нашими семьями. Наверное, так поставил Танин муж, несговорчивый и амбициозный молодой человек. Может, его беспокоила экспансия подрастающих сводных братьев своей жены или сыграл роль какой-нибудь инцидент межсоседских отношений, но он первый поставил вопрос об официальном оформлении раздела имущества Василия Николаевича. Наши родители в первые годы вселения в маленький домик не полностью расплатились с дедом и за дом и за землю, хотя мама и продала в то время все ценное, что досталось ей от отцовского наследия. Василий Николаевич с долгом не торопил, и родители мои жили с ним рядом по-добрососедски, без взаимных претензий, но официального документа на куплю продажу части дедовского владения не было составлено. По настоянию Таниного мужа в нотариальной конторе была оформлена актовая гербовая бумага, содержащая сведения, из которых становилось ясно, что «…Василий Николаевич Кудрявцев продал Ивану Васильевичу и Татьяне Федоровне Ковалевым и Потапу Ефимовичу Мосягину принадлежащие на правах собственности, ему, Василию Николаевичу, постройки, а именно…» и т. д. Таким образом, границы наших и Таниных с ее мужем владений строго и документально определились. Я читал старинную казенную бумагу и для меня в ее содержании кое-что казалось странным. То, что узаконилась принадлежность маленького домика с небольшим участком земли моим родителям, это было справедливо и соответствовало действительности. Но вызывало недоумение то, что старый дом и большую усадьбу с постройками дед, оказывается, продал собственной внучке и ее мужу. Это было непонятно. Зачем, спрашивается, Тане с ее мужем выкупать у деда дом и усадьбу, если Таня как единственная внучка и наследница имела право на владение всем имуществом довольно старого деда? Не было ли во всем этом какой-то комбинации, какой-то скрытой интриги, в основе которой могло таиться желание Таниного мужа Ивана Васильевича Ковалева стать еще при жизни деда полновластным хозяином его усадьбы?
Я боялся Таниного мужа, хотя на нас с Федей он не обращал никакого внимания. Я помню молодого строгого мужчину с бледным продолговатым лицом и темными прямыми, зачесанными назад волосами. Одевался он очень опрятно. На нем всегда был темного цвета френч с поясом, черные брюки не то галифе, не то что-то похожее на галифе, и постоянно черные блестящие сапоги с высокими до колен голенищами. В раскрытом воротнике френча виднелась белая рубашка с галстуком. Где он работал и кем был по профессии, я не знаю, но ходил он всегда с портфелем. Наверное, он был каким-то совслужащим. Моих родителей он не удостаивал ни малейшим вниманием. Я не помню ни одного случая, чтобы он о чем-то разговаривал с ними или что-то обсуждал. Таня тоже начала отстраняться от нас, и забор, разделявший наши дворы, превратился в некое подобие китайской стены, исключавшей всякое общение между нами.
Наш отец, человек корректный, но и независимый, понимая желание Таниного мужа да, вероятно, и деда изолироваться от нас, недолго думая выстроил забор по «демаркационной» линии, разделявший дедовский сад и наш огород. Этот забор был пониже того, который разделял наши дворы, но тоже плотный и внушительный. Для нас с Федей вылазки в дедовский сад прекратились; теперь, только забравшись на перекладины забора, можно было иной раз увидеть, как Танин муж переводил козу пастись с одного места на другое. Ивану Васильевичу для здоровья полагалось пить козье молоко.
До постройки забора мы с Федей, преодолевая запреты мамы, все-таки, нет-нет, да и наведывались на сопредельную территорию. У деда в саду под высокой старой грушей стояла баня. Сейчас я уже не могу вспомнить, по какому делу в один солнечный день нам с Федей непременно надо было пробраться в эту баню. Нас не интересовали ни яблоки, ни груши, ни смородина и вообще мы не помышляли о проведении недозволенных действий по отчуждению дедовской собственности. Просто нам необходимо было попасть в старую дедовскую баню. Дед не очень-то пускал нас в сад, поэтому и приходилось пользоваться подходящим случаем для проникновения на запретную территорию, проявляя настырность и известную долю мужества. Вполне возможно, что хитрости наши деду были известны, но он иногда посматривал сквозь пальцы на безобидные проступки неродных внуков.
Время было полуденное, сияло солнце, и всюду царила тишина. Мы с Федей двинули в сад. По дорожке до бани пройти было всего ничего, но для нас за садовой калиткой начиналась совершенно другая страна, где одни без мамы мы должны были действовать на свой страх и риск. За баней стоял ветхий косой заборчик, отделявший дедовский сад от Моргуновой усадьбы. В темном окне бани было беспросветно, из приоткрытой двери предбанника тянуло застоявшимся духом старых березовых веников и запахом холодной золы остывшего очага. Перед этой дверью, сбитой из темных досок, неприветливой и чем-то пугающей нас, решимость наша поколебалась, и нам что-то не очень захотелось идти в тот сырой полумрак, который таился внутри бани за ее бревенчатыми низкими стенами. Мы заспорили, кому первому переступить порог предбанника. Похоже, становилось, что задуманное нами проникновение в баню утрачивало для нас свой притягательный смысл. Да и что хорошего нас там могло ожидать? Темно, сыро…
А в саду так солнечно, так уютно и так все знакомо: вот старая груша у забора, рядом с ней и по всему саду стоят яблони, вдоль дорожек, протоптанных прядильщиками веревок, сплошными стенами растут кусты смородины и малины. Напротив бани через тропинку стоят два высоких и густых куста жасмина и сирени. Дальше для нас все было нехожено и неведомо. Мы там никогда не бывали. Куда там! Находиться даже здесь у бани – и то казалось делом рискованным. Ведь стоило только зайти за сиреневый куст, как сразу же можно было оказаться в некоем подобии джунглей. Оттуда не видно было ни сарая с большим колесом у стены, ни крыши нашего дома, ни калитки во двор. Узкая тропинка скрывалась в густых кустах, высокие деревья нависали сверху, в конце нашего огорода таинственно темнела вода «копанки», в которой, как говорил Федя, водились караси и еще какие-то рыбы. Нет, дальше бани ходить нам не следовало.
Федя тогда предложил:
– Давай на спор, что я пройду отсюда до нашей калитки напрямую через кусты и не заблужусь.
Это намерение, на мой взгляд, было рискованным, и мысль о его выполнении казалась мне сумасбродной, но мой отважный брат сказал мне, чтоб я по дорожке пошел к калитке и там ожидал его, а сам, пригнувшись, скрылся в зарослях. С некоторой тревогой я ожидал брата в указанном месте. Очень скоро он появился на меже нашего огорода с оцарапанной щекой, но довольный успехом своего дерзкого предприятия.
– Ерунда, – сказал он, – заживет. Ты только маме ничего не рассказывай.
Мы вернулись во двор. Мама ставила самовар. Светлый дымок из самоварной трубы рассевался в безветренном воздухе, оставляя приятный запах сгоревших сосновых щепок.
* * *
Я не помню, когда сломали дедовскую баню и по какой причине это было сделано. Куча битого кирпича, зарастающая крапивой и полынью, многие годы после смерти деда оскорбительно и грубо портила зеленую прелесть старого сада. Трудно объяснить, почему не убрали этот кирпич – дело-то простое. Таню, надо полагать, это мало беспокоило. Ее второй супруг, дядя Федя, по горло был занят первые годы своей семейной жизни разрушением дедовских строений, и руки у него до этой свалки просто не доходили.
Зачем сломали баню? Она так уютно стояла в саду, окруженная всякой зеленью под высоким деревом. Как-то зимой отец нес меня на руках из этой бани по нашему огороду вымытого и закутанного во что-то теплое.
– Пяточка не мерзнет? – спрашивал меня отец.
Я отвечал, что нет, не мерзнет, и с любопытством смотрел из теплой глубины одежды на высокое звездное небо, и было мне хорошо и очень удобно на отцовских руках.
Своей бани у нас не было. С Василием Николаевичем и поначалу с Таниной семьей мы жили, как бы одной усадьбой, строго соблюдая пределы дозволенного при владении землей и строениями. Было бы странно при этом на одной усадьбе иметь две бани. До какого-то времени все так и было, но скрытое недовольство таким положением назревало у Таниного мужа и, наверно, у деда. Танин муж эту двусмысленность разом и прекратил. Раздел усадьбы определил положение, забор, построенный отцом, усилил отчужденность между владельцами.
Через какое-то время отец задумал строить свою баню. Это было правильно, не мыться же весь век по чужим баням. Это такая морока – топить чужую баню. Надо было договариваться с кем-нибудь из соседей, да таких, что живут поближе, придется же натаскать воды, наносить дров, и ходить мыться все-таки лучше поближе.
В Новозыбкове была общественная баня, но как в нее ходить с тремя детьми?.. Бывало, что мама мыла нас на кухне в корыте, но в бане мыться, конечно же, лучше. Однажды топили баню то ли у Соколовых, то ли у Груни. Кажется все-таки за углом у Соколовых на Канатной улице. За низеньким окошком бани было темно, и мама зажгла какой-то светильник, у которого не было стекла. Сначала мы были одни с мамой, а потом пришла тетя Нюся, наша родственница. Тетя Нюся была моложе мамы и была очень красивая, вся округлая, белая, большая, она очень плавно двигалась в непросторной бане. Она сразу же привлекла к себе мое внимание и я с большим интересом разглядывал роскошные телесные достоинства тети Нюси и нисколько не скрывал свое заинтересованности. Тетя Нюся заметила мое беззастенчивое внимание к ней и сказала маме, что я очень уж смотрю на нее и что лучше она посидит на лавочке. Мама принялась меня быстро мыть и подоспевший Леня отвез меня на санках домой. Сколько же мне могло быть тогда лет? По всем обстоятельствам, не более четырех. Мог ли я все это запомнить? Наверно, да. К стыду своему могу признаться, что я до сих пор не забыл, как в неярком свете в тесной бане двигалась молодая красивая и белая тетя Нюся.
Собственную баню отец начал рубить весной. Каждый день, приходя с работы, он брался за топор и тесал бревна. Пахучие сосновые щепки лежали на земле, чисто обтесанные бревна ложились на свои места, и стены будущей бани росли да росли помаленьку, и к осени, когда убрали огород, сруб был готов. Собирал баню отец вблизи нашего сарая по соседству с Митькиным садом. Маму очень беспокоила то, что будущая баня будет стоять близко к деревянным стенам сарая, она боялась несчастного случая. Упаси, Господи, если что, сарай сразу же загорится вместе с баней, а там и дом рядом. Отец как-то возражал, но изо дня в день мама допекала его своими страхами, и отец уступил ей. Место для бани выбрали в конце огорода напротив кустов сирени и жасмина, только с нашей стороны забора.
Разбирать сруб и собирать его на новом месте дело довольно хлопотное, и отец решил перекатить баню целиком. Дело тоже нелегкое, но баня все-таки не изба, сооружение мелкое и, если делать все с умом, то все может получиться скоро и хорошо… В какой-то тихий осенний день с утра в нашем огороде по приглашению отца собрались соседские мужики и началось замечательное дотоле никогда невиданное действие. Кто-то подкладывал бревна для перемещения сруба, кто-то работал вагами, отец, упираясь плечом в толстый кругляк, подсунутый под нижний венец сруба, подавал команды. Мужики кряхтели, мама волновалась, мы с Федей глазели на интересное действо.
Баня поехала!
Отец беспокоился, что могут разойтись углы, что может перекоситься коробка, но Клим Аверьянович, двоюродный мамин брат, успокаивал отца:
– Да ты, Ехимыч, баню эту так срубил, что ее не то, что катать, кувыркать можно, и она все равно не рассыплется.
Это было похоже на правду. Баня двигалась к месту своего назначения, не меняя своей формы и не выказывая никаких признаков разрушения. Схваченный крестовинами по верхним и нижним венцам и закрепленный досками в местах оконного и дверного проемов, сруб благополучно доехал до своего места. Огород весь был затоптан, грядки утратили свои очертания, следы от ваг, бревен и сапог искорежили землю, но это было поправимо, так как до зимы было далеко и оставалось достаточно времени, чтобы привести огород в порядок к следующей весне.
По окончании работы мама пригласила всех ее участников на угощение. Захмелевшие мужчины о чем-то шумно разговаривали, что-то обсуждали, потом по обычаям русского застолья завели песню. Не помню, что они пели, но помню, как отец пытался запеть свою песню, которая ему нравилась:
Снежки белые пушистые
Покрывали все поля,
Одно поле не покрыли —
Поле батюшки моего.
Гости нескладно подпевали отцу, но получалось, что-то другое, не то, что ему хотелось.
Я слушал и думал, что ж это за поле такое было у папиного батюшки, что его по какой-то причине не засыпало снегом. Что такое поле, я хорошо знал. Оно начиналось в конце нашей улицы у последних ее домов и простиралось в одну сторону далеко-далеко, до самого леса, а в другую сторону доходило до тех отдаленных мест, куда по вечерам заходило солнце. Это было настоящее поле, в котором не понятно где располагались деревни, откуда в город на базар ездили хохлы, а к нам в гости приезжал дядька Иван, муж нашей тети Фени, маминой сестры. И вот я представлял себе, что в этом большом белом поле есть одно маленькое поле папиного батюшки, почему-то не засыпанное снегом. В этом была какая-то тайна, объяснение этому лирическому парадоксу я нашел значительно позже. Оказывается, что настоящие слова песни, которая нравилась нашему отцу, были несколько иные:
Снежки белые пушистые
Покрывали все поля;
Одного лишь не покрыли
Горя люта моего.
Таким образом, проблема непокрытого снегом поля папиного батюшки сама собой разрешалась. Но это случилось потом, а в тот день, когда катали баню, этот вопрос меня очень занимал. Для завершения воспоминания о том, как отец пел нравившуюся ему песню, следует добавить еще несколько слов. Мало того, что отцовский вариант русской народной песни совершенно менял ее смысл, но была при этом вот еще какая подробность: Первую строку этой песни отец пел на свой лад. У него получалось: «Снежки белы лапушисты…». Это, помнится, меня вполне устраивало: лопушистые снежки я себе хорошо представлял.
Что же касается бани, то история ее строительства не имела положительного завершения. Я не помню, почему отец не достроил баню. Кажется, ее еще раз перекатывали поближе к дому. Отец настелил потолок, собирался устанавливать стропила, намеревался крыть крышу, но что-то ему помешало. Может, трудности с материалами, недостаток средств не позволили ему довести дело до конца. Но, скорее всего, благие намерения отца и его планы на устройство жизни нашей семьи нарушила надвигающаяся на наш город и на всю страну страшная беда начала 1930-х годов.
Наш отец баню так и не достроил.
* * *
Нашего отца за хорошую работу на фабрике премировали путевкой на курорт, в Крым. Отец об одной такой поездке сообщает в своей биографии, а было их две. Первый раз встречать отца на вокзал при его возвращении из Крыма мама ходила с Федей. Мне тоже очень хотелось пойти, но и мама и Федя мне объяснили, что я еще маленький, а до вокзала очень далеко, и я просто туда не дойду.
– Ты подожди, – сказала мама, – в следующем году папа поедет на курорт, а ты за это время подрастешь и тогда мы пойдем встречать папу уже с тобой.
Как же я завидовал старшему брату, что он был на вокзале и видел поезд, что он встречал папу и вместе с ним и мамой ехал домой на извозчике! Это было совершенно исключительное событие. Старший брат, считая себя причастным к этому, очень гордился, но одновременно был снисходителен ко мне, успокаивая и обнадеживая меня тем, что в следующем году я так же, как и он, увижу все то, что ему довелось увидеть и испытать.
Так оно и произошло. В следующем году – это был 1931-й год – летом наступил долгожданный день. Мама нарядила меня в новые, пошитые ей самой штанишки и в новую рубашку. На ногах у меня были тоже совершенно новые ботиночки. Уже только ради одного этого стоило надеяться и ждать такого хорошего случая. Новая нарядная одежда сразу же настроила меня на понимание того, что я участвую в праздничном, необыкновенном событии. Мама тоже нарядилась. Она взяла меня за руку, и мы отправились в дорогу. Погода на мое счастье была хорошая. Улицы, по которым мы шли, казались мне очень красивыми, чистыми и зелеными. Это был главный цвет, который я запомнил в тот день. Повсюду стояли высокие деревья с огромными густыми кронами. Дома, мимо которых мы проходили, казались мне большими и добрыми. Крашеные ставни, герани в окнах, палисадники у некоторых домов, и лавочки у каждого дома, – все это мне очень нравилось и убеждало меня в том, что порядок, заведенный у нас дома родителями, соблюдается во всем городе.
Это было мое первое знакомство с Новозыбковом и оно оставило во мне впечатление добра и надежности. По дороге к вокзалу мы с мамой не встретили ни одного сердитого человека, нас не облаяла ни одна собака, и мы не слышали не то что какой-нибудь ругани, но даже громкого разговора нигде не услышали. Раза два мы с мамой садились отдохнуть на лавочках у каких-то домов и потом продолжали поход.
На вокзале было много народу. Когда мы с мамой вышли на перрон, я почувствовал, что устал. Перрон на нашем вокзале открытый, солнце сияло во всю, и было очень жарко. В ожидании поезда некоторые люди сидели прямо на тротуаре у стены вокзала. Один мужчина полулежал на какой-то подстилке, и мама попросила у него разрешения посидеть мне на краешке, так как ее мальчик, то есть я, очень устал. Без особого желания я присел с разрешения чужого дяди на его черную пыльную подстилку. Я ожидал поезда и очень боялся прозевать тот момент, когда он будет подъезжать к вокзалу, я даже побаивался, что поезд вообще не приедет, и я не увижу, какой он. Потом мне начало казаться, что поезд опоздает, и мне придется вместе с мамой и со всеми людьми долго сидеть на тротуаре у вокзала и жариться под солнцем. Федя говорил мне, что поезда могут опаздывать, и я очень опасался этого.
Но поезд пришел вовремя. Мне показалось, что на вокзал наехала целая улица одинаковых домов на колесах без крыш и без оконных ставень. Люди, все, которые были на перроне, начали куда-то бегать, что-то спрашивать друг у друга и таскать сумки, чемоданы и разные другие вещи. Мы с мамой скоро увидели папу, он же высокий, и его белая фуражка была сразу заметна над другими людьми. На привокзальной площади мы наняли извозчика, и какое же это было непередаваемое счастье: ехать от вокзала и до самого дома в настоящем фаэтоне вместе с мамой и папой!
* * *
Накануне праздников по вечерам мама перед иконами зажигала лампады. Во всем доме к этому времени наведен порядок, на чисто вымытых полах постелены половики, на окнах белеют свежие накрахмаленные занавески, столы, покрытые выутюженными скатертями, выглядят очень нарядно. Завтра праздник – может, Рождество, может Крещение… За окнами ночь, зима. Зимой мы с Федей спим на печке в кухне. Печка у нас, как крепостной бастион, большая, надежная, на ней тепло, просторно и уютно. Мне не спится. В открытую дверь в спальню мне видно, как перед иконами мягким, неярким светом теплится лампада. От этого на душе спокойно и хорошо. В передней комнате перед иконой Святой Богородицы тоже горит лампада. С печки это мне не видно, но я там молился Богу на ночь. Мне только видно, как лампада в зале освещает иконостас и ее свет очень красиво поблескивает на позолоченных украшениях и в бисерном окладе иконы.
Маленьких нас мама учила молиться. Мы – старообрядцы и крестимся двуперстным знамением. Богу молиться надо было так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости и помилуй меня грешного». Это надо было три раза сказать и при этом три раза перекреститься. Это было нетрудно и мы охотно это делали по два раза в день, утром и вечером. Потом, когда мы сталь подрастать, это отошло как-то само собой под давлением всеобщего безбожничества и государственной борьбы с религией. Но в раннем детстве мы с братом молились, если только можно назвать молитвой то короткое обращение к Богу, которому учила нас мама. Мама говорила, что у всех есть свой ангел-хранитель, и когда человек совершает какие-то плохие, грешные дела и поступки, то его ангел-хранитель на небе плачет и убивается от горя, а если человек хорошие дела делает и не грешит, то его ангел очень радуется за него.
Осенью к нам приходила какая-то бабушка, ее звали Никоновна. Одетая во все черное, в длинной до земли юбке, она долго простаивала в зале перед иконами, шепча молитвы и перебирая сухими пальцами лестовку. Мама молилась рядом с ней. Потом эта бабушка пила чай и разговаривала с мамой. Я запомнил, как она сказала, что младенец тоже грешник: «Как только дитёнок переползет порог и скажет слово “бес”, вот он уже и грешник». Такое категорическое определение признаков грешности меня очень расстроило и напугало.
Я лежал на теплой печке, вспоминал строгую бабушку Никоновну и сокрушенно думал о том, что я уже безнадежно пропащий человек. Через порог я не то что переползал, но уже свободно перешагивал и слово «бес», к несчастью своему, говорил уже не раз. Я смотрел на желтый свет лампады, на лики святых, и меня успокаивало то, что мама всегда говорила, что Бог милостивый, что надо только покаяться в своих грехах и не повторять их, тогда Бог простит. Такая мысль меня обнадеживала, к тому же я еще немножко надеялся на моего ангела-хранителя, что он смилуется и заступится за меня перед Богом.
Вера нашей мамы была добрая, прощающая, и дом наш только украшался ее верой. Она никаким духом не была похожа на тех древне-старообрядческих старух, исступленных хранительниц старой веры, на тех женщин с Рогожской заставы, готовых покарать каждого, кто хоть в малом отступал от «канонов истинной веры». Я прочитал об этом много позже в мемуарной литературе о старой Москве. Мама наша была простой и общительной женщиной, она не чуждалась мирских развлечений, ходила с отцом и в театр, и в кино. Книг «светских» она никогда не читала и ее постоянным чтением были Святцы, Псалтырь и еще какие-то книги в темных кожаных переплетах, истлевших от времени, написанных на церковно-славянском языке. Имелась в нашем доме огромная книга Библия, отпечатанная на двух языках. Каждая страница в ней была разделена вертикальной чертой надвое, слева располагался церковно-славянский текст, а справа соответствующий ему русский. Эту толстенную книгу в нашем доме никто не читал. Отец особенной приверженностью к религии не отличался, он был обычным верующим человеком, вера которого под влиянием общественной антирелигиозной экспансии была довольно размыта. К тому же он удосужился быть выдвинутым на руководящую должность, что, конечно же, никак не увязывалось с преследуемой верой в Бога. В пору моей школьной учебы отец креста не носил, как и мы, его дети. Мама никогда не понуждала его к молитве. Но случалось, что отец становился на молитву рядом с мамой. Она, бывало, стоит перед иконой немного впереди отца, а он чуть позади и справа от нее, и я вижу, как отец отвлекается и пропускает поклоны. Мама, заподозрив его в отлынивании, время от времени поворачивается и посматривает на него, и тогда он, как бы спохватившись, включается в молитву, старательно показывая свой усердие, но через некоторое время опять начинает халтурить. Это случалось редко и в пору моего самого раннего детства. Обычно мама молилась одна. Основная молитва ее проходила в зале перед иконой Казанской Божьей Матери, после чего она обходила с недолгими молитвами перед иконами в других комнатах. В это время никто не мешал ей и не отвлекал ее. Говорили: «Мама молится».









































