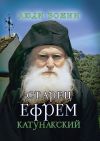Текст книги "Старец Амвросий. Праведник нашего времени"

Автор книги: Евгений Поселянин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Евгений Николаевич Поселянин
Старец Амвросий. Праведник нашего времени
Отец Небесный не судит никому же, а весь Суд предаде Сыну Своему; а ты кто такой!!! Помни, что судить других – значит осуждать свою душу…
Многогрешный иеросхимонах Амвросий
Дорогой читатель!
Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея».
Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную.
Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru
Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на info@nikeabooks.ru
Спасибо!
ПРЕДИСЛОВИЕ
Наряду с преподобным Серафимом Саровским и митрополитом Московским Филаретом старец Амвросий является, быть может, самой яркой, самой заметной личностью среди русских христианских деятелей XIX в.
Его образ дышит необыкновенной выразительностью, и, при всей чарующей мягкости и нежности тонов, ему присущих, с великой силой через всю его жизнь прошла одна главная струя – искание Бога и служение человеку.
Мало сказать про него, что он был только могучим проповедником Царствия Христова. Путем неотразимого примера своей жизни он был живым доказательством этого Царствия, уже осуществляющегося, уже пришедшего. Он не только звал к свету и обновлению духовному. Он сам был «светильник, горящий и светящий» с чудной яркостью.
Как старец Серафим, с которым у него было немало общих черт, он был одним из величайших зодчих русского народа. И создание его гения – это воспитание и развитие собственной личности, которую он вылил в формы поразительной, лучезарной красоты.
Кто из живущих теперь знал о. Серафима? Лишь крики восторга давно умерших его современников говорят нам, что он был живым, едва мыслимым, воплощением лучших свойств человеческого духа.
Но старца Амвросия знала и помнит часть даже самого молодого поколения современной России. И несмотря на несомненность и близость этого образа, когда уйдешь в воспоминания о нем, спрашиваешь себя: воистину ли все это было или это только сложенная из заветных запросов души дорогая, но неосуществимая мечта?..
Да, он был, мы видели его, мы согревались около него. Те, кто знал его, тот на всю жизнь застрахован от потери веры в жизнь. Какие бы посторонние уродства ни поражали душу, каким бы собственным бессилием ни томилась она, в самые тяжелые минуты встает перед ней его светлый, примиряющий образ и тихо шепчет измученной душе: «Есть на земле правда, красота, святыня. Ты видел наяву этого человека».
И если я берусь в волнении за перо, в усилии восстановить хоть некоторые черты этого светоносного существования, то меня поддерживает надежда, что его образ, как сам он при жизни, поможет какой-нибудь уставшей душе.
Как приветливая картина природы, как высокое создание искусства, так и великая душа человеческая, в которой громко звучат самые благодатные струны, спасает нас благим воздействием на наш внутренний мир.
Одно созерцание такой души доставляет радость, озаряет, помогает жить, верить и надеяться.
Е. Поселянин
Свеаборг. Декабрь 1904 г.
ГЛАВА I
В МИРУ
О. Амвросий, в миру Александр Михайлович Гренков, родился в ноябре 1812 г. в семье пономаря церкви села Большая Липовица Тамбовского уезда.
По клировым ведомостям день его рождения значится 23 ноября, сам же он во всю жизнь не знал точно дня своего рождения, только всегда говорил: «Какой-то тут был праздник».
Дом Гренкова был полон гостей, так что роженица была переведена в баню, где и разрешилась от бремени.
Впоследствии старец Амвросий, всегда обуреваемый народом, шутливо говаривал: «Как на людях я родился, так на людях все и живу».
Хотя приход был, по-видимому, богатый, так как в то время при Липовицкой церкви состояло три священника, два диакона, три псаломщика и три пономаря, Гренковы жили, конечно, скудно, особенно же ввиду того, что всех детей было восемь человек.
Дед Александра, о. Феодор, был священником Липовиц, и сын Михаил, пономарь, жил с семьей у него в доме.
Впоследствии один из братьев о. Амвросия был в Киеве директором гимназии, второй – пономарем в Липовицах, третий – столоначальником в Тамбовской казенной палате, а две из сестер его доживали дни при Оптиной пустыни.
В детстве будущий знаменитый подвижник и старец не представлял из себя того типа задумчивого, сосредоточенного, тихого и благонравного мальчика, какими обыкновенно бывают будущие аскеты. Он был очень боек, весел, смышлен и жизнерадостен – эти черты остались в нем до могилы.
По его чрезвычайной живости мальчику никак не сиделось дома. Бывало, посадит его мать качать колыбель одного из младших детей, но как только мать, занявшись домашними делами, упускала его из виду, он выпрыгивал в окно и бежал резвиться с товарищами.
Он рассказывал впоследствии о некоторых своих тогдашних проделках, кончавшихся очень печально. Раз он полез на крышу за голубями, но сорвался и ободрал себе спину, что должен был скрыть от домашних во избежание наказания. В другой раз, несмотря на запрет матери, стал стегать во дворе смирную лошадь, которая наконец брыкнула и ранила его в голову.
Раз даже он подвел под беду младшего братишку, который был общим баловнем в семье: зная, что дед не выносит шума и крика, Александр нарочно раздразнил брата, и дед отодрал обоих за чуб.
Эти постоянные проявления живости были не у места в степенной, скромной семье, и Александра не любили. Холодно относились к нему не только дед с бабкой, но даже родная мать.
Это обстоятельство могло иметь громадное значение во внутренней жизни ребенка. Если несчастья вообще приближают душу к Богу, то одинокие дети, не взысканные лаской, предоставленные самим себе, в особенности же дети с богатым внутренним содержанием, одаренные, живые, несправедливо преследуемые за невольные, безотчетные проявления прирожденной бойкости, – эти дети, оскорбленные невниманием людей, рано обращаются к Богу. Тут происходит какая-то великая тайна, которая бросает детскую смущенную непонятую душу в лоно всегда и всех принимающей, всем откликающейся Божественной любви.
Так должно было быть и с Александром. И в те минуты, когда, после огорчений от жестокого с ним обращения, он где-нибудь в уголке растирал по лицу слезы кулаченком, его стесненное сердечко начала согревать религиозная теплота, а детская душа его безотчетно льнула к Богу…
Настроение в доме Гренковых было строго религиозное. Грамоте мальчика учили по часослову и Псалтири. Всякий праздник стоял он с отцом на клиросе, где читал и пел. О матери своей он впоследствии говаривал, что она была святой жизни.
Лет двенадцати он был помещен отцом в Тамбовское духовное училище, где занимался успешно, хотя и тут постоянно бегал и играл.
Интересно заметить, как чуток был мальчик на всякую ласку, которой в детстве ему досталось так мало. Он вспоминал об училищном портном: «Когда я был мальчиком, был у нас общий портной. Я был высоконький, и он меня все Сашей звал. Других же моих товарищей так ласково не называл. Признаюсь, меня это очень затрагивало».
Испытав впечатлительной, общительной, созданной для любви и благоволения душой, как тяжело видеть отовсюду равнодушие, он во всю свою жизнь отличался особой приветливостью к людям. Мне рассказывали в Оптиной, что иноки, помнившие его в молодости, все свидетельствовали о чрезвычайно приятном его обращении: «Как, бывало, встретишься с ним по дороге в скит, уж непременно остановится, несколько добрых слов молвит».
В 1830 г., то есть в восемнадцатилетнем возрасте, Гренков поступает в Тамбовскую семинарию. И здесь учился он успешно, хотя занимался мало, а брал способностями. По-прежнему любил он поговорить с товарищами, пошутить, посмеяться. Один из его сверстников вспоминал:
«Бывало, на последние копейки купишь свечку, твердишь-твердишь заданные уроки, а Гренков мало занимается, а придет в класс, станет отвечать, так валяет без запинки, как по писаному».
Весьма вероятно, что Гренков занимался бы еще меньше, если бы его не понуждала великая строгость, царившая тогда в учебных заведениях духовного ведомства.
Кончил он курс в 1836 г., седьмым, при «очень добром поведении». Любимыми его предметами были Священное Писание, богословские, исторические и словесные науки[1]1
В словесные науки входили такие дисциплины, как грамматика, риторика, стихотворство. (Прим. ред.)
[Закрыть].
Интересно, как доказательство той поэзии, которая всегда жила в этой богатой натуре, припавшая ему одно время фантазия писать стихи, о чем он впоследствии рассказывал:
«Признаюсь вам, пробовал я раз писать стихи, полагая, что это легко. Выбрал хорошее местечко, где были долины и горы, и расположился там писать. Долго-долго сидел я и думал, что и как писать, да так ничего и не написал».
Но на всю жизнь осталась у него любовь говорить в рифму.
Вот, двадцатичетырехлетний Гренков выходит в жизнь, в мир, где он пробыл так недолго и куда вступил он с мыслью о монастыре.
«Дух дышит, идеже хочет». И в подтверждение этих слов, как часто случалось, таинственный зов Божий призывал к подвижничеству людей, казалось бы, созданных исключительно для мира. Так было и тут. Этот жизнерадостный, заразительно веселый, практичный, бойкий человек, чрезвычайно общительный, как говорится, душа общества, испытывает какое-то смутное влечение к жизни в Боге.
«В монастырь я не думал никогда идти, – говорил он. – Впрочем, другие – я и не знаю почему – предрекали мне, что я буду в монастыре».
Значит, при всей его жизнерадостности, было в нем что-то особое, заметное даже посторонним людям и определявшее его духовные стремления.
За год до окончания курса Гренков так сильно заболел, что надежды на выздоровление оставалось мало. Послали за духовником, который долго не являлся. Тут же больной дал обет, что, если Бог воздвигнет его здоровым, он непременно пойдет в монастырь. Он выздоровел, но исполнить тотчас обет не было возможности: ни начальство, ни родители не отпустили бы его до окончания курса. А год, проведенный в привычном товарищеском кругу, ослабил его ревность, и, окончив курс, он не решился тотчас постричься в монахи.
Он поступил в дом одного помещика учителем его детей. Здесь, сталкиваясь с людьми разных классов, он сделал немало житейских наблюдений. Об этом времени он вспоминал, что уже тогда все, находившиеся в ссорах, просили его примирить их.
Пробыв в этом доме полтора года, он поступил учителем в Липецкое духовное училище, и тут начинается в нем продолжавшаяся полтора года борьба. Память об обете склоняет его к монастырю, а вкус к жизни удерживает его в миру. Он очень любил пение и музыку, нравился ему, по-видимому, тогда и блеск, так как он мечтал даже поступить в военную службу. Но теперь всякое невинное увлечение миром мучило его совесть. Об этой внутренней борьбе он вспоминал:
«После выздоровления я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать своих знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Бывало, думаешь про себя: ну вот, отныне буду молчать, не буду рассеиваться. А тут глядишь – зазовет кто-нибудь к себе, ну, разумеется, не выдержу и увлекусь разговорами. Но придешь домой – на душе неспокойно; и подумаешь: ну, теперь уж все кончено навсегда, совсем перестану болтать. Смотришь, опять позвали в гости, и опять наболтаешь. И так вот я мучился целых четыре года».
Мне пришлось близко изучить жизнь русских подвижников XIX в., и почти не встретить столь упорной борьбы между миром и Божественным призванием, как та, которую пережил отец Амвросий.
Он был в то время в положении евангельского богатого юноши перед Христом. Пусть он не был богат материально, лучше и выше того – сколько у него было духовных сокровищ, этой драгоценной «радости жизни» и интереса к ней, широкого сочувствия к людям, симпатий, которые он вызывал к себе всюду, где появлялся, этой способности наблюдать жизнь, понимать ее, вникать в нее, что одно уже доставляет столько наслаждений живому и бойкому уму… А там, где-то в неведомой дали, за блеском и разнообразием жизни, прекрасной и интересной для наблюдательного человека даже в провинциальной глуши, там монастырь, одинокая келья, тяжелые послушания и полное отделение от этой любимой, манящей жизни, что волновалась и сверкала перед ним. Ничего, кроме молитв: ни задушевных бесед, ни прогулок, ни этой возможности помечтать где-нибудь «в хорошем местечке, где долины и горы», ни этого заразительного молодого смеха. И он, как больной, которому запрещена обычная пища, со страхом лакомится ей, он пил эту пену жизни с наслаждением и болью, упрекая себя за то, что любит эту жизнь и не может вдруг расстаться с ней, и, куда бы ни шел он, как бы весело ни было кругом его, все перед его мыслями стоял крест с распятым Богом, и тихо струились кровавые капли по челу, и звали к Себе непорочную молодую душу грустные глаза Богочеловека, а губы Распятого шептали обещания лучшего счастья, чем то самое смелое и сказочное, что могла бы дать ему земля. И не замирал в его ушах шепот: «Если хочешь быть совершенным, оставь все и иди за Мной».
Легко совершается оставление мира людьми, созданными так, что мир не имеет для них цены, – такими людьми, как преподобный Сергий, как старец Серафим, с детства призванные, отмеченные перстом Божиим. Но как невыразимо трудно заклание себя в жертву Богу людьми, которые не меньше первых любят Бога и желали бы знать в жизни Его одного! Перед ними вечным призывом стоит это неизгладимое для верных и глубоких душ знамение Христа Распятого, распаляя их сердце жаждой ответной жертвы, но они вместе с тем множеством связей любовно и крепко привязаны к миру и постигли лучшие стороны жизни, им в жизни хорошо, как в родной стихии, им не чуждой…
Разве и тот богатый евангельский юноша не был идеалистом и исполнителем закона, разве не мечтал он о высших путях? Но со скорбью отошел, услыхав требование – отречься от собственной личности. В таком же положении был и Александр Михайлович Гренков.
Для человека, уже познавшего увлечения страстей, уже осквернившего ризу первозданной чистоты, удаление от мира, может быть, даже легче, чем оно было бы для евангельского юноши и для Гренкова. Уже падших, но носящих в душе высокие идеалы, гнало бы в пустыню жгучее раскаяние, надежда в этой пустыне полного обновления, восстановления первичной непорочности. А этим, если и наслаждавшимся в жизни, то лишь ее чистейшими, отвлеченнейшими наслаждениями, этим, чей грех был – лишь иногда слишком громкий смех, слишком колючая острота, этим, быть может, и в мыслях не согрешившим большими грехопадениями, не могло ли казаться, что и в миру возможно достичь высокой меры и угодить Богу? А Бог, готовя в них всенародных светильников, все продолжал палить их душу тоской по Себе, и так шли дни за днями в этом страдании души, раздираемой стремлением в высоту и горячей привязанностью к миру.
Надо было довести себя до такого порыва, который бы осилил эту привязанность к миру.
Насколько даже людям, твердо решившим идти в монастырь, бывает труден последний шаг, показывает пример современника о. Амвросия, тоже истинного подвижника, оптинского архимандрита Моисея. Мне довелось слышать из его уст рассказ о том, как ехал он в Оптину, чтобы там навсегда остаться. На последних почтовых станциях им овладело такое страстное желание вернуться назад, что он привязал себя веревками к тарантасу, чтобы не изменить малодушно своему намерению.
В той страшной борьбе, которая в нем происходила, Гренков искал сил в молитве. По ночам, когда все спали, он становился перед родительским благословением – Тамбовской иконой Божией Матери, и только Владычица видела, что происходило в этой душе, созданной и для мира, и для Бога.
Товарищи подметили как-то его молитвы, начались насмешки. Чтобы лучше скрыться, он стал ходить по ночам на чердак. Однако и тут его проследили. Надо было искать себе нового убежища.
За рекой Воронеж, на которой стоит Липецк, до сих пор чернеет обширный казенный лес. Туда-то и стал уединяться Гренков.
Известно, что большинство подвижников чрезвычайно любят природу, в красоте которой как бы отразился лик Божества. И на Гренкова ее торжественная, тихая красота производила сильнейшее впечатление. Ему даже иногда слышались молитвы в разнообразных звуках природы. Так, однажды, прислушиваясь к журчанию ручейка, он ясно различил в этом журчании слова: «Хвалите Бога, храните Бога!» «Долго стоял я, – рассказывал впоследствии о. Амвросий, – слушая этот таинственный голос природы, и очень удивлялся сему».
В июле 1839 г. Гренков вместе с товарищем и сослуживцем своим Покровским, впоследствии тоже ставшим монахом Оптинского скита, ходил в село Троекурово Лебедянского уезда, где подвизался знаменитый затворник Илларион[2]2
Старец Илларион Троекуровский, из рязанских крестьян (1774–1863), с юных лет вел строгую жизнь, и на 20-м году, оставив жену, тайно удалился в лесное уединение, где принял на себя почти неимоверные аскетические подвиги, превосходя строгостью жизни наших древних преподобных, спасавшихся в лесных дебрях Русского Севера.
После многих испытаний и странствований Илларион в 1824 г. поселился в келье, построенной для него в имении Троекурове помещиком Раевским, и последние 20 лет жизни принимал во множестве стекавшийся к нему народ. В нем действовали великие духовные дары.
Почил на 90-м году и погребен в основанной им Троекуровской женской общине. (Прим. авт.)
[Закрыть]. У этого прозорливого и праведного человека Гренков искал совета, куда направить свою жизнь, и, конечно, его решением хотел подкрепить свою колеблющуюся волю.
Приняв их в своей келье, этот знаменитый подвижник, по своему обыкновению, сперва помолился с ними и положил перед образами три великих поклона, а затем с кроткой улыбкой спросил посетителей о цели их прихода. Александр Михайлович открылся ему, что думает о монастыре. О. Илларион сказал Гренкову: «Иди в Оптину. – И промолвил при этом: «Ты там нужен!» Покровский же заметил: «А мне бы еще не хотелось, батюшка, идти в монастырь», – на что о. Илларион ответил: «Ну что ж, Павел, ну, поживи еще в миру».
Только благодаря присутствию при этой беседе Покровского и сохранились эти знаменитые пророческие слова старца Иллариона о том, что Гренков нужен в Оптиной. Сам о. Амвросий, по своему смирению, никогда не упоминал о них.
Как часто в жизни святых повторяется этот великий момент: отец русского монашества Антоний Киево-Печерский – перед афонским старцем, направляющим его в Россию; молодой Прохор Мошнин – в Киеве, перед старцем Досифеем… И что происходило во внутреннем мире этих людей, когда незадолго перед своей смертью они благословляли на подвиг эту молодежь, во всем обаянии ее искренности и веры, когда, описывая последние круги своего святого полета, эти духовные орлы провидели начинающийся царственный полет этих орлят, когда эти гении благочестия предчувствовали «иного гения полет».
Незабвенны, велики эти минуты: угасающий подвижник, пророчественным словом своим определяющий на подвиг юную мужественную душу. Как незабвенным для русской литературы остается экзамен мальчика Пушкина перед Державиным:
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.
В то же лето Гренков ездил с Покровским в Троице-Сергиеву лавру. К телеге, данной для этой поездки отцом Покровского, Гренков своими руками примастерил крышу, для чего сам гнул дуги из молодых деревьев, прикреплял их к телеге, а сверху укрывал рогожами и войлоком. В этом видна та практическая, хозяйственная жилка, та сметливость, которая отличала о. Амвросия, всегда интересовавшегося всякими хозяйственными делами и подававшего в этой области весьма ценные советы.
Святыня мощей преподобного Сергия произвела сильнейшее впечатление на Гренкова, и здесь он ощутил ту духовную сладость, которую дает душе предчувствие того, как много истинного счастья, высшего всех земных радостей, может доставить человеку великий подвиг. Тут же обнаружилась его великая щедрость. Все, какие с ним были небольшие деньги, он раздал бедным и даже просил у Покровского взаймы. Тот отказал, и лишь благодаря этой твердости товарища они смогли без лишений вернуться домой.
Казалось бы, теперь, после совета старца Иллариона, прямо указавшего, куда следует Гренкову идти, и после богомолья к преподобному Сергию только и оставалось – расстаться с миром.
Но он еще медлил. С одной стороны, уговоры Покровского, который хотел еще сам пожить в миру и не желал расставаться с добродушным товарищем, с другой – мысль о своей молодости, о том, что еще успеется в монастырь. Быть может, еще долго продолжилось бы это колебание, если бы не неожиданный случай, ускоривший развязку.
В конце сентября Александр Михайлович был в гостях на вечере. Он был особенно в ударе, разошелся, остроумные шутки так и сыпались с его языка. Гости смеялись до упаду. Все были в восторге от оживления, которое он внес, и разошлись предовольные.
Но для Гренкова настала мучительная ночь. Эта его так бурно разразившаяся веселость казалась ему тяжким преступлением. Он понял тут, что в миру ему не совладать с собой, и с силой ощутил на себе слова о том, что невозможно работать двум господам, Богу и миру. Он вспомнил обет, данный им при смерти, и совет старца Иллариона, вспомнил свои пламенные молитвы в ночной тиши, вспомнил предчувствие какого-то громадного, захватывающего духовного счастья, которое он пережил на месте, где спасался некогда преподобный Сергий…
Утро застало его во всеоружии непреклонного решения. Увидав Покровского, он ему сказал:
– Уеду в Оптину.
Тот испугался его словам и начал его отговаривать:
– Как же ты поедешь? Ведь только что начались занятия: не отпустят.
– Что же делать! Не могу больше жить в миру. Уйду потихоньку. Только ты никому об этом не говори.
Тот порыв, который он так страстно призывал, наступил. Подошла могучая волна, подхватила его и унесла из мира.
Внезапное исчезновение Гренкова наделало много шума. О. Кастальский, смотритель училища, хотя по академии и был товарищем тогдашнего Тамбовского преосвященного Арсения, не решился, однако, доложить ему об этом необыкновенном событии и решился ждать выяснения его.
Без паспорта, с одним семинарским аттестатом, в простой деревенской тележке, тайно выбрался из Липецка Александр Михайлович Гренков.
Там за ним оставалась воля, звучали веселые призывы еще столь мало им испытанной жизни, оставались надежды на счастье, на радости; вдали маячил тяжелый подвиг, неизвестный, суровый быт.
Пропал, сгинул жизнерадостный Александр Михайлович Гренков, за какие-нибудь несколько часов до того заставлявший до упаду хохотать дружеский кружок.
И на обломках этого «ветхого», самого себя сломившего человека должно было начаться великое дело созидания того лучезарного явления, которое под именем старца Амвросия светило русскому миру.