Текст книги "Аракчеевский сынок"
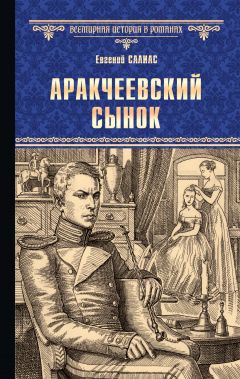
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Глава XIV
Квашнин жил в небольшом домике в самом конце Галерной. Напрасно приятели убеждали его переехать ближе к Невскому или к казармам полка. Квашнин уверял, что ему жаль бросить квартиру ради очень порядочного садика, в котором он постоянно копался, ухаживая за цветами.
В действительности причины были совершенно другие, известные лишь немногим и хорошо известные Шумскому.
Преображенец Петр Сергеевич Квашнин был добрый, скромный, на вид простоватый, но очень неглупый малый, золотой человек как товарищ, исполнительный и примерный офицер, любимец начальства, товарищей и солдат.
У Квашнина не было на свете ни единого врага, да и быть не могло при его мягкости во всем, как в слове и в движеньи, так и в поведении, в обращении со всеми.
Он был высокий, стройный и красивый блондин, на вид лет двадцати пяти, но, собственно, уже лет на десять старше Шумского.
В личности Квашнина было два совершенно разных человека. Один был порядливый и усердный служака, первый – на ученьи, смотрах и парадах, отличный фронтовик и хороший стрелок. Кроме того, он был «ученый» офицер, знавший как «Отче наш», такие книжки, как «Ротное ученье», писавший сам уже несколько лет маленькое сочинение под названьем «Значенье каре в бою со времен Карла XII и до нашего времени». К этому сочинению товарищи его относились, однако, очень жестокосердно. Однажды на заглавном листе чисто переписанной рукописи Квашнин нашел заглавие зачеркнутым и надпись: «Злоключенья квашнинского каре от праотца Адама и до будущего пришествия Мессии».
Так как это сочинение писалось офицером уже лет шесть и конца писания он сам не предвидел, то добродушно сносил все шутки и прибаутки товарищей.
Но помимо службы, там, где кончался, так сказать, преображенец-офицер и где начиналась частная жизнь молодого человека, все было оригинально. Если по службе Квашнин копировал некоторых фронтовиков-солдафонов, вышедших в люди и даже в сановники шагистикой и ружейными приемами, то в частной жизни он не копировал никого. Если он, быть может, и начал с подражательства, то давно опередил и далеко оставил за собой оригинал и перестал быть копией с кого-либо.
Квашнин был, как его звали товарищи, «любовных дел мастером», но не таким, какие могли быть в царствование Екатерины Великой, и не таким, которые могли явиться впоследствии в виде печориных.
У Квашнина бывало за раз по три и по четыре «предмета», и все эти «предметы» чередовались быстро. Все свободное от службы время он посвящал поискам красивых женщин из какой бы то ни было среды, ухаживанью за ними и стараньям достигнуть цели, то есть победить и вписать в число своих метресс. Не проходило недели, чтобы у Квашнина не появлялось новой знакомки, барыни, мещанки, горничной, русской, немки, шведки. Не проходило недели, чтоб он не разошелся с какой-либо прежней победой…
По вечерам он никого из товарищей к себе не пускал, так как вечера предназначались для его «подруг» и посвящались дамскому обществу… Часто случалось, и это особенно забавляло его, что у него случайно встречались соперницы, сами того не подозревая. Каждая в свою очередь считала себя предметом красивого преображенца, а собеседницу свою просто гостьей или родственницей офицера. Когда обман обнаруживался, случались шумные разговоры, бывали иногда и легкие стычки, в которых примирителю тоже доставалось.
Ближайшим товарищам Квашнина было хорошо известно одно сражение, происшедшее в квартире офицера с год назад. У Квашнина съехались, совершенно случайно, три «предмета» – ревельская белобрысая немочка, цыганка из Московского хора, гостившего в Петербурге, и соседка по квартире, молодая дьяконица… Квашнин сплоховал, гостьи поняли, что они все три – не простые гостьи… Немочка осторожно спаслась бегством, но цыганка, шустрая и молодец на все руки, сочла долгом удовлетворить свое оскорбленное самолюбие, а дьяконица храбро встретила врага. И несмотря на красноречивые увещания Квашнина, произошло такое побоище, что пришлось после него ремонтировать квартиру, исправить мебель, стекла в рамах и купить новую чайную посуду…
Но главная беда – огласка – случилась по другой причине.
К довершению всех зол дьяконица, ушедшая домой в плачевном виде, не сумела, или не смогла, скрыть от мужа этого своего несчастного вида и объяснила мужу все происшедшее с ней совершенно иначе. На другой же день отец дьякон отправился к командиру полка, обвиняя господина поручика Квашнина в том, что тот встретил его жену на улице и, будучи не в трезвом виде, исколотил ее без всякого повода.
Разумеется, дело окончилось благополучно, так как Квашнину пришлось покаяться в истинной правде.
Главная характерная черта в похождениях этого невского донжуана своего времени заключалась в том, что все его «предметы» не только ничего ему не стоили деньгами, но все бывали им же обложены податями и налогами.
У офицера не было почти никакого состояния, а денег бывало всегда довольно. Кроме того, почти все, что он имел в квартире, явилось и являлось в виде подарков и подношений «верному другу» от побежденной им прелестницы.
Не говоря уже об массе вышитых подушек, вязаных одеял, шитых туфель, трубок и кисетов, халатов, ермолок, галстуков, – все белье своеобразного донжуана никогда не бывало куплено, а всегда шилось «дорогими ручками» Счета портного и сапожника, равно магазин офицерских вещей, иногда и булочник, – все уплачивалось теми из жертв неотразимого покорителя сердец, у которых были средства. Наконец, даже квартира Квашнина уплачивалась домохозяйке-вдове сердечной привязанностью, а не деньгами.
В этом отношении Квашнин был лишь подражателем молодежи иной поры, боярской, времен Екатерины Великой. Тогда молоденькие и небогатые офицеры гвардии открыто хвастались существованьем на счет своих покровительниц. Это было в обычае. Теперь нравы изменились и хотя было еще почти то же, но уже несколько скрывалось от посторонних, если не от товарищей.
Разумеется, Квашнин ни разу не был ни влюблен, ни даже просто заинтересован кем-либо. Все это было или шалостью ради забавы, или необходимостью ради прямой выгоды.
Но одновременно, и уже с незапамятных времен Квашнин носил на груди, не снимая и никогда не скрывая ни от кого, иногда надевая даже поверх халата, большой золотой медальон с черным эмалированным крестом.
В одной половине медальона были русые волосы, а в другой – акварельный портрет молодой женщины не очень красивой, но с «томным» взглядом.
Квашнин говорил друзьям серьезным голосом:
– Эта одна была для меня все!
И всегда сам подшучивая над всеми своими «предметами», Квашнин насчет этого медальона шуток не любил, становился мрачен, глядел обиженно на неосторожного шутника и даже иногда прекращал за это знакомство.
– Шутите надо всем! Я и сам не прочь пошутить, – говорил он. – А «это» оставьте! Это другое совсем. «Оно» вот где!.. – показывал он на сердце. – Все это тут кровью написано… И теперь еще вспомнить тяжело. А говорить об этом еще тяжелее.
И случалось, Квашнин изменялся в лице, говоря «об ней». Товарищи смутно знали кой-что, знали, что «она» была полька, варшавянка, что она бежала от мужа и кончила романически – утопилась… И ежегодно аккуратно, 4 мая, Квашнин ходил в церковь, заказывал обедню за упокой Марии, молился горячо и затем весь день проводил дома, никого не видя, кроме самых близких друзей.
Роковое квашнинское 4 мая было известно не только в Преображенском полку, но и в других полках. Предполагали, конечно, все, что именно в этот день варшавянка Мария покончила свои счеты с жизнью. Сам же Квашнин об этом никогда ни единым словом не обмолвился.
У образов в киоте висел шелковый розовый платочек.
И хотя Квашнин тоже никогда не сказал никому, что это за платок, но все товарищи тоже знали или передавали друг другу общую догадку, что это платок утопленницы, найденный на месте ее насильственной смерти.
Таинственная и трагическая история прошлого Квашнина, медальон и платочек, 4 мая и заупокойная обедня, сдержанность и обидчивость молодого офицера по отношению к этому грустному воспоминанию, – все это было давно и очень многим известно, но смутно, по догадкам, и в противоречивых подробностях.
Была лишь одна личность на свете, знавшая близко и хорошо всю историю варшавянки Марии. Это была старшая сестра Квашнина, замужняя женщина уже лет сорока и мать многочисленного семейства, которая приезжала из провинции раз в год повидаться и погостить месяц у брата. Она одна знала всю правду. И ей каждый почти раз Квашнин говорил, показывая на медальон или на платок:
– Смотри, Аннушка, не проговорись кому из товарищей об этом.
– Будь спокоен. Я же не забыла и не безумная какая, – отвечала сестра добродушно.
– Это, Аннушка, для меня великая тайна ото всех… Ты меня зарежешь без ножа.
– Знаю. Знаю. Будь покоен.
Но тайна, которую знали они двое, брат с сестрой, была особая, не та, о которой догадывались товарищи-офицеры.
Сестра Квашнина знала, что медальон этот куплен братом на ее глазах при распродаже выморочного имущества после некоей одиноко умершей помещицы их губернского города. Чей был этот портрет русой женщины, конечно, никто не знал. Равным образом, откуда был платочек, повешенный теперь в киоте, ни Квашнин, ни сестра, хорошо не помнили. Кажется, это была находка Квашнина при разъезде с какого-то бала, которая вдруг стала драгоценностью.
А тайна все-таки была! И непростая!.. Тайна характера добродушного, правдивого и честного во всяком слове Квашнина. Считая ни во что свои чуть не ежедневные победы, относясь совершенно равнодушно или шутливо ко всем живым женщинам, которые в него влюблялись, иногда очень серьезно, он обожал, лелеял, боготворил одну женщину, никогда для него не жившую, призрак, пред которым он привык на словах, а затем и мысленно преклоняться. Его кумиром была утопившаяся варшавянка Мария, которая была выдумана и никогда на свете не существовала.
Портрет и волосы принадлежали кумиру-призраку, уже более десяти лет живущему в воображеиьи офицера. Однако этот призрак становился для него в силу привычки как бы фактом прошлого, и он, казалось, иногда уже почти верил сам в свое измышленье.
Всякий, кто узнал бы правду про Марию, медальон и платочек в киоте, объяснил бы дело просто глупым хвастовством, часто встречаемым в мужчинах. Но это сужденье было бы полной ошибкой. Надо было искать объясненье гораздо глубже…
Почему же Квашнин не хвастался сотнями побед и подсмеивался над ними? В числе этих женщин были две, жизнь которых была, действительно, отравлена им, как говорится, разбита.
Года два назад одна еще молодая женщина, покинутая им в то время, когда она надеялась на брак с ним, от нежданного удара вдруг заболела и долго была при смерти. Другая, после больших усилий снова сойтись с Квашниным и полной неудачи, с горя постриглась в монахини около Москвы.
Квашнин все это тщательно скрывал от товарищей и не находил возможным или нужным хвастаться этим, а наоборот, мысленно подшучивал над «новой монашкой своего изделия».
Почему же он хвастал перед товарищами измышленной варшавянкой Марией, грешил, заказывая по ней заупокойные обедни и носил, не снимая ни днем, ни ночью портрет и волосы какой-то неведомой женщины? Кого же он обожал в ней? Женщину отвлеченную! Понятие о женщине?.. «Многое есть на свете, друг Горацио, чего и не снилось мудрецам».
Глава XV
Никакой пташки не спугнул я? Не помешал? – говорил Шумский, входя в квартиру приятеля.
– Помилуй, тебя жду! – весело отозвался Квашнин, встречая гостя.
– Может, у тебя собирались чай пить твои какие приятельницы! – усмехнулся Шумский.
– Нет. Уж были… На вот!..
И Квашнин, смеясь, нагнулся, приподнял волосы на лбу и показал здоровую шишку.
– Шандалом! – кратко прибавил он.
– Были и били! – сострил Шумский. – Ну, не в первый раз. До свадьбы заживет! А я хотел тебя повидать ради дела. Совета попросить.
– Чтобы ему не последовать, – усмехнулся Квашнин. – Что ж, изволь. Я все-таки добрый совет другу дам.
Шумский уселся на диван; хозяин опустился тоже на кресло и придвинулся ближе. После недолгой паузы, Шумский заговорил просто, тихо, но каким-то неестественно спокойным голосом. Он стал рассказывать все то, чего еще приятель не знал…
Он объявил о прибытии мамки, о доставленном Шваньским снадобье от знахаря и, наконец, передал почти подробно свое роковое объяснение с возлюбленной.
После всего Шумский кратко объявил про свое принятое бесповоротно решенье и наконец смолк и вздохнул.
– Опоить дурманом, пролезть тайком в дом и воровски взять? – проговорил Квашнин, оттягивая слова. – Все та же затея, что и прежде сказывал мне. Так ли друг? Три преступленья вместе, в одном.
Шумский пожал плечами, как бы говоря: «Разумеется! Понятно!»
Наступило молчанье.
Квашнин встал и заходил по комнате из угла в угол. Он был, видимо, взволнован.
– И это решенное дело. Бесповоротно? – спросил он, останавливаясь перед сидящим другом.
– На днях будет сделано! – равнодушно отозвался Шумский, закуривая трубку, которую взял с подстановки.
– Да ведь это безумие…
– Может быть. Но ведь я без ума и люблю…
– Слышал еще в прошлый раз. Ну а если узнается и откроется, что ты был…
– Был не Шумский, а Андреев. Ищи в Питере Андреева, а Шумский уедет в Грузино. Я на днях назначен состоять при особе графа Аракчеева по военным поселениям и могу безвыездно жить в Грузине хоть сто лет.
– А если узнается именно, что это дело Шумского. Это ведь лишение флигель-адъютантского звания и ссылка в гарнизон какой-нибудь. А то и хуже… Разжалованье в солдаты!
– Пускай…
– Потеря всего. Положенья, честного имени, наконец, потеря… возможности жить в обществе и в столице. Ты умрешь с тоски в какой-нибудь трущобе…
– Ах, милый друг. Пойми, что мне на все наплевать.
У меня одно желание и одно мечтанье, чтобы женщина, которую я полюбил, была моею. Ценой всего остального.
– Да ведь это гадость! – вдруг закричал Квашнин, как бы не утерпев. – Ведь это преступленье, и гадкое, мерзкое…
– Разумеется, – тихо отозвался Шумский.
– И тебе все равно? У тебя хватает на него духу?
– Стало быть.
– Ты дурной человек, Михаил Андреевич.
– Отвратительный… по-вашему! – усмехнулся Шумский. – Да, по-вашему, а не по-моему… Пойми ты, что я то, что я есть… Убить, зарезать кого, я не могу.
Украсть даже не могу… Духу не хватит. А эдакое дело мне ничего… Совесть молчит… Вот и рассуди.
– Нужды не было! – тихо произнес Квашнин. – А будет нужда, зарежешь и украдешь. Это все одно и то же. Ты тут крадешь честь и этим убиваешь девушку. Может быть, она… с ума сойдет, зачахнет, умрет, а то с собой покончит… То же убийство…
– Она спать будет!.. – резко и грубовато выговорил Шумский. – Проснется и ничего знать не будет…
Квашнин закрыл лицо руками и выговорил:
– Ох, гадко!.. Ох, как гадко!.. Не дурачишь ли ты меня? Мне что-то и не верится. Уж очень богомерзко. Дурачишь, что ли?
Шумский молчал…
Квашнин сел снова, и в комнате водворилась мертвая тишина.
– Что же тебе от меня нужно? Какого совета? – выговорил наконец Квашнин другим голосом, сухо и почти неприязненно.
– Да, собственно, ничего… Сказать хотел!.. А совет твой я, вестимо, исполнять не стану… Да это и не совет – сказать человеку «не делай, мол, того, что решил сделать». Это, мол, погубление себя. Знаю! Потеря своего положения! Знаю. Дурной поступок. Знаю. Противозаконие. Знаю… Ну что ж, мне удавиться, что ли? Застрелиться? Так я лучше это после сделаю. Это всегда успеть можно.
– Женись! – вдруг воскликнул Квашнин. – Ведь она дворянка. Кто они такие, я не знаю. Ты фамилии их не сказываешь, но ты сказывал, она на придворных балах бывает… Семья, стало быть, из высшего круга! Так женись…
– Хотел…
– Ну а теперь… Расхотел, что ль? Опомнись! Что ты!
– Она за меня не пойдет, – резко выговорил Шумский. – Отец не захочет отдать, да и сама она любит другого. Почти любит. Что? Молчишь? Видишь, иного исхода нет. Один исход.
– Преступленье законов. Хорош исход!
– Ваших…
– Каких это наших? Про тебя они, стало быть, не писаны. Или все писаны про других.
– Конечно, не про меня. Я их не признаю. Их вы сочинили. Вы люди-человеки, такие же, как и я. Это не божеские законы.
– Как не божеские? Что ты! Это заповеди: «Не укради! Не прелюбы сотвори!» Еще Моисеевы заповеди! – вскрикнул Квашнин.
– То-то, Моисеевы! – спокойно отозвался Шумский.
– Господом Богом данные ему.
– Ладно!.. Меня при этом не было. А с чужих слов петь я не охотник.
– Что ты, Михаил Андреевич… Так ты бы уж свои заповеди или законы сочинил, новые…
– Я и сочинил! – усмехнулся Шумский. – Первая моя заповедь: добродетель есть мать всех пороков. Закон писан умницей, для дураков. Faites ce que je dis, et ne faites pas ce que je fais[18]18
Делай то, что я говорю, и не делай того, что я делаю (фр.).
[Закрыть]. Надо, братец мой, Петр Сергеевич, больше мыслями раскидывать, во всякой вещи до корня доходить, все глупое и негодное к черту отбрасывать. Надо жить на свой образец, а не так, как тебе дурень какой сказывает… На свете одно верно: рождение, мучение и смерть… Остальное люди выдумали…
– Так ведь эдак все, стало быть… все… все… – Квашнин развел руками и запнулся на мгновенье. – Эдак у тебя все к черту пойдет… Все пустяки да трын-трава, что ни есть на свете. Это вольтеровщина, да только не на словах, а на деле. Господин Вольтер писал всякое такое в книжках, а сам-то жил законно и порядливо и кончил-то жизнь не в крепости и не в ссылке, а в собственном богатом доме, говорят, чуть ли не во дворце. А ты по его писаниям действовать хочешь. Ну и пропадешь. Что ж большего?
– И пропаду… Мне себя не жаль. Мне все в ней. Хочу я ее… Она мне – все… А все остальное – ничего.
– Ну, так пропадай… Что ж я скажу. Видно, тебе так на роду написано. Баловала, баловала тебя судьба. Дала тебе все как есть! И фигуру, и деньги, и важное положение, и отличья, и все… все… Тебе мало всего этого… Подавай, чего нельзя. Так, видно, и случиться долженствовало… По крайности все твои завистники перестанут тебе завидовать, когда услышат, как ты кончил.
– Ну а если все обойдется счастливо? Тогда что скажешь? – вдруг вымолвил Шумский веселее и даже улыбаясь.
– Скажу: счастлив твой Бог. Подивлюся. Но все-таки скажу, что ты…
– Что?
– Что ты нехорошо поступил, то есть извини, подло, мерзко. Не по-дворянски, а по-холопски.
– А твоя Мария из-за чего утопилась? Варшавянка? – произнес вдруг Шумский. – А позапрошлый год та, что постриглась в монастырь…
– Это совсем иное дело. Я шутил, а она полюбила сильней, думала, женюся… Ну и пошла в монастырь. Но я ее не дурманил и не силой…
– А Мария вот эта, что век на груди носишь…
– Это совсем другое дело. Тут как честный человек говорю, я был ни при чем. Это не пример. Вот тебе честное слово, не пример. Тут не было преступленья законов.
– Заладил! Закон – пугало огородное для воробьев, – раздражительно и капризно заговорил Шумский. – Нельзя жить по законам, если жить с ними нельзя. Хороши все эти законы тогда, когда в них человеку нужды нет. Исполняй закон, если он не становится у тебя поперек дороги, а который душит, давит, мертвит, жить не дает – черт с ним, по боку его, вдребезги его. И его, и все, и всех, что помеха! Зачем я на свет родился? Мучиться, что ли, как все? Нет, брат, шалишь. Не за этим. А затем, чтобы брать и взять все, что захочется!
– Да если все эдак заговорят, то ведь мир-то божий кверху ногами станет!
– Все так не могут заговорить, на десяток людей всегда есть девять остолопов, которые с охотой рады, как волы, под всякое ярмо шеи подставлять. А если бы этот мир и перевернулся кверху ногами, то почему ты решил, что тогда будет хуже? Я думаю наоборот. Хуже того, как теперь живется людям – нельзя ничего и выдумать. А все отчего? От выдумок людских. Сами они себя связали по рукам и ногам всякими путами. А умный человек, зная, что всякий закон, обычай, правило и все эдакое меняются совершенно чуть ли не с каждым столетием – не может уважать все эти перчатки людские…
– Перчатки? – повторил Квашнин, думая, что ослышался.
– Вестимо дело: перчатки… Даже веры и религии – человеческие перчатки. Придет такое время, что и религий никаких не будет. Придет!
– Да ведь и Антихрист тоже придет! – вымолвил Квашнин, хотя смутно понимал то, что говорил Шумский.
– Антихрист, – усмехнулся Шумский. – Конечно, он придет. Но придет не как враг людской, а как просветитель народов, как истинный законодатель разумных и нестеснительных законов, которые можно будет исполнять, не становясь от этого несчастным! – проговорил Шумский, оживясь.
– Вот надымил-то! – произнес тихо Квашнин. – Ведь это хуже еще вольтеровщины! Это какое-то масонство. Ты масон, что ли, Михаил Андреевич?
– Избави бог! – рассмеялся Шумский презрительно.
– Да порешь ты масонскую ахинею!
– Похоже?
– Похоже… Да. Они богоотступники.
– Нет, Петр Сергеевич. Я не масон. Масоны – дурни. Глупее их нет! Они говорят: надо всех людей любить, как братьев. А я всем сердцем мать свою презираю и отца ненавижу… Сестер и братьев не имел, а если бы имел, то, чую, тоже не любил бы. Я никого никогда не любил и теперь никого не люблю, кроме «ее». Но себя я еще больше, чем ее, люблю. Оттого я ею для себя и пожертвую. Все это просто, и ничего проще нет, как дважды два – четыре. Прощай. Домой пора. Мамка моя Авдотья ждет меня со свежими вестями от баронессы Нейдшильд!
– Как?! Что?! – вскричал Квашнин, вскакивая со стула.
– Ну да. Вот кто! Знай!
Шумский вышел в переднюю, а Квашнин остался на месте как вкопанный!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































