Текст книги "Чагин"
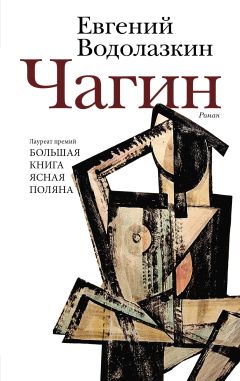
Автор книги: Евгений Водолазкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мать Спицына, вызвавшая к жизни эту турбулентность, представлялась Чагину неким железным дровосеком, скрипящим и визжащим при каждом шаге. От полного Исидорова неприятия ее спасала лишь картошка, которую она научила своего сына жарить с таким блеском. Связь с жареной картошкой облекала женщину в неяркие темно-коричневые тона, не вызывавшие протеста. Сама же картошка соединялась с цветом охры – с тем особым его оттенком, каким на географических картах обозначаются горы средней высоты.
Это была синестезия – явление, при котором ощущение в одной области чувств рождало ощущение в другой области. Вещь, широко известная по классическим научным исследованиям. Запоминание осуществлялось по нескольким линиям, где одна как бы контролировала другую.
Звуки у Чагина имели цвет, а цвета озвучивались; запахи окрашивались, а краски, соответственно, пахли. Под хорошую музыку он мог съесть самую невкусную пищу, в то время как даже ресторанные блюда, сопровождаемые плохой музыкой или слабыми музыкантами, не шли ему в горло.
В духе Исидора Дневник дает развернутые списки хорошей музыки (в основном, классика, но особенно Бах) и плохой (разные направления эстрады). Впрочем, и плохой музыке, с его точки зрения, можно было найти применение: под советские патриотические песни хорошо разжевывалось жилистое мясо.
У Чагина были любимые буквы. Так, он не упускал случая лишний раз произнести б или п. Остальные буквы в памяти группировались вокруг них. При этом сами губные были неравноценны: эффект, производимый звонкой согласной б, достигался двукратным повторением глухой п. Произнеся слово с начальным б (например, баобаб), Исидор тут же искал для симметрии два слова с п. На худой конец, одно из них могло быть с потерявшей звонкость б в конце слова, где она, по сути, превращается в п: тот же баобап. Ему нужно подыскать определение с еще одним п. Пыльный? Примитивный? Противоречивый? Исидор выбрал последнее. Что ж, я не удивлен: в противоречивом баобабе что-то есть. Все привыкли считать баобаб пыльным, примитивным, где-то даже прямолинейным, а у Чагина он – противоречивый.
Существовали слова, придуманные самим Чагиным. Скорее, может быть, даже явленные Чагину, потому что сознательным их конструированием он не занимался. Например, две сплющенные трубы поливальной машины, из которых бьет вода, он про себя называл ртучи. Спицын указывает на возможное происхождение этого неологизма от слова тучи, но тут же приводит и контраргумент: в отличие от поливальной машины, вода изливается из туч без всякого напора. Сплющенные трубы – это выражение Спицына. Подобно ему, я также не знаю правильного их наименования.
В книге Спицына мы находим случаи переименования Чагиным и вполне известных предметов. Так, лифт в памяти Исидора проходил как тяжелые товарищи. Да, слово лифт более компактно, отмечал Спицын. Но тяжелые товарищи указывают на массивность и тяжесть движения механизма. Указывают, добавлю, также на эпоху.
Как я уже говорил, Чагин был неравнодушен и к цифрам. В этой области он особенно любил 4 и 6. Присутствует в них своя гармония (вместе они составляют круглое число 10), но Чагин любил их не за это. Можно, конечно, спросить – за что? А можно и не спрашивать: разве любят за что-то? Когда Вера сообщила ему, что у нее изменился телефон (в новом оказались три четверки и две шестерки), Исидор ответил, что он изменился в лучшую сторону.
Спицыным было установлено, что неожиданную сложность для Исидора представляли омонимы. Так, коса как сельскохозяйственный инструмент отличалась им от девичьей косы только после определенного умственного усилия. Визуальный образ, связанный с косьбой, Чагину, городскому человеку, приходил в голову не сразу. Запоминая тексты, где употреблялось слово коса (их ему было предложено великое множество), Исидор неизменно думал о женщине. Спицын объяснял это отсутствием у испытуемого опыта косьбы, а также его молодостью.
Чагин легко различал клубы и клубы, замок и замок, когда в словах проставлялись ударения. Когда ударений не было, визуальным образом в первой паре примеров был дым, а во второй – висячий амбарный замок. Всё это лишний раз свидетельствовало о том, что запоминание осуществлялось без проникновения в содержание текста.
Спицын установил, что сложность для Исидора представляло любое сходство – будь то слова, цифры или события. При воспроизведении длинной колонки цифр он иногда мог перескочить на другую колонку, которую запомнил несколько лет назад. Причиной этого было сходство трех или более цифр, следовавших подряд. Именно в этом месте в сознании Чагина срабатывала некая стрелка, переводившая воспроизведение с одной колеи на другую.
Повторяя исторические тексты, Исидор мог спутать события, происходившие в один год, или просто события, описывавшиеся одними и теми же словами. Если в предложенном к запоминанию тексте оказывалась фраза «началась война», Чагин порой переходил к описанию войны, случившейся в другое время и в другом месте. «Образ в его сознании, – писал Спицын, – формирует и ведет мысль».
Выяснилось, что в основе восприятия у Исидора лежит именно образ, причем не художественный – просто образ. При упоминании генеалогического древа он видел елку, на которой вместо игрушек висели таблички с именами, а кристаллическая решетка являлась ему в виде решетки Летнего сада, заботливо украшенной разного размера кристаллами.
Особую сложность для Чагина представляли стертые метафоры. Выражение закрыть вопрос в его сознании материализовалось в виде знака вопроса, укладываемого, как в гроб, в полированный черный ящик.
Но настоящим бедствием были для Исидора стихи. В книге Спицына они располагаются по степени сложности освоения их Чагиным.
Начиналось с относительно безобидных строк: Выткался на озере алый свет зари. Впрочем, некоторое напряжение возникало уже в следующей строке: На бору со звонами плачут глухари. В определенном смысле можно было представить и то, как В степи грустят стога. Но О, Русь моя! Жена моя! вызывало у Исидора отклик почти интимный. Дыша духами и туманами также не мучило сознания Чагина: при этих строках незнакомка прикладывалась к чему-то вроде кислородной подушки. В то же время, слыша Уж небо осенью дышало, Исидор неизменно видел апокалиптическую картину хрипло дышащих небес. Но это были еще цветочки.
Проблемными оказались строки Я повсеградно оэкранен! Я повсесердно утвержден! Сознание Чагина рисовало жеманного господина с телевизором вместо живота, заключенного, в свою очередь, в тысячи огромных сердец. Сердечная тема на этом не кончалась:
На мне ж с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце – гудит повсеместно.
Вообще говоря, анатомия в отобранных Спицыным текстах была представлена в самых разных видах: У меня в душе ни единого седого волоса. Или: Улица корчится безъязыкая.
Вывод профессора был неутешительным: буквальное восприятие закрывало для Чагина поэзию как таковую. Не только поэзию – любое абстрактное высказывание его сознание стремилось снабдить образом. Это касалось и терминологии. Например, грамматический термин обращение представлялся Исидору в виде средневекового герольда, зачитывающего свиток. А, допустим, понятие материя сопровождалось туго скрученным рулоном английского твида.
При этом Спицын ни на минуту не сомневался в том, что философские категории Чагин понимал в полном объеме. Изобразительный ряд именно что сопровождал их, но не вытеснял. Исидору нужно было лишь сосредоточиться и вывести эти категории на уровень сознания.
Сложнее было с тем, что оставалось в подсознании. Там образ нередко замещал собой действительность. Так, Чагин порой просыпал по утрам, потому что после звонка будильника переключался на род сна, очень похожего на реальность. В этом сне он вставал, умывался, завтракал и шел, например, на встречу. Дальше происходила сама встреча, которую подсознание Чагина реконструировало довольно точно. Приходил в себя Исидор лишь тогда, когда сон его переставал соответствовать реальности и собеседник, выйдя, скажем, в соседнюю комнату, возвращался в другом обличье.
Неразличение фантазии и действительности случалось у Чагина не только во сне. Крепко задумавшись, он, бывало, уходил в другую реальность, которая, выражаясь словами учебника философии, не была дана в ощущениях. Являвшееся Чагину в воображении оказывалось ярче и убедительнее реальности существующей. Что греха таить – в эти путешествия Исидор отправлялся с большой охотой. Не то ли происходило с Шлиманом, когда он записывал свои фантазии в дневнике?
* * *
Мало-помалу Дневник Чагина сосредоточивается почти исключительно на Вере. Мы узнаём, что Вера сказала, как повернулась, как прошла, где была, что делали ее родители. С родителями связан особый сюжет.
Художник Мельников заканчивал серию «В жизни всегда есть место подвигу». В его мастерской уже висели портреты пожарного, пограничника, космонавта, полярника, милиционера и медсестры. Как ни странно, в этом ряду не было ни одного сотрудника философского факультета. Мельников предложил Исидору совместными усилиями восполнить этот пробел. Усилия Исидора состояли в позировании.
Дело оказалось не таким простым: Мельников работал не торопясь. Прежде чем нанести очередной мазок, он успевал несколько раз пересечь мастерскую, а порой и рассказать анекдот. Не исключался также кофе с сигаретой. При этом модели двигаться запрещалось, поскольку малейшая перемена позы сбивала прицел трепетной мельниковской кисти. Не позволялось также смотреть на портрет до полного его окончания.
– Предвижу вопрос: долго ли еще сидеть? – сказал Мельников на четвертом сеансе. – Обычно ответы у меня готовы до вопросов. Как у Никиты Сергеевича: вопросы газеты «Правда» на ответы Хрущева. Последнее, как говорится, entre nous.
Диссидентским движением Мельников потушил в пепельнице сигарету и коснулся кистью полотна.
– Обычно ответы готовы. Обычно, говорю я. Но не в этот раз… Не шевелиться! Когда портрет получается не поверхностным, когда начинаешь проникать в глубину, время как будто исчезает. Вот сейчас такой случай.
Работа была закончена на десятом сеансе. Мельников, он же Леша Черномордец, не изменил своей манере и в этот раз. На потрясенного Исидора с мольберта смотрел человек, очень на него похожий, но принадлежащий, несомненно, к другой расе. Черный цвет на этом портрете показался слишком густым даже самому художнику.
– Опять скажут: перечернил. – В голосе Мельникова чувствовалась гордость. – А я отвечу: это для серии «Свободу Африке!». Черное лицо не значит – черная душа.
Он захохотал. Окинув профессиональным взглядом Исидора, отметил, что портретируемый, напротив, сегодня необычно бел. И это лишнее доказательство тому, что чернота в данном случае – необходимый художественный контраст.
Действительно ли побелел Исидор? Можно думать, что да, потому что в день окончания портрета в Дневнике появляется запись, полная отчаяния. Творение Мельникова Чагин рассматривает как портрет своей души. «Это портрет предателя», – заключает он. Где, интересно, находится сейчас это полотно?
Исидору нравятся отношения Веры с родителями. Папочка и мамочка, приветственный поцелуй в губы. Вера любит их общие с родителями беседы за чаем: видно, что гордится ими.
Он свою мать в губы не целовал. Кажется, вообще не целовал – как и его брат. Не принято было потому что. Там была другая, суровая, жизнь, и приветствия были суровыми. И вообще матери своей, неулыбчивой и неразговорчивой, он стеснялся. Запись: «Опять-таки предательство».
Что еще описывает Исидор в Дневнике? Острова. Катание на лодке в ЦПКО (именовался Цыпочкой). Вера – в белом платье. Сидит на корме, руки на коленях. По дну лодки малыми волнами перекатывается вода. Натекла с вёсел? Пробоина в днище? Исидору мечтается, что хорошо бы, если пробоина: он бы Веру спасал, потом развели бы на берегу костер, чтобы согреться, потому что гусиная кожа, дрожь, зуб на зуб и всё такое, с волос стекают капли, платье прилипло к телу, а снять его она себе не позволит, а зря, а могли бы, допустим, сушить его над костром, запомнили бы – навсегда.
Он и так всё запоминает навсегда. Натягивается цепь, связывающая мечтателя с землей: водоем неглубок, как тут будешь спасать? И не много ли спасений с его стороны? Спасатель… Эта мысль расстреливает мечту в упор – словно товарища Кирова, чье имя по совпадению носит Цыпочка. Грезы сменяются воспоминаниями.
Театр оперы и балета – опять же имени Кирова. Вера там сидит, как на лодке: руки на коленях. Это ее любимая поза, детская немного. Какая-то даже египетская, любили так сидеть в той местности. Ассоциативный ряд Исидора: сфинксы, Египетский зал Эрмитажа, куда они ходили вдвоем.
Верин взгляд на бога-шакала Анубиса. Судя по изваянию, ему тоже нравилось так сидеть. На Анубиса Вера смотрит долго. У него – лисья мордочка. Есть что-то такое и у Веры: узкое лицо, вздернутый нос. Все египтяне – в юбках, Вера тоже в юбке. Сидит в театре имени Кирова. «Щелкунчик». Дроссельмейер. В антракте они с Верой пьют ситро. В Ленинграде всё – имени Кирова. Настоящая фамилия Кирова – Костриков.
Они с Верой в Москве – всего на один день, так, чтобы две ночи в «Стреле». Мавзолей – московский привет Египту: от нашего фараона – вашему фараону. Идя по Красной площади, Исидор размышляет о том, смог ли бы египетский фараон простить печника. А ведь, пожалуй, не смог бы. Ох, не смог бы: не было в нем ленинской доброты. Фараон и печник.
Вечером – Большой, «Щелкунчик», что же еще? Нет, Кировский, «Щелкунчик». Исидор чувствует нестыковку, но ничего не может с этим поделать. Получается, что Кировский в Москве? Получается так; это не критично. Вера сидит, да, положив руки на колени. Глаза ее отражают свет софитов. Напоминает египетскую статуэтку, и в лице ее – что-то древнее. Исидор касается губами ее щеки, она кладет голову ему на плечо. Сжимает его ладонь. Сдержанное непонимание сзади. Так они сидят до антракта. В антракте пьют, стало быть, ситро.
У Исидора появляется новая манера письма: он следует ассоциациям. Кто на него повлиял – Вера? Может быть. Но скорее – Спицын, который тщательно исследует чагинские ассоциации. Они – проявление того странного свойства, о котором пишет Спицын: сходные обстоятельства переводят воспоминания Исидора на параллельный путь.
– Почему так получается? – спрашивает Чагин у Спицына.
– Это свойство человеческой памяти, – отвечает Спицын. – Просто у вас оно выражено острее, чем у других. По большому счету, это отражает связанность всего на свете, потому что мир Божий – един.
Мир Божий, – записывает в Дневнике Исидор. Потом еще раз на полях: Мир – Божий.
* * *
Кто первым начал разговор о Дефо? Видимо, Чагин. Чем-то Дефо напомнил ему Шлимана.
– Чем же? – спросил его Вельский.
– В жизни обоих реальность часто оказывается вымыслом.
– Причины – разные, – сказал, подумав, Вельский. – Шлиман был романтиком, а Дефо им не был.
Дефо посвятили отдельное заседание Шлимановского кружка. Дефо – фигура сомнительная, доносчик и интриган. Стоял у истоков политического сыска.
Вера тогда спросила:
– Как же он смог написать «Робинзона Крузо»?
– В каждом человеке есть что-то хорошее, – ответил Вельский. – Всё лучшее, что было в Дефо, он поместил в свой роман. Любое творчество – это своего рода оправдание.
– Как роман может оправдать интриги?
– Может, – неожиданно сказал Альберт.
Вельский предложил присутствующим разделиться на прокуроров и адвокатов. Адвокатом Дефо выступала Ляля.
– Дефо утверждал, что всегда поступал в соответствии со своими убеждениями, – сказала она. – И у нас нет оснований ему не верить.
Вера засмеялась:
– К сожалению, его убеждения постоянно менялись. Часто – на противоположные.
– Человеку свойственно идти вперед, – возразил Альберт.
– А потом назад, – Вера снова засмеялась.
Принадлежа к религиозному движению диссентеров, Дефо анонимно призывал к расправе с ними (за это он был приговорен к позорному столбу). Несколько раз переходил от тори к вигам и обратно, становясь тайным агентом обеих партий. В постоянном предательстве Дефо Чагину виделось своего рода вдохновение, не имевшее отношения к обычной корысти. Мутная, завораживающая поэзия измены.
В Шлимановском кружке Дефо все-таки оправдали, и главным основанием стал (конечно же) «Робинзон Крузо». Он всё оправдывает.
В тот вечер Исидор с Верой долго гуляли. Вера вернулась к разговору о Дефо:
– Не знаю, что может быть оправданием для интриг и доносов.
Каждое ее слово резало Исидора прямо по сердцу.
Вера остановилась и посмотрела на него.
– Ну, что ты молчишь? Ты не согласен?
– Согласен, – ответил Исидор.
В этот момент он видел свое изрезанное сердце, из которого, как из сжатой пальцами губки, сочилась кровь.
* * *
– А что оправдает нас? – спросил Николай Петрович, выслушав рассказ Чагина о заседании.
– Нам не в чем оправдываться, – отрезал Николай Иванович. – Мы отвечаем за безопасность Городской библиотеки.
Встреча с Николаями Чагина удивила, и прежде всего – Николай Иванович: в нем произошли какие-то изменения. Наряду с эпизодическими матами в речи его мелькнуло два-три выражения, совершенно ему не свойственных. Так, в конце разговора он вдруг сказал Николаю Петровичу:
– Ответьте мне, любезнейший, а что оправдало бы вас? Ну, если бы вы – чисто гипотетически – нуждались в оправдании.
Чисто гипотетически… Голос Николая Ивановича был неожиданно тонок и дрожащ. Николай Петрович бросил на него быстрый взгляд.
– Меня? Что оправдало бы? – Надув щеки, он выдул воздух в несколько приемов. – Резьба по дереву. Вырезаю наличники, иногда – маски. – Он посмотрел на Исидора. – Знаете, африканские такие маски? Вот их я и режу.
Николай Иванович хмуро кивнул и попрощался.
Дождавшись, когда тот скроется за поворотом, Николай Петрович сказал:
– В моем добровольном помощнике появилась какая-то странность. Я объясняю это ударом о ступеньку.
Подумав, добавил:
– А может, это влияние библиотеки? Он говорит, что стал читать книги.
Они двинулись в сторону метро «Василеостровская». На углу Среднего проспекта и 2-й линии Николай Петрович сказал:
– Здесь я живу. – Он показал на дом, стоящий в лесах. – Зайдем?
Поколебавшись, Исидор согласился.
Хозяин квартиры жил один. Всюду, включая коридор, вдоль стен размещались стеллажи, на которых были расставлены предметы, призванные Николая Петровича оправдать. В комнате у окна стоял небольшой верстак, возле которого были сложены пилы, лобзики и стамески.
– Сперва я резал наличники, – поделился Николай Петрович. – А потом уж как-то пришел к маскам.
Знатоком масок Исидор себя не считал, но даже без пояснений было очевидно, что вырезанные им маски – африканские. Всемирная отзывчивость Николая Петровича. Маски не смеялись и не плакали, они выражали какие-то другие чувства. В основном – гнев. Может быть, Николаю Петровичу в жизни не хватало, чтобы его пугали?
В гостях Чагин пробыл недолго. Выпив чаю, он распрощался и ушел. Уже в дверях Николай Петрович подарил ему маску – как показалось Исидору, самую страшную. Придя домой, он поставил ее на стеллаж на уровне лица. В первый же вечер у него и Веры возникло стойкое чувство, что они находятся под ее гневным наблюдением. Конкретных претензий маска не предъявляла, но общий ее настрой был неодобрительным. Подумав, Чагин поставил ее на самую высокую полку, но чувство неуюта исчезло лишь тогда, когда Вера попросила повернуть маску обратной стороной.
Я поднял голову: она там всё еще стояла.
* * *
Для Исидора настали дни величайшего счастья и величайшей муки. Просыпался он раньше Веры и долго смотрел на нее спящую. Здесь у Чагина следует каталог ее родинок и особых примет. На левой руке – прививка от оспы, в правой нижней части живота – шрам после вырезанного аппендицита. Строго говоря, ни то, ни другое особыми приметами не является, особенно прививка. Именно по ней бывшие граждане СССР узнают друг друга на иностранных пляжах.
По вечерам они иногда читали вслух. Начали с «Робинзона Крузо», это было предложение Веры. Чтение и стало главной болью Чагина, ведь на месте Дефо он неизменно представлял себя. Иногда ему снилось, как в течение трех дней он стоит, прикованный к позорному столбу. Таково было наказание Дефо за одну из самых сомнительных его мистификаций. Две соединенные колодки с отверстиями для головы и рук. Все имели право бросить в него чем угодно. И бросали.
В выходные нередко ездили за город. В таких случаях Вера просила Исидора подготовиться и прочитать на природе, запомнив, пару-тройку глав. Она говорила, что это избавляло от необходимости носить с собой книгу. На самом деле (и Чагин это знал) Вера всякий раз наслаждалась его удивительным даром, использовала любой случай, чтобы заставить память Исидора играть новыми красками. Порой ему казалось, что Вера любит не его, а этот дар.
Когда «Робинзона Крузо» дочитали, Чагин вздохнул с облегчением. Следующим чтением – его выбрала опять-таки Вера – стали «Старосветские помещики».
Она тогда сказала:
– Это – повесть о великой любви.
– Ты бы хотела, чтобы у нас была такая? – спросил Исидор.
Вера задумалась.
– Мы – другие, и любовь у нас другая. Я бы хотела, чтобы она была такой же сильной.
* * *
Это место из Дневника я прочитал Нике. Спросил, равняясь на Исидора:
– Что ты думаешь о нашей любви?
– А ты уверен, что у нас – любовь?
Холодный душ. Что тут скажешь – по крайней мере, честно. Я и в самом деле не был уверен, что у нас любовь. А – что? Случайность? Если бы не крыса…
Да, собственно, дело не в крысе. У Ники – трудности, ей нужна поддержка, а я готов поддержку оказать. По большому счету, не такая уж я для Ники находка. Но сейчас мы оказались нужны друг другу.
Протекал своего рода медовый месяц, размеренный и лишенный безумств. Неожиданно для нас состоялось и свадебное путешествие. Это была поездка в Тотьму.
Я уже говорил, что Исидор умер в Тотьме. Приехав в этот городок, снимал комнату. О том, почему он поехал именно туда и что там делал, ничего не известно. О Тотьме вспомнил директор. Он позвонил в тамошний краеведческий музей, и по его просьбе в Тотьме нашли чагинскую квартиру.
Музейные сотрудники встретились с квартирной хозяйкой Исидора. Да, жил у нее Исидор Чагин, а потом умер. По утрам ходил гулять, а днем писал что-то. Тихий такой жилец. Можно сказать, кроткий. Остались ли от Чагина какие-то бумаги? Да, остались. Что бы она сказала, если бы приехал сотрудник Архива и посмотрел их? Сказала бы: пусть смотрит.
Отправляя меня в командировку, директор был краток:
– Поживете в монастыре – сейчас это гостиница музея. Желаю вам плодотворного отшельничества.
– Если не возражаете, я поеду не один.
– Не возражаю, – ответил директор. – Но вы должны понимать, что так не станете отшельником.
Упущенный шанс. Я изобразил сожаление.
На поезде мы добрались до Вологды. Вагон был полупустым, в купе мы ехали одни. Звенели ложки в стаканах, туда-сюда ездила дверь – из-за неисправного замка она не закрывалась. Я не Исидор, и подробные описания мне даются труднее. Передам лишь общее настроение: было уютно.
На вологодском вокзале мы сели на автобус до Тотьмы. Если мне не изменяет память, ехали четыре часа. В Тотьме нас встретила сотрудница краеведческого музея, отвела в Спасо-Суморин монастырь и вручила изданный музеем путеводитель.
Когда мы разместились, позвонил директор:
– Всё в порядке?
– Нам дали келью на двоих.
– Сомнительное решение, – вздохнул директор. – Остается надеяться, что вы не свернете с правильного пути.
– Это исключается: теперь у нас есть путеводитель.
Перекусив в гостиничном буфете, мы отправились на квартиру Чагина. Хозяйка, Варвара Феодосьевна, по-северному окала:
– Погода кака-то мерзка…
Мерзка. Ветер с мелким дождем.
Она угостила нас чаем.
Варвара Феодосьевна – нос картошкой, коса-плетенка – напоминала какого-то сказочного персонажа. Сколько ей было лет (веков)? Как определить – по годовым кольцам? У фольклорных героев нет возраста.
Она показала нам стопку бумаг на подоконнике:
– Цифра сплошная…
Я стал просматривать записи лист за листом. Сначала это были действительно только колонки цифр. Казалось, Исидор взвешивал возможности своей памяти. Но на листах были и подсчеты. Иногда появлялись слова: «Где гармония чисел? Пока не вижу». Еще: «Сумма цифр – 5 508. Год рождества Христова от Сотворения мира». Судя по отдельным датам, эти бумаги Исидор привез с собой.
Мало-помалу слова вытеснили цифры.
«Дрова в сарае отсырели. Когда горят, на срезе выступает влага. Трещат. Громко».
«Иркутск. В июне цветут тополя, в городе метель. Полез (кто?) на тополь за сережками. Обломилась ветка – упал. Летел с большой высоты, метров, думаю, семь. Приземлился на ноги – сначала на левую, потом на правую. Но человек же не кот, ему лучше не на ноги, а на бок падать. Все к нему бегут, а он: дайте дух перевести. Потом отец его выбежал и стал хлестать по щекам за то, что тот обе ступни раздробил».
«Услышал от сотрудницы Архива: ля-ля-тополя. Зачем она это говорит?»
«Ждали с одноклассниками катер. Стояли на причале. Ангара быстрая, водовороты. Меня сзади кто-то толкнул. Не сильно толкнул, я не должен был упасть в воду. Но я стоял задумавшись – и упал. Хотел зацепиться рукой за сваю, но свая скользкая, меня от нее отнесло. А у меня ни руки не двигаются, ни ноги, вода ледяная. Я попал в водоворот. Вот, думаю, как оно в водовороте. Не ожидал, что можно думать, даже когда в водоворот попадаешь. Ушел малость под воду, а потом снова вынырнул. А Валентин Трофимович, наш учитель литературы, не раздеваясь с причала прыгнул и меня за шиворот схватил. Я в него вцепился, а он: не цепляйся, мать твою, оба на дно пойдем. Хорошо, моторка плыла. Нас вытащили, а то уже ни я, ни он руками шевелить не могли. Толкнул меня Беляев, его за это из пионеров исключили. Сказали: ты, Беляев, без пяти минут убийца».
«Обрывки воспоминаний – как куски мяса в бульоне. Бульон – забвение».
Спрашиваю:
– Можно, мы его бумаги возьмем?
– Берите, раз приехали-то.
На следующий день Ника водила меня по Тотьме. Здесь жила ее бабушка, и Нику привозили к ней на лето. Когда бабушка умерла, дом продали. Он до сих пор стоит, и мы к нему подходили. У самых дверей старуха сметала листья.
– Как странно, – Ника взялась за растрескавшиеся доски забора. – Я в этом саду каждую травинку знаю, а тут вдруг чужие люди. Как будто вернулась жизнь спустя.
Старуха с метлой оказалась ведьмой:
– Чего таращитесь? Что ли, цирк?
Я достал из сумки путеводитель.
– Ленина, 15 – верно?
– А то не видишь… – Старуха перестала мести.
– О вас, между прочим, в путеводителе пишут.
Пауза сомнения.
– Врешь небось?
Мой палец заскользил по несуществующим строкам.
– Вот, зачитываю: на Ленина, 15 гостеприимно распахнул свои двери цирк Дю Солей. Глотатели огня, летающие гимнасты и клоуны. Если вы, скажем, глотательница, то где ваш огонь?
Собеседница плюнула на дорожку и погрозила мне метлой.
– Если же – летающая гимнастка, то на чем, спрашивается, вы летаете? – Я показал на метлу. – На этом? А каковы аэродинамические свойства…
– Я здесь жила, – перебила меня Ника.
Старуха мутно на нее посмотрела:
– Ну и что?
– Ничего.
Ника повернулась и пошла прочь. Догнав ее, я ожидал благодарности. Ничего значительного – так, легкого, скажем, поцелуя. Она шла молча, и я спросил ее, случилось ли что-то.
– Случилось. Ты себя вел не очень-то красиво.
– Я?!
– И, знаешь, это было даже не смешно.
Я тоже замолчал. Растя злость, думал о солидарности провинциалов, которая позволяет унижать близкого человека. Мысль показалась мне достойной произнесения.
– В тебе говорит провинциальная солидарность. Ты думаешь…
Ника подошла ко мне вплотную.
– А ты – сноб, понял? Если еще раз… – Ее слова пахли ментолом жевательной резинки. – Если ты еще раз скажешь о солидарности провинциалов, меня больше не увидишь.
Я смотрел на нее, и моя злость переплавлялась во что-то противоположное. Это нарастало и жгло меня изнутри. Я прижался губами к ее виску:
– Я люблю тебя, Ника.
Мои первые слова о любви. В это трудно поверить, но – первые. До Ники я как-то обходился без них. Как? И почему именно здесь всё изменилось?
Мы продолжаем наши прогулки по городу. Храмы Тотьмы – как парусники, их мачты тянутся ввысь. Удивительное тотемское барокко, о нем пишет путеводитель. В отличие от цирка Дю Солей, о котором мне не хочется вспоминать.
Когда-то Тотьма была богатой: здесь варили соль, резервную валюту Средневековья. Как и в Сольвычегодске, откуда родом Ника.
Смотрю на нее:
– Хочешь, заедем в Сольвычегодск?
Пожимает плечами. Вроде как со всеми там простилась – еще два года назад. По лицу Ники разлито спокойствие. Я кладу ей руку на плечо.
– Значит, едем.
* * *
Уже в автобусе она спросила, в качестве кого я еду – жениха? Мужа? Друг в Сольвычегодске не проходит.
– Мужа, конечно.
Ника засмеялась.
– Ты серьезно?
Я коснулся губами ее лба.
– Очень.
По дороге я думал о том, как встретят нас родители Ники. Как вообще можно встретить дочь после двух лет отсутствия сведений о ней.
– Как зовут твоих родителей?
– Мать – Лариса Федоровна, отца нет. Вообще-то его звали Сергей Степанович.
– Умер?
– Ушел.
Куда ушел Сергей Степанович, не знал никто.
От автостанции добирались пешком. За одним из поворотов внезапно вынырнул дом Ники – деревянный, одноэтажный, окруженный забором. Ника пошарила рукой с внутренней стороны калитки и откинула крючок. В дверь дома она стучать не стала – просто открыла, и мы вошли.
Мать Ники встретила нас без волнения. Это было то особенное спокойствие, которое я иногда замечал и в Нике. Они, что ли, все на Севере такие? Приехала – хорошо. Не приехала бы – тоже терпимо. Я не оправдывал Никиного молчания, но теперь, по крайней мере, оно было мне понятно.
Лариса Федоровна ни о чем не расспрашивала, а Ника ничего не объясняла. Спросила только о братьях: два старших куда-то переехали (куда – непонятно), а пятнадцатилетний Вася жил с матерью. Вася – единственный, о ком имелись достоверные сведения – был на рыбалке. Вернулся с несколькими окунями.
– Вы окуней едите? – спросила меня Лариса Федоровна.
– Ем.
Кажется, это был единственный ее прямой вопрос ко мне. И мой прямой ответ.
Васю наш приезд тоже не удивил. Нам он был рад, но радость свою обнаруживал с достоинством.
На следующий день пришло несколько родственников, и мы отметили наше знакомство. Я вышел в магазин, купил водки и вина. Кое-что Ника с матерью приготовили, а родственники принесли в кастрюлях салаты. Входя, они говорили: «С законным браком!» Нам был вручен конверт с небольшой суммой денег, а тетя Ники подарила пару хрустальных лебедей.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































