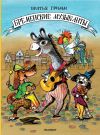Читать книгу "Таинства и обыкновения. Проза по случаю"

Автор книги: Фланнери О'Коннор
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
– И как они на вкус? – спросила я, многозначительно оглядев парочку живых павлинов, слушающих наш диалог.
– Та же курятина, – ответил дядька. – Но есть их приятнее, чем слушать.
Глядя на павлина, я пробовала представить, что он у меня всего один, но рядом пристраивается второй, другой слетает с крыши, ещё пятеро несутся, вытаптывая посаженный вдоль ограды дербенник. Какой‐то павлин орёт на пруду, а молочник в амбаре бранит того, который позарился на коровий корм. «Справимся» – утешаю я моих близких.
Мне не по нраву подолгу думать о чём‐то неприятном. Но временами непреложные факты, как то: стоимость проволоки, дороговизна корма и ежегодный прирост павлиньего поголовья не выходят у меня из головы. С недавних пор я вижу тот же сон: мне в нём пять лет и у меня есть павлин. Приезжает фотограф из НьюЙорка, и накрыт праздничный стол. Коронное блюдо приготовлено из меня. «Хелп! Хелп!», кричу я, и просыпаюсь, пока не разрезали. И изо всех «павлиньих» мест – пруда, амбара и деревьев, на мой вопль дружно откликается птичий хор:
Ли-йон, ли-йон, Ми-йон, ми-йон!
И-ау, и-ау! И-ау, и-ау!
Меня по доброй воле с этого не сдвинешь – павлинам надо плодиться. Потому что, я это твёрдо знаю, – последнее слово будет за ними.
Писатель и его родина

Среди уймы упрёков, адресуемых современным американским прозаикам, громогласнее всех звучит такой (даже если он и не умнее остальных): обвинение в отказе говорить от имени своей страны. «Кто сегодня говорит за всю Америку?» – вопрошает недавняя передовица в журнале «Лайф». Сделать вывод, что наши писатели, по крайней мере, наиболее одарённые, за неё говорят, у журнала не получилось.
«Цимес» данной публикации – вот уже десять лет наша страна наслаждается беспрецедентным процветанием, опережая другие государства в построении бесклассового общества, а её литераторы продолжают писать так, словно живут в коробках на краю свалки, дожидаясь приёма в богадельню. От нас же в редакторской статье требуют показывать реальные достижения страны и (в заключении в ней незаметно появляются патетические нотки) просят от художника явить «искупительность духовной цели». Мол, ничего так не хватает нашей «тепличной литературе», как «радости жизни, как таковой».
Cказанное в статье вызвало сильное раздражение у многих критиков, спровоцировав ряд ответов, но ни один из известных мне откликов, увы, не рассматривает сей вопрос сугубо с позиции автора, небезразличного к христианской вере, которому, не в меньшей степени, чем издателям «Лайфа», интересна «искупительность духовной цели» [9]9
В своих беседах Фланнери О’Коннор неоднократно намекала на этот вызов со стороны редакции «Лайфа». Она утверждала: авторы передовицы никак не могут понять, что акцентирующий духовные ценности писатель может рассматривать американскую реальность в самом чёрном цвете. А тот факт, что мы сегодня сильнейшая и богатейшая держава в мире, не имеет для него ни малейшего смысла. Чем пронзительней свет его веры, тем отчётливей зияют перед ним уродства окружающей жизни. (Прим. переводчика.)
[Закрыть].
И как себе представляет такой писатель свой «родимый край»? Пишущая братия скорее бы использовала выражение свой «мир», но уместен будет и «край». Слово подойдёт даже лучше, и ассоциаций вызовет больше. В нём заключено всё. От «края», описываемого автором сейчас, его родимых мест и его народа, до «края» как той «настоящей родины», которую писатель с христианскими убеждениями считает чем‐то безусловным и непреходящим. Задел охватывается немалый, так что, если речь идёт не о фантастической прозе, то писателю лучше использовать понятие «край» во множественном числе. Задачей же для писателя, придумывающего свои сюжеты, является объединить всё значения в единую панораму, изобразив конкретные особенности тамошней жизни в правдоподобном для читателя виде.
Немалую роль здесь играет призвание, отбирающее материал: даже тот, который автор может мысленно охватить силой воображения. Писатель свободен в выборе сюжета, но ему не позволено наделять жизнью кого попало. И если речь идёт о писательстве, то живой калека в качестве действующего лица подойдёт, а покойник, у которого всё на месте, нет.
Как никто другой, писатель‐христианин сознаёт, что его дар, каков ни есть, угодил к нему от Бога, и при всей скромности своего дарования он не станет его губить, злоупотребляя им сверх положенной меры.
В самом беспристрастном смысле таких писателей интересует, конечно же, мир, окружающий его непосредственно, а то и вовсе некое место, чьи нравы и обычаи знакомы ему достаточно хорошо, чтобы он с ними работал. Часто утверждается, что несколько вперёд тут ушли южане. Большинству современных читателей порядком опротивели разговоры о южных писателях и литературе Юга, которую многие обозреватели так настойчиво именуют «южной школой». Правда, никто пока не дал ясного ответа, что это за школа и какие авторы к ней относятся. Когда «южная школа» звучит как нечто донельзя добропорядочное, возникает ощущение, что под ней имеют в виду грядку «аграриев», расцветшую в двадцатых годах при университете Вандербилта[10]10
«Южные аграрии» – действовавшая в университете Вандербилта (Нэшвилл, штат Теннесси) на юге США группа литераторовпредставителей «Южного Ренессанса», авторов манифеста «Буду стоять на своём: Юг и аграрная (сельская) традиция» (1930). Ведущими фигурами среди аграриев были Джон Рэнсом (1888–1974) и Роберт Уоррен (1905–1989).*
[Закрыть]. Но куда чаще этим термином призывается, как заклятием, готическая жуть и болезненный интерес ко всему безобразному и гротескному. По‐моему, большинство моих пишущих земляков принято рассматривать как неудачную помесь Эрскина Колдуэлла [11]11
Эрскин Колдуэлл (1903–1989) – американский писатель‐реалист, родом с юга США, много переводившийся в советский период.*
[Закрыть] с Эдгаром По [12]12
Эдгар По (1809–1849) – американский писатель‐романтик, творивший в жанре «психологической прозы», автор «готических» рассказов.*
[Закрыть].
Как минимум, всем нам, южанам, положено терзаться. Авторы спорной передовицы усматривают причину терзаний в нашей изолированности от остальной Америки. Для многих пишущих южан это, несомненно, что‐то новенькое. Причина скорби, которую немало из нас когда‐то блюли, отнюдь не отчуждённость Юга, а наоборот, недостаточная обособленность от остальной страны, в связи с чем мы с каждым днём всё больше становимся такими как все, избавляясь не только от уймы пороков, но и от немногих добродетелей. Может, оно и не грешное, но всё‐таки терзание.
Манеры и обыкновения так важны для писателя, что ему пойдут любые. Дурные черты – лучше, чем совсем никаких. Мы теряем устоявшиеся привычки, мы постоянно думаем об утраченном, а это, как мне кажется, главный стимул литературного творчества. Писателейдилетантов на Юге больше, чем рек и ручьев. Увлечённому этим родом деятельности незачем уповать на талант. В любой деревушке найдётся хотя бы одна дама, сочиняющая саги на негритянском диалекте. А может и пара‐тройка пожилых джентльменов, у которых на подходе невероятный исторический роман.
Леса тут кишат «местными» литераторами, и для серьёзного сочинителя нет ничего ужаснее, чем пополнить их ряды.
Да он и сам понимает, что единственный способ не стать одним из них, это самоконтроль и соблюдение наших суровых, но дряхлеющих обычаев в свете крайней важности этого дела. А другие заявят, что проклятия регионалов якобы можно избежать, расширив границы самого «региона». Не пиши, как южанин – пиши, как американец. Будь выразителем бескрайних просторов великой страны, которая «переживает беспрецедентное процветание», является «сильнейшей державой в мире» и «почти построила бесклассовое общество». Ну и как тут, лицом к лицу со всем этим преуспеянием и мощью страны без классовых барьеров, можно честному человеку описывать что‐либо, кроме простой радости бытия?
И с этого места писатель христианских убеждений, равно как и тот, у кого они иные, задумывается: а нет ли некой уродливой взаимосвязи между беспрецедентным процветанием и назойливостью запроса на литературу, являющую «радость жизни»? Нельзя ли писателю хотя бы спросить, почему её требуют так истерично, если этой самой радости и без того больше, чем надо в нашей цветущей стране?
Для писателя‐христианина очевидно, что глубинное проникновение в суть дела уже подразумевает нравственную оценку. Когда нам предлагают отображать действительность по данным опросов, то просят таинства отделить от привычек, а видимое – от ви́дения нравственного. Чтобы угостить читателя чем‐то, что его нынешним нравам придётся больше по вкусу.
Нам предлагают регулировать нашу совесть сообразно статистике, то есть, возводя относительное в абсолют. Многим оно, может статься, и «по мерке», при дефиците твёрдой веры в наш век, но для писателякатолика такой «удобной мерки» не бывает и быть не может. Он догадается, что хроническое угодничество приведёт к тому, что у него из‐под пера польётся хлипкое, бесформенное и сентиментальное чтиво, дающее чувство духовной цели для тех, у кого к «духу» примешивается нечто романтическое, и видимость радости для тех, кто не отличает целомудрие от наслаждения. Сочинитель имеет дело с тем, что есть. Но когда то, что собственно есть, определяют данные социологического опроса, адепты Гэллапа[13]13
Джордж Гэллап (1901–1994) – американский журналист и психолог, создатель и популяризатор методики опросов общественного мнения (первоначально в маркетологических целях), основатель Американского института общественного мнения (1935).*
[Закрыть] и Кинси [14]14
Альфред Кинси (1894–1956) – американский биолог и сексолог, составитель «отчётов Кинси» (1948–1953), получивших скандальную известность после публикации – материалов, которые на основе анонимных опросов описывали многообразие (в том числе «девиантное») сексуального опыта человека.*
[Закрыть] могут спать спокойно.
В самых значительных образцах прозы нравственное чувство автора совпадает с его ощущением драматургии, и я не знаю, как этого добиться, если частью авторского видения не является его нравственное мерило, которым он волен распоряжаться. Мне доводилось слышать, будто христианское вероучение препятствует полёту фантазии, но я на собственном опыте убедилась, насколько это далеко от истины. На самом деле оно раскрепощает нашу наблюдательность. Не будучи сводом правил, определяющих, что именно нам следует замечать в окружающем мире. В авторском стиле оно оставляет, главным образом, следующий след – почтительное отношение к таинству.
«Я пишу про загнивающий холм, потому что презираю гниль», – заявляет Уиндем Льюис в предисловии к сборнику «Гниющий холм» [15]15
Уиндэм Льюис (1882–1957) – английский художник и писатель, теоретик «вортицизма», ставшего ответом на манифесты футуристов.*
[Закрыть]. Современные авторы пишут про гниль, потому что она им нравится, гласит расхожее обвинение. Кому‐то, судя по их сочинениям, она действительно по душе, но невозможно не поверить, что кое‐кто пишет о ней, потому что умеет её опознавать такой гнилой, как она есть.
Уместно спросить, отчего же при такой нехватке духовных целей и радостей жизни в нынешней литературе самыми правдивыми кажутся истории, где «радости» маловато? Адресуя сей вопрос в первую очередь своей собственной совести, я замечаю, что рассказы, написанные мной, в основном о людях неимущих, морально и физически искалеченных, о тех, чьи духовные интересы убоги или, как минимум, изувечены, а поступки не особенно убеждают читателя в том, что они наслаждаются жизнью.
Как же так? Ведь я не отвергаю существование духовной цели, и вера моя вполне конкретна. Я смотрю на это с позиции христианского вероучения, означающей для меня, что средоточием смысла жизни является искупление всех наших грехов Спасителем, и всё, что я вижу в мире, соотносится с этим положением. Не верю, что такая позиция может быть половинчатой, равно как и в то, что так уж просто сделать, чтобы в современной прозе она явно сквозила.
Увлечение южан гротеском кое‐кто неодобрительно приписывает их особой фантазии, развитию которой способствуют реалии Юга. У меня есть парочка рассказов, где ни один персонаж не показан причудливо, но при этом читатель не с Юга моментально заклеймил их как нечто уродливо‐карикатурное. Мне трудно поверить, что люди без обиняков ведут себя с нами подобным образом только в одном. С недавних пор пишущим южанам приходится подчёркивать, что Элвиса Пресли изобрели не они, и этот молодец сам по себе куда меньший повод для беспокойства, чем его популярность, вышедшая далеко за пределы южных штатов. Сложным может стать как раз найти что‐нибудь точно не-гротескное, руководствуясь при поиске чёткими критерием, что же именно не уродливо и не карикатурно. По моему личному мнению, писатель, который видит мир в свете христианской веры, как никто другой сможет замечать нелепость, патологию и непотребство. В отдельных случаях такие авторы неосознанно заражены нынешним духом манихейства и страдают от нестыковки веры с опытом своей чувственности, но, мне кажется, куда чаще причиной любопытства к извращениям служит разница во взглядах писателя и его аудитории. Искупление лишено смысла, если поводом для него не служит нечто в той обыденной жизни, какую мы ведём, и уже не один век над нашей культурой господствует светский взгляд, будто такие поводы нам ни к чему.
Прозаик христианского толка находит в современной жизни безобразия, отвратительные ему лично, но сложность его дела – это показать их как отклонение от нормы публике, воспринимающей их как норму. Что, в свою очередь, потребует от него довольно жестких средств воздействия на аудиторию, заведомо настроенную враждебно. Когда вы готовы поверить, что читатели разделяют ваши верования, можно немного расслабиться и перевести разговор в нормальное русло, если же вы видите, что они не созрели, придётся сделать картину пугающе ясной. Надо докрикиваться до тугоухих и стращать полуслепых крупными рисунками, внушающими оторопь.
Если художник слова в этом качестве в нашей стране для нас не приемлем, единственно верным ответом на вопрос «Кто же сегодня говорит от имени Америки?» будет: рекламные агентства. Вот уж кому по плечу во всей красе показать и наше беспрецедентное процветание, и наше почти бесклассовое общество, так, чтобы ни у кого язык не повернулся упрекнуть их в неубедительности. Там же, где писателю ещё доверяют, от него не станут домогаться уверений. Те, кто верит в искусство как форму жизни, а не отмирания, мысля самостоятельно, увидят в прочитанном не тех, какими мы должны быть, а таких, какие мы есть в данное время и при данных обстоятельствах. Не ахти какое, но откровение.
Говоря о родине писателя, мы склонны забывать, что где бы именно ни располагалась его «страна», она в той же мере окружает писателя, в какой находится в его душе. Искусство требует тонкой корректировки внутренних и внешних миров так, чтобы они просвечивали друг сквозь друга без искажений. Познать себя означает познать своё место. И весь остальной мир в придачу, которым ты, как ни чуднÓ это звучит, туда и сослан. Писатель падает в цене и для себя, и для страны, как только перестаёт видеть в ней частицу самого себя, а познать себя – это ведь, в первую очередь, знать, чего тебе мало. Себя соизмерять с истиной, а не наоборот. Первый плод самопознания – смирение, не самая заметная черта любого национального характера.
Святой Кирилл Иерусалимский в назидание «оглашённым» писал: «Змей при пути стережёт мимоходящих, смотри, чтобы не уязвил тебя неверием. Он видит столь много спасаемых и "ищет, кого поглотить" (1‐е Петра 5:8). К Отцу духов ты входишь, но проходишь мимо этого змея. Как же тебе пройти мимо него? <…> Чтобы, если и уязвит, не потерпеть вреда» [16]16
Отрывок из «Предогласительного поучения» раннехристианского богослова IV в., Кирилла, епископа Иерусалимского, приведён по изданию 1822 г., подготовленному Ярославской духовной семинарией. «Оглашённые» (катехумены) – те, кто могут слушать церковные службы и проповеди, но сами ещё не приняли крещение.*
[Закрыть].
Чей бы облик ни принял этот змей, темой всех повествований, как бы ни был глубок их смысл, будет: как пройти мимо и не угодить ему в пасть. И если истории только об этом, то в любую эпоху и в любом краю, чтобы выслушать рассказчика, не отвернувшись от него, нужно немалое мужество.
Гротеск в южной прозе

Единственно ценное, я так думаю, что можно узнать из писательских речей – что именно авторы видели своими глазами, а о чём знают чисто теоретически. Литературные вопросы я решаю совсем в стиле слепой экономки доктора Джонсона, которая наливала чай, опустив в чашку палец [17]17
Поэтесса Анна Уильямс (1706–1783), частично ослепшая на оба глаза из‐за катаракты, с 1748 г. и до смерти жила на правах экономки в доме английского литератора Сэмюэля Джонсона (1709–1784).*
[Закрыть].
Не те сейчас времена, чтобы наши писатели превозносили друг друга. Такие водились в двадцатые годы при университете Вандербилта, и степень идейного сродства позволяла им публиковать коллективные памфлеты типа: «На том стою»[18]18
См. наше примечание о «южных аграриях» и их манифесте, в начале предыдущего эссе.*
[Закрыть]. В тридцатых тоже встречались авторы «из одной шеренги», что помогало им идти «плечом к плечу», не особо разбредаясь. Но сегодня нет приличных авторов, сплочённых даже некрепкими «узами» и дерзающих заявить, мол, мы говорим от имени поколения, или хоть бы друг за друга. Нынешний писатель говорит строго от своего имени, даже если и сомневается в глубине души, даёт ли ему право на это качество его прозы.
По‐моему, любой автор, описывая свой подход к сочинительству, лелеет надежду показать всем, что, по сути, он отъявленный «реалист», что не так‐то просто для тех из нашей братии, кому обыденные стороны повседневности не особо интересны. Мне стало ясно – если чей‐то персонаж не соответствует образу обычного молодого американца, или даже обычного американского злоумышленника, то, автор, потрудись объяснить, зачем ты его воплотил в книге!
Первым делом писателю придётся давать пояснения по поводу того, чего он не совершал. Ибо даже если сегодня в Америке не заметно литературных школ, кто‐то из критиков придумает таковую на ходу, только чтобы причислить к ней автора. А если вы к тому же и южанин, этот, отягчённый кривотолками ярлык вам приклеят сразу, и придётся избавляться от него, как – сам знаешь. Как я поняла, не важно, для чего вы переносите действие на Юг, в глазах читательской массы вы так и останетесь его бытописателем, о котором судят по тому, насколько его писания соответствуют реалиям тамошней жизни.
Я сто раз подчёркивала, что Джорджия живёт совсем не так, как это показано у меня, по ней не бродят, вырезая целые семьи, беглые каторжники, а продавцы Библий не шныряют в поисках девиц на костылях.
Обществоведение крайне пагубно влияет на отношение народа к беллетристике. Когда я только начинала писать, олицетворением моих личных кошмаров была мифическая «Южная Школа Дегенератов». Всякий раз, когда при мне упоминали эту организацию, я чувствовала себя Кроликом, когда тот прилип к Смоляному Чучелку [19]19
Из сборника Джоэля Харриса (1848–1908) «Сказки дядюшки Римуса» (1881), по мотивам афроамериканского фольклора. Смоляное чучелко было приманкой для братца Кролика.*
[Закрыть]. Когда‐то простые люди вычитывали в книге мораль, и какою бы ни наивной была эта цель, нынешние суррогаты «морали» ещё мельче. По общему мнению, современный роман всецело обращается вокруг общественно‐экономических и психологических сдвигов, которые в нём обязательно надо выразить, или обыденных мелочей, хорошему романисту нужных, лишь для того, чтобы подобраться к чему‐то более сокровенному.
Готорн сознавал свои проблемы и, возможно, предвидел наши, называя себя не романистом, а романтиком [20]20
Отсылка к авторскому предисловию американского писателя Натаниэля Готорна (1804–1864) к роману «Дом о семи фронтонах» (1851), где проводится различие между романом «бытописательным» (novel) и романом «героическим» или «романтическим (romance): «Когда автор называет свою работу романом романтическим (romance), едва ли надо обращать внимание на то, что он хочет притязать на известную широту, как в отделке его, так и в материале. На неё он едва ли чувствовал бы себя обязанным претендовать, если бы признавался, что пишет роман бытописательный. Этот самый, второй род сочинения, как предполагается, нацелен на доскональную достоверность – в отношении не только возможного, но и правдоподобного хода событий в людской жизни» (пер. наш). Свои романы Готорн именовал не novel, а romance.*
[Закрыть]. Сегодня большинством читателей и критиков установлен единый стандарт «правоверного» романа. Таким подавай реализм факта – в конце концов, скорее не расширяющий, а сужающий горизонты повествования. Единственной приемлемой темой для «значительного» романа этим господам представляется нечто «типичное» – борьба общественных сил, изображаемая так, как оно выглядит и происходит на самом деле. К «характерному» прилагается оптовый обзор тех сторон жизни, о которых романисты викторианской эпохи не могли говорить открытым текстом. Права отделаться от рамок «приличия» писатели добивались на протяжении пяти, а то шести десятилетий. Спору нет, снятие запретов открыло массу возможностей для самовыражения в прозе, но за ним для культуры всегда наступает чёрный день, как только подобные вольности становятся нормой. У писателя нет иных прав, кроме тех, что он вырабатывает сам для себя в творческом процессе. На нас обрушивается девятый вал жалкой писанины, взращённой на дармовых послаблениях. И на том мнении, что вымысел обязан отображать «типичное», а более глубокие методы реализма всё менее доступны пониманию читательской массы.
Автору, пишущему в условных рамках романтического модерна, не обязательно соблюдать каноны ортодоксальной романистики, но пока в написанном им пульсирует жизнь и действуют живые люди, каким бы эксцентричным ни казалось их поведение рядовому читателю, с ними приходится считаться, принимая их правила игры.
Когда разбирают характерные черты современной серьёзной прозы, особенно «южан», часто звучит, причём в уничижительном смысле, слово «гротеск». Ясное дело, давно выяснилось, что северный читатель видит гротеск в каждой вещи южанина, а если он его не видит, тогда это будет реализм. Однако на сей раз мы отбросим сомнительные ярлыки и обратимся к прозе, которую можно назвать гротескной по веским причинам, хотя бы потому, что в это русло её направила воля её автора.
В таких гротескных картинах автор живо изображает ситуации, с которыми в повседневной жизни мы сталкиваемся крайне редко, а рядовой читатель и вовсе ни разу в жизни. Мы обнаруживаем, что он, игнорируя привычные нам, ожидаемые правила реализма, разрушает их взаимосвязь, видим диковинные скачки и пустоты, которым бы не позволил зиять любой рядовой бытописатель. И тем не менее его персонажи сохраняют внутреннюю согласованность даже в отрыве от своего общественного окружения. Вымышленные свойства этих людей уходят от типичных для их среды шаблонов поведения в сторону чего‐то таинственного и неожиданного. И это как раз та форма реализма, с которой мне хотелось бы разобраться.
В сущности, все романисты стремятся описывать то, что есть на самом деле, но «реализм» каждого из них в отдельности зависит от предельной дальновидности при взгляде на действительность, от охвата её крайних рубежей. С каждым веком, начиная с восемнадцатого, общественное мнение всё сильнее тяготело к мысли, будто все загадки и проблемы в конце концов капитулируют перед достижениями науки, и эта идея всё ещё крепко сидит в голове у нынешнего поколения – первого, которое может быть полностью уничтожено как раз благодаря её прогрессу [21]21
Вероятно, отсылка к ставшей актуальной в середине XX в. опасности ядерной войны.*
[Закрыть].
Если романист в ладах с таким умонастроением, если он уверен, что поступки заранее заданы психологической моделью или состоянием экономики, либо ещё каким предопределяющим фактором, тогда его главной заботой будет кропотливое копирование вещей, касающихся человека непосредственно, наряду с теми стихиями, которые, как ему кажется, контролируют его судьбу. Такому автору по плечу трагический натурализм крупной формы, поскольку тщательное рассмотрение того, что он видит, компенсирует его близорукость.
Если же, напротив, писатель считает нашу жизнь, по сути, неким таинством, рассматривая нас как существ, добровольно отвечающих предзаданным «тварным» законам, тогда всё, что автор видит «на поверхности», любопытно ему лишь как препятствие, мешающее ему пробиться к переживанию сокрытого. Работая в таком режиме, он будет неуклонно продвигать грани собственного творчества к порогу неведомого, поскольку для писателя такого склада история начинается «в глубинах», где «адекватной» мотивации и психологии героев уже нет места, как и иным «заданностям» поведения. Такому писателю куда интереснее не то, что нам понятно, а то, чего мы не поймём.
Что могло бы случиться для него куда важнее того, насколько вероятно это было [22]22
Слова possible и probable у Коннор отсылают к пассажу из Готорна (см. прим. выше по тексту) о широких гранях возможного в романе «героического» в ущерб правдоподобию романа «бытописательного».*
[Закрыть]. Ему интересны персонажи, вынужденные реагировать на добро и зло, доверяющиеся тому, что превыше их… Сознают ли они ясно, на что опираются их поступки или нерешительность? В глазах современного человека – и писатель, и его персонаж – два типичных «донкихота», атакующие эфемерные «ветряные мельницы!
Я далека от мысли, что писатель данного типа готов смотреть сквозь пальцы на плоть и кровь мира, потому что таинства интересуют его, мол, в первую очередь. И вымысел и знание жизни имеют общий первоисточник – наши ощущения, от них зависит продуктивность каждого сочинителя. И всё‐таки я верю, что описываемый мною автор станет препарировать зримый и чёткий материал безогляднее. Вплоть до очевидного искажения на свой лад.
Генри Джеймс говорил, что Конрад трудился в своей прозе над тем, что требует самой тщательной отделки [23]23
Слова из эссе «Новый роман» (1914) американского писателя, большую часть жизни прожившего во Франции и Англии, Генри Джеймса (1843–1916), о модернистском романе «Случай» (1913) английского писателя Джозефа Конрада (1857–1924): «Он единственный дал обет работать над произведением так, что оно пройдёт самую тщательную отделку» (a votary of the way to do a thing that shall make it undergo the most doing).*
[Закрыть]. Тот, кто пишет в «гротесковой» манере, трудится далеко не столь «тщательно», памятуя, как велика отдалённость того, чем он занят, от «действительности». Он занят поиском единого образа, который свяжет, объединит или воплотит в себе два предмета, один из которых зримо реален, а другой не видно невооружённым глазом. Но автор твёрдо верит и во второй предмет, который для него так же реален, как и тот, что стоит у всех на виду.
Нет нужды подчёркивать, что такая проза будет выглядеть диковато, что ей придётся стать откровенно комичной в силу несуразностей, которые она силится собрать воедино.
Даже герои гротескной прозы не кажутся её автору безобразнее обычных подонков общества, они могут показаться таковыми читающей публике, которая попросит, а то и потребует объяснить причину, по какой он выпускает на свет таких моральных калек. Томас Манн считает гротеск жанром поистине анти‐буржуазным [24]24
Из эссе немецкого писателя Томаса Манна (1879–1955) о повести Джозефа Конрада (см. пред. прим.) «Тайный агент» (1907).*
[Закрыть], однако я уверена, что у американского читателя получилось ассоциировать гротеск c «сентиментальностью», раз, отзываясь о нём положительно, он, похоже, увязывает его с сочувствием автора своим персонажам.
В наши дни абсолютно необходимым для писателя атрибутом считается его готовность «сострадать». Само это слово складно звучит в чьих угодно устах, и ни одна аннотация на обложке без него не обходится. Раз понятие это никем не «осязаемое», им может спокойно пользоваться каждый. В моём понимании обычно под «сострадать» имеется в виду, что писателю надлежит прощать любые человеческие слабости, раз они человеческие. Расплывчатые контуры такой снисходительности заметно затрудняют неприятие автора чего бы то ни было. Ясно дело – когда гротеск уместен и оправдан, скрытые в нём смысловые и моральные оценки возьмут верх над эмоциями.
В американской словесности девятнадцатого века по большей части «поставщиком» гротеска служила литературная «окраина», чьи нравы смешили жителей «столичных». Однако наши теперешние гротескные герои, при всём их невольном комизме, не замышлялись таковыми, по крайней мере изначально. Над ними словно довлеет невидимое бремя. Их одержимость – уже не их «чуднÓе», а порицаемое. Убеждена, что их пророческий кругозор отражает позицию авторов, которых волнуют вопросы, описанные мною выше. Пророческий дар писателя состоит в том, чтобы видеть, куда тянутся нити от предметов в поле его зрения, и новые смыслы позволяют видеть много дальше. Прозорливец является реалистом на большой дистанции, и в лучших образцах современного гротеска вы обнаружите именно такой, дальновидный реализм.
Всякий раз, когда меня спрашивают о пристрастии южных писателей к «фрикам», я говорю – потому, что мы ещё не разучились их замечать. Чтобы распознать кого‐то ненормального, нужно иметь представление о полноценном человеке, которое для большинства южан по‐прежнему является богословской категорией. Да, такое обобщение опасно делать, и почти всякое мнение о взглядах южан можно столь же обоснованно тут же опровергнуть. Сужу с писательской позиции, и думаю, можно смело сказать – Юг, хотя и едва ли богопомазан, определённо в массе своей богопомешан. Если южанин и не уверен в этом до конца, то мысль о том, что и он создан Господом по образу и подобию, всё равно его немало страшит. Призраки тут бывают суровы и поучительны. Они отбрасывают причудливые тени с книжных страниц. В любом случае, только когда нелепое создание воспринимается как олицетворение того, что «свернули не туда», наш автор прочно утвердился в литературе.
Юг богат хорошими писателями, и это ещё один довод в пользу нашей склонности к несусветному. По‐моему, сигналом к действию писателю служит сочиняемое, а не совершаемое другими. Если твои коллеги так дружно эксплуатируют одну и ту же идиому в одной социальной среде, обособленному автору следует соблюдать предельную осторожность, чтобы не создать скверную копию того, с чем уже разобрались до него. Присутствие среди нас одного только Фолкнера [25]25
Уильям Фолкнер (1897–1962) – американский писатель, уроженец города Нью‐Олбани в штате Миссисипи на юге США.*
[Закрыть] делает непроходимой границу между тем что можно и чего нельзя. Никто не хочет, чтобы его повозка вместе с мулом застряла на рельсах, где мчит курьерский поезд из Чикаго во Флориду [26]26
Эта цитата из книги О’Коннор с упоминанием пассажирского поезда Dixie Flyer, который курсировал в 1892–1965 гг. по маршруту от Чикаго до Флориды, стала названием труда о «Южном Ренессансе» американского литературоведа Джозефа Милличэпа: Millichap J. R. Railroads, Culture and Southern Renaissance. Lexington: University Press of Kentucky, 2002.*
[Закрыть].
Пишущего южанина всё и вся подталкивают к тому, что бы он смотрел глубже и дальше простых проблем, пока его взор не коснётся обители пророков и поэтов. Говоря, что он пишет романы «романтические», Готорн на самом деле пытался вызволить прозу из тенет социальной зашоренности, развернув её в сторону поэзии. Сдаётся мне, сумрачный романтизм «на отшибе» сросся тут с традицией комического гротеска, и с тем, чему научил наших писателей натурализм. Получилось отсрочить хотя бы ненадолго мутацию южной прозы в то, что имел в виду мистер Ван Вик Брукс [27]27
Ван Вик Брукс (1886–1963) – американский литературный критик.*
[Закрыть], мечтая о новой эпохе, когда, соединив местечковую тематику с технической сноровкой, почерпнутой от «новых критиков» южной школы, литература благодаря «магистральной» линии вернёт себе статус духовного пастыря и отражения общественной жизни.
У автора, описываемого мной, литература, отражающая общество, не годится на роль морального лидера. А если у него и получится искусно стать и мерилом и «зерцалом» общества, то придётся прибегнуть к более решительным средствам воздействия, нежели обывательщина и чисто техническая ловкость приёмов.
Мы с вами живём не в те времена, когда реализм, работающий «на дальних дистанциях» [28]28
См. пассаж О’Коннор о «возможном» и «правдоподобном» как символах «реализма» двух родов, выше по тексту. Под «реалистом на больших дистанциях», вероятно, имеется в виду писатель‐романтик, работающий с «возможным».*
[Закрыть], понимают и хвалят, даже если он продолжает «генеральную линию» американской словесности. Как только читатель подаёт голос, он требует произведений сбалансированных, способных хоть как‐то выправить увечья нашего времени. Во имя общественного спокойствия, либеральных, а порой и христианских идеалов, литературу делают служанкой своей эпохи.
В этой роли она напоминает мне носильщика‐негра, грохнувшего несессер Генри Джеймса прямо в лужу на выходе из гостиницы в Чарльстоне [29]29
Эпизод из путевого дневника Генри Джеймса (см. прим. выше) «Сцены американской жизни» (1907). Джеймс отзывался о юге США критически, как о крае «не вполне изжитого рабства».*
[Закрыть]. Писателю потом пришлось всю дорогу в переполненном дилижансе держать испачканную сумку на коленях. Раздосадованный качеством южного сервиса, бедный Джеймс потом писал, мол, наша челядь и вовсе не годна для бытовых услуг от природы. Кто угодно на свете, лишь бы не она. Та же история и с писателем. В должности лакея он будет ставить господский багаж только в лужу.
Романиста характеризует не то, как он «обслужил», а то, как он увидел, и нам нельзя забывать, что ему это надо ещё и передать, а читательская слепота и ограниченность определённо не дадут показать увиденное им во всей полноте. И это ещё одна из причин, усугубляющих тенденцию к гротеску в беллетристике. Писатели, говорящие от имени и в унисон своей эпохи, имеют куда больше удобств и поблажек, нежели те, кто противоречит главенствующим взглядам. Усталому человеку, придя домой вечером, хочется почитать что‐то духоподъёмное, просвещает меня в письме одна пожилая леди из Калифорнии. Чего, похоже, не случилось при знакомстве с любыми моими сочинениями. «Дух» у неё не на том месте, поэтому и не «поднялся», вот что я думаю.
Серьёзному автору нет дела до читателя‐нытика, скажете вы. Но дело‐то есть, потому что ноют они все. Одна старушка, которой не хватает бодрости духа, это ещё ничего, но две сотни с лишком таких старушек – это уже читательский клуб. Когда‐то мне казалось, что можно писать для условной элиты, прошедшей университет и даже выучившейся читать. Потом поняла – публикуйся ты хоть в Botteghe Oscure [30]30
Botteghe Oscure – выходивший в 1948–1960 гг. престижный литературно‐критический журнал на пяти языках, названный в честь улицы «глухих лавок» в центре Рима (via delle Botteghe Oscure), где располагалась его редакция. Главным редактором был Джорджо Бассани (1916–2000). Из американских писателей, не упомянутых О’Коннор, в журнале публиковались: Торнтон Уайлдер, Эдвард Каммингс, Уоллес Стивенс, Уинстен Оден.*
[Закрыть], если рассказы у тебя чего‐то и стоят, рано или поздно получишь письмо от какой‐то старушки из Калифорнии, заключённого федеральной тюрьмы, пациента психбольницы или завсегдатая местной ночлежки, с нытьём – им от тебя мало «позитива».
Они в нём ох как нуждаются. Во всех нас, как в рассказчиках, так и в слушателях, сидит нечто, требующее искупления, шанса снова вознести ввысь тот «дух», который «падает». Нынешний читатель знает, чего ему не хватает, забывая, чего оно может стоить. Его представление о зле либо размыто, либо отсутствует вовсе, чтобы помнить стоимость работ по повторному «вознесению». Читая роман, он жаждет либо поругания чувств, либо «духоподъёмности». Он хочет, чтобы его, как младенца в купель, окунули либо в муляжи клоаки, либо в суррогат невинности.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!